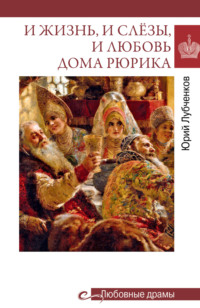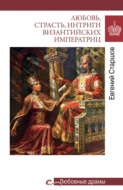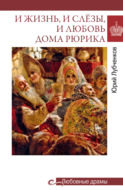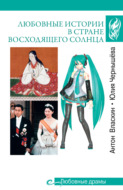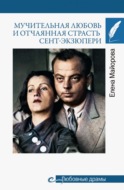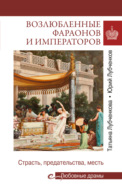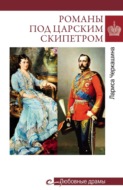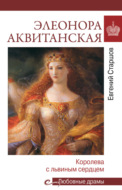Читать книгу: «И жизнь, и слёзы, и любовь дома Рюрика», страница 2
Именно так ученые исследовали ту территорию, где могли впервые появиться славяне, где могло родиться и в дальнейшем родилось Древнерусское государство, и определили, насколько глубоко в прошлое уходит корнями наша славянская история и кто стоял у истоков создания государства, во многие времена бывшего одним из самых больших в мире. Дополнением к археологическим раскопкам жилищ и могил, антропологическому изучению останков древних людей послужила письменная история, весомым, но лишь дополнением, ибо она родилась значительно позже начала событий и могла лишь записывать устные предания, которые, твердо помня названия племен – самое главное, с их точки зрения, зачастую переносили происшедшие события во времени и пространстве: поколение за поколением, повторяя эти предания, кое-что забывали, желая восстановить, добавляли от себя, и так века за веками понемногу менялся смысл, оставляя в неприкосновенности суть. Что некое племя, родоначальник ныне существующего, жило некогда, было бесстрашно и удачливо и завещало своим потомкам нести свою кровь, свою веру в грядущее…

Идолы. Эскиз. Художник Н.К. Рерих
Эта письменная история дала нам наименования всех тех племен, усилием которых и родилась Русь, привычное к тому времени название для всех стран на Востоке и Западе. Ибо это уже была история близкая. Летописи же и подтвердили, что поляне-русь, славянского рода, отличались от иных прочих племен.
Во многом, но не в главном – язык один и племя одно. Так, у иных славян была малая семья, свидетельствующая о главенстве общины территориальной – семья из родителей и детей в состоянии прокормить себя на земле. Было у них и многоженство, при котором, однако, жена не была в полном подчинении у мужа.
Основным методом захоронения было сожжение умершего.
Такого же обычая придерживались и варяги-русь. У полян-руси же все было иначе – они жили большими семьями при кровнородственной общине, имели одну жену и своих покойников хоронили в земле. Кажется, что совсем иной народ. Но точно такие же русы-варяги все делают по-славянски, за плечами же полян, не забудем, предки – скифы-пахари. Приняв власть скифов, славяне – предки полян – примут и их образ жизни, хотя те же кочевники-скотоводы также не чужды многоженству. Тут может быть иное: кровнородственная община полян – не подражание скифам-кочевникам, а попытка не растерять свою самобытность под властью скифских царей, отсюда же и обычай иметь одну жену.
Похоронный же обряд сродни и древнеславянскому, но более тяготеет к кочевникам: в степи достаточно сложно сжигать умерших сородичей – деревьев можно и не напастись.
Ко времени основания Руси подобные процессы происходили во всей Европе – Северной, Центральной, Восточной.
Схожие пути исторического развития многих племен и народов, которые, как и славяне в свое время, выделились из единой индоевропейской общности, определили почти одновременность образования государств у многих народов. Так, в первой половине IX века создается Великоморавское княжество, в середине этого же столетия идет объединение польских племен вокруг двух центров – княжеств вислян и полян (аналогичных восточнославянским Киеву и Новгороду), что во второй половине X века завершится созданием древнепольского государства. В девятом же веке складывается государственность в Хорватии и появляется объединенное англосаксонское королевство – Англия. На рубеже этого и следующего столетий возникнет Чешское княжество, а в следующем, Х веке, – Датское королевство.

Бой славян со скифами. Художник В.М. Васнецов
В эти же годы – в середине IX века – киевские князья Аскольд и Дир, кроме Византии, ходившие походами на Южный Каспий и в дунайскую Болгарию, начинают борьбу с появившимися впервые из восточных степей печенегами. И именуются, также как и их могущественные восточные соседи, каганами, что ни в коей мере не оспаривалось весьма болезненно относящимися к титулатуре соседями. Другие же славяне – с Балтики, с острова Рюген, где было также весьма мощное государственное образование, – имели столь же бесспорно признаваемых всей Европой своих королей. В дальнейшем, после создания Киевской Руси, ее князья всегда будут именоваться согласно западной титулатуре «королями», польские же князья – лишь «герцогами». Каждому воздавалось по заслугам предков и делам его.
Считается, что государство (это понятие включает в себя организацию власти и управление, организацию самого общества, объединение рядом и совместно проживающего населения-народа), как общественная структура, может быть привнесено извне конкретного общества – но тогда оно вряд ли будет прочно, ибо те, кого покорили, естественно, попытаются от подобной опеки избавиться.
Но бывает, что подобная власть порождается внутри самого народного организма, и тогда она будет несравненно более крепка и прочна: это как если веточка на стволе растет из образовавшейся здесь же, на стволе, почки – она дает потом настоящую мощь, тень и защиту самому стволу. Если же к дереву привить черенок, то вырастет ли из него побег, каков он будет и не засохнет ли вообще, сказать сложно.
В Западной Европе в большинстве случаев (и в результате долговременного влияния на ее жизнь Римской империи) государства основывались в результате перемещений-завоеваний различных народов или резкого усиления отдельных родов внутри какого-то племени-победителя. Русь тоже возникнет, по сути дела, из-за усиления влияния и роли двух своих племен – варягов и полян, но она возникнет не в момент общего успеха, а в момент-эпоху общей нужды в этом государстве – из-за внешней опасности с Востока и Юга. Особость власти киевских князей от иных властителей Европы будет видна и в том, что русские князья никогда не будут жить в укрепленных замках, подобных крепостям различных баронов и графов (которые защищали не только от внешнего врага – правда, такого же барона, грозившего не истреблением всего живого, как часто обещала Степь, но лишь выкупом, – но и от своих собственных подданных).
Власть же на Руси не боялась народа – они были здесь своими, природными князьями, защитниками и судьями, князьями по древнему обычаю, придуманному далекими предками живущих, дабы как-то упорядочить и решить хитросплетения все усложняющейся жизни, чтобы было кому защитить народ, который по своему природному естеству любит не воевать, а работать.
Посаженный на власть по обычаю, князь и правил по обычаю, который весьма четко и недвусмысленно определял, где власти есть нужда вмешиваться, а где – нет: владение князя вверенной ему землей не означало, что здесь – его собственность, и здесь – он господин. Скорее, это было формой обязанности, хоть и почетной, и доходной. Обязанности – от слов обязан, долг. Они были призваны следить за порядком и безопасностью, остальная же жизнь шла своим устоявшимся обычаем. Если сравнить общество с величавым зданием, то князь – это кровельщик, призванный следить, чтобы не прохудилась крыша и дождь не попал внутрь хором, должный вызолотить ее – чтобы все видели, что дом прочен и богат, а если нужно – прогнать докучливых ворон и галок, чтобы и они запомнили, и товаркам рассказали: здесь хозяева строгие, нахрапом не возьмешь, хотя, если попросить, то могут и накормить по доброте души. Так будет во времена Киевской Руси – до самого татаро-монгольского потопа. Так было и до ее образования – в веке и десятилетия, предшествующие ее созданию: князьям было поручено общинным миром следить, чтобы земля, их племя процветало, а люди им за умелое и преданное служение оказывали поддержку и почет.
Первым конкретным шагом, приведшим через считаные годы к образованию Русского государства, явилось приглашение новгородцев к себе трех братьев-варягов с Балтики – Рюрика, Синеуса и Трувора. Издавна связанная со славянами Южной Балтики, поскольку в значительной степени была и создана выходцами оттуда, Новгородская земля никогда не прерывала с ними связи и даже платила им дань, как в дальнейшем будут платить поморяне, будущие архангелогородцы, дань-выход самому Новгороду. Даже не дань, а определенный денежный взнос, уплатив который любой человек, поселение, род имели права требовать защиты в случае необходимости и справедливого суда. И который шел на содержание войска и аппарата управления, выгодного и нужного всем, считавшим себя единым народом-племенем, независимо от того, насколько далеко оно живет от князя.
Новгородцы всегда придерживались этого старого обычая. Но в конце 50-х годов IX века, почувствовав свою силу, они, как подросший, но еще не набравшийся достаточно ума сын взбрыкивает против отца, также решили прожить своим умом. И очередную дань-взнос варягам не дали. Те ушли, но Новгородская земля вскоре перессорилась и со своими ближайшими соседями и переругалась внутри себя: все-таки долгая привычка при необходимости обратиться к третьей стороне, равно стоящей на страже справедливости и безопасности, для всех так просто, в один день, не изживается.
Поругавшись, остыли, собрались и стали решать – как же быть и жить дальше. И порешили, что отныне нечего полагаться на далеких защитников-судей. Долго на них полагались, но теперь земля их велика и обильна, и, стало быть, пора заводить и здесь такой же порядок, как у их старших братьев на Балтике. Кого поставить над собой для общего блага, спора не было – конечно тех, кто уже такой опыт имеет, дабы не учился он науке власти за их счет. Так, в 862 году в Новгородскую землю приехали трое варяжских правителей, три брата от корня Гостомысла, старшим из которых был Рюрик, чтобы отныне править-направлять землю Новгородскую, защищать ее – в том числе и от самой себя, когда она, буйная нравом, захочет решить спор не обычаем, но силой.
В самом начале своего владения-служения земле Рюрик сел в Ладоге, земле славян, посадив Синеуса в землях веси на Белоозере, а Трувора – у кривичей в Изборске. Их опыт в науке правления, их дружины, приведенные с собой и набранные из достойнейших уже здесь, на месте, стали залогом спокойствия и процветания северных племен, в том числе и не только славянских.

Призвание варягов. Художник В.М. Васнецов
Главное тут было иное – они приняли все славянскую правду, славянский обычай жить по уму и по сердцу, не искать особливо трепетными руками чужого, стойко защищать свое, кровное.
Работать и жить сообща на благо всех, сеять хлеб, бить зверя и птицу, развивать ремесла. На это последнее особенно обращал внимание славян Рюрик с братьями – городов было еще здесь пока мало, искусные в ремесле люди зачастую работали лишь в свободное от других хозяйственных дел время, в то время как на родине братьев-варягов и у южных славян были уже многие искусные мастеровые. Рюрик велел-советовал рубить по землям племен малые городки, дабы, живя там, самые рукодельные снабжали бы не только себя, но и окружающие эти грады трудом своего мастерства.
Пройдут десятилетия, и слава ильменцев-ремесленников будет греметь далеко за пределами Новгорода, собирая здесь купцов со всех известных и не совсем ведомых стран мира.
Креп Север, все более становясь вровень с Киевом, князей и дружину которых опасались и уважали уже многие, мастеровитостью которого восхищались и завидовали. Каждый начинал кичиться своей значимостью у славянских племен, желать первого места среди всех. Но многие племена не желали видеть над собой иной власти, кроме власти своих князей-старейшин. Да, честь и хвала Киеву, держащему юг, и Новгородской земле Рюрика (вскоре после его приезда с братьями те умрут один за другим, и Рюрик станет властной рукой держать один все северные племена. Все более властной, когда часть новгородцев, недовольная его делами – такие всегда есть, всем не угодишь, – предложит ему вернуться домой, новый князь, выбранный землей, даст им скорый и жестокий ответ. Ибо хотели этого не все, но лишь малое количество – он же обещал защищать всех и защитить не только от внешнего ворога, но и от внутреннего – усобиц), оберегающему мир в начале славянского пути из варяг в греки, но со своими делами они разберутся сами, без них.
Так, Полоцк западных кривичей, послуживший яблоком раздора между Новгородом и Киевом, поводом-проверкой сил целой войны лишь при правнуке Рюрика – Владимире, войдет в состав долгие годы к тому времени существовавшего единого государства – Киевской Руси. Воистину, двум медведям тесно в одной берлоге, а аппетит приходит во время еды. Званный завести порядок на севере, Рюрик ныне хотел дать его всем рядом живущим славянским племенам. Киев же ревновал, видя в своей старине и славе право на подобный дар, но – с юга. И каждый не хотел большой войны, хотя душа постоянно кипела, однако не было такого обычая. Его время еще не настало.
Неизвестно, сколько было у Рюрика жён и детей. Летописи сообщают только об одном сыне – Игоре. По Иоакимовской летописи, Рюрик имел несколько жён, одной из них и матерью Игоря была «урманская» (то есть норвежская) княжна, норманнская королевна Ефанда, ставшая древнерусской княгиней. Кроме Игоря, у Рюрика, возможно, были и другие дети, поскольку в русско-византийском договоре 944 года упомянуты племянники Игоря – Игорь и Акун. Есть версия, что Игорь Младший был от сына Рюрика, а Акун – от дочери. Братом Ефанды был Олег Вещий, всегдашний ближайший сподвижник Рюрика. Именно ему был доверен маленький Игорь, сын Рюрика. Как позднее Владимира воспитает Добрыня, дядя по матери, по многим древним канонам-обычаям находившийся к ребенку ближе, чем отец.
Посреди своего великого дела – собирания Севера – Рюрик умрет в 879 году, оставив на руках брата жены и своего ближайшего воеводы Олега своего малолетнего сына Игоря. Малолетнего, ибо за множеством дел, что свалились на него по приезде в Ильменскую землю, за их тяжестью все недосуг ему было обзаводиться семейством. Так и протянул – оставив сиротой ныне совсем малого отрока. Хорошо, хоть есть Олег – хоть и не молод, но крепок и кряжист, как дуб, опытен и умен, умен не как все, а как жрецы-волхвы, постигающие за внешней стороной события-предмета его суть. Такой будет добрым учителем сыну в науке властвования, сделает из него хорошего правителя, преемника отца.
Умирая, Рюрик не думал уже о Киеве, в мыслях видя сына лишь властителем Новгородчины – ибо был уверен, что после его смерти никто не сможет вместо него наложить на юг руку власти с севера.
Равно был он уверен и в том, что, когда Игорь войдет в возраст, Олег передаст ему престол – таков обычай: дядья по матери пекутся о племянниках, защищая их от притязаний дядей с другой руки – братьев отца. Но иначе думал сам Олег. Может быть, не сразу по смерти Рюрика, но уже вскоре. Выспрашивая купцов славянского рода и прочих племен, приезжавших постоянно с юга на север, некоторым вновь уезжающим в сторону Киева давая тайные наказы порасспрашивать тамошних жителей, он тонким своим разумом осмысливал услышанное и все более и более приходил к одной, первоначально его самого испугавшей мысли, – объединение Новгорода и Киева возможно. И может оно произойти под его властью.
Ибо время громкой славы Аскольда и Дира, некогда избавивших полян от хазарской дани и грозивших Царьграду (до сих пор лишь греческие купцы, приезжавшие к нему, с внутренним содроганием вспоминали 860 год – когда вдоль стен притихшего Константинополя русы несли на вытянутых руках своих товарищей, грозивших грекам обнаженными мечами, иные, и славянские – о сем молчали) прошло.
Дань-выкуп от греков поступала все более скудная и не каждый год. Поляне, освободившись от зависимости Хазарии, не помогли – не захотели, не было сил? – своим соседям: северянам да радимичам. Князья же с избранной дружиной, приняв иную веру, все более спокойным взором смотрели на Киев, находя утешение сердцу в основном в разговорах друг с другом и в чтении книг, рассказывающих о чужих, неславянских богах.
Три года он сидел так на новгородском престоле, воспитывал племянника, правил по закону и обычаю землей, слушал и думал.
Пока не решил однажды – пора. Пришло то время, когда удается все. Главное – понять, когда оно придет. И не пропустить этого уже никогда не повторимого мига.
Олег, решившись на борьбу с Киевом, как опытный воин, знал, что единственный залог успеха – это быстрота. Собрав большое войско из постоянно приезжавших сначала к Рюрику, а потом и к нему варягов, набрал охотников из новгородских славян, кривичей, чуди и мери – тоже уже почти славян – и скоро двинулся на юг.
По пути сажает своих наместников у восточных кривичей в Гнездове (Смоленске) и в Любече (у северян) и продолжает свое стремительное речное движение к югу. Настолько стремительное, что Киев так ничего и не узнал до самого прихода Олега под его стены – его войско обгоняло гонцов кривичей и любечан, торопившихся с горькой вестью к Аскольду и Диру.
При подходе к городу Олег большой части войска велел отстать так, чтобы их не было заметно с берега, но быть готовым мгновенно двинуться на помощь передовому отряду, как только раздастся условный сигнал. Сам же с несколькими ладьями смело приблизился к берегу. День обычного торга не предвещал никаких неожиданностей, поэтому стража спокойно отнеслась к небольшой флотилии (большинство воинов спряталось внутри судов, оставив только несколько человек – стражей ладьи). Олег, богато одетый, сошел с несколькими своими людьми на берег и объявил подошедшим к нему представителям торга, что он – купец, едущий в Византию по поручению князя Олега и у него есть для киевских князей ценный и тайный подарок, не предназначенный для чужих глаз. Те, ни о чем не подозревая, передали услышанное князьям.
И когда князья вышли к ладьям с малой почетной стражей, то их внезапно окружили выскочившие с кораблей Олеговы люди.
Позднее летописцы напишут, что Олег обличит Аскольда и Дира, что они-де не княжеского рода, в отличие от него, Олега и Игоря, сына Рюрика, которого он им покажет, держа на руках. Но это будет позднее. В скоротечном бою с опытными воинами нет времени на разговоры, как нет в нем места и ребенку. Киевляне все были людьми опытными в боевых искусствах и заводить с ними речи до сечи – заранее проиграть все. Нет, их порубили сразу. Как сразу же был подан сигнал боевым рогом остальному войску. И вскоре против толпы гневных киевлян, среди которых редким вкраплением виднелись дружинники, стояла монолитная стальная стена северных воинов. Вот тогда наступило время речей. Никто не думал – ни свои, ни пока чужие – что человек может быть столь искусен в речи. Таких называют златоустами. Олег сказал все, что слышал сам и о чем думал последние три года. И победил – Киев его простил и принял, признал и наградил, поставив над собой. За что получил тут же от Олега звание-прозвище «мать городам русским».

Убийство Аскольда и Дира Олегом. Художник К.В. Лебедев
Сам же он стал князем, и не простым, а великим всей бескрайней державы – от Балтики до моря Черного, всего Древнерусского государства. Бывшая земля Рюрика отныне лишь была в нем одним из уделов, поэтому и будет править-княжить Олег не до взросления племянника, а до тех пор, пока сам не устанет от бремени власти, бремени основателя и созидателя великого государства.
На следующий год Олег, выполняя обещание принявшей его Киевской земле, идет походом на древлян, враждовавших с полянами за первенство на юге восточнославянского мира, и покоряет их, присоединив к Киеву. В 883–884 годах он присоединит племена северян и радимичей к своей стремительно расширяющейся державе. Платившие дань хазарам-степнякам те, в отличие от древлян, почти не окажут никакого сопротивления, отныне став данниками Киевской Руси.
Это, естественно, не понравилось Хазарии, бросившей против славянского войска свои конные лавы, которые будут разбиты. В последующие годы наступил черед покориться Киеву и Олегу дулебам, хорватам и тиверцам.
На рубеже веков военное счастье ненадолго изменит ему – продвигавшиеся на запад по Причерноморью кочевники-венгры разобьют его войско, привыкшее к победам. Славяне запрутся в Киеве, который неприятелю, несмотря на усиленную осаду, взять не удастся – все поймут, наконец, меру опасности и необходимость общего ей противодействия. Да и степняки, положив под стенами города многих и многих, также остынут, и охотно пойдут на мир с Русью, понимая: что удалось раз, может и не получиться дважды, иметь же за спиной врага хуже, чем доброго союзника. Мир между племенами просуществует около двух веков, во многом влияя на здешнюю политику.
Олег, как умный правитель, понимал, что слабости и поражения вождя быстрее всего забываются, перечеркнутые его же победами. Необходимость победоносной кампании была, всегдашний противник – Византия – тоже. Был и повод – после поражения Олега империя, в начале века пойдя на территориальные уступки усилившемуся Болгарскому царству, испытывая усиливающееся давление арабов, пережив мятеж знати, что все вместе весомо подрывало ее финансы, решила прекратить платить Киеву дань, которую до сей поры Олег брал своевременно и жестко.
Был и союзник – болгары, когда представилась возможность, не отказывались помочь желающим потрепать Византию. Сейчас за ними была сила, а значит – и возможность. Они обещали пропустить русское войско по своей земле, и в 907 году Олег во главе многих тысяч воинов двинул свое войско по Болгарии к Константинополю.
Туда же устремились и многие русские ладьи, также несущие тысячи и тысячи вооруженных славян.
Столица Византии раскинулась по обе стороны залива Золотой Рог, перерезавший город и уходивший далее – за стены. Стены Царьграда со стороны Босфора и с напольной стороны были высоки и, по сути дела, неприступны, однако со стороны внутренней гавани все было совсем по-другому. Здесь город надеялся только на массивные цепи, лежащие в дни мира на морском дне, а в трудное время вытягиваемые с его дна и при помощи башен по обе стороны Рога перекрывавшие в него вход. Иными словами, гавань не поражала неприступностью укреплений. Олег, как и многие другие, не видя возможности преодолеть эти цепи, решил ударить с внутренней стороны залива, для чего предстояло перетащить корабли через перешеек. Он поставил их на колеса, и они, при распущенных парусах и при – проклятье для греков! – попутном ветре двинулись к городу.
Военный прием, не имеющий аналогов и так поразивший обескураженного неприятеля, сразу запросившего мира.
Гениальность Олега и в этом приеме, и в том, что он согласился на мир, чувствуя, что в целой вселенной, которую представлял Константинополь, ему трудно будет сохранить войско, если враг опомнится от испуга и решится дать бой – сил для этого хватало с избытком. Добыча же вряд ли будет больше той, что можно получить миром. Да и союз будет прочнее, если в столице не прольется кровь.

Олег и его воины на кораблях с колесами у Царьграда; предложение греков через послов платить дань Руси. Радзивилловская летопись
Думая, как русскому князю мог прийти в голову ход с кораблями на колесах, разом выигравший всю военную кампанию, можно предположить, что это – от его воспоминаний во время похода из Новгорода в Киев: корабли трудные места преодолевали на волокушах. Мудрость князя – в своевременном воспоминании о всем давно известном под новым углом зрения в неожиданной ситуации. Возможно, это почувствовали и киевляне, принявшие его после убийства Аскольда и Дира, – и не просто потому, что киевские князья не имели потомства и род их все равно пресекся, что не прими они Олега, неизбежной – какая обида нанесена! – была война Киева с Новгородом, но и потому, что своим словом сумел убедить их Олег, что свершенного не воротишь, – если же примут его, Олега, то за ним не пропадет. Ему поверили и не ошиблись.
Не пропало: его поход – самый удачный из всех походов руссов против Византии. Своих потеряли мало, добычи взяли много, мир подписан был выгодный – лучше некуда.
А мир, скрепленный при личной встрече Олега с императором Львом VI, был действительно для Руси выгоден – кроме большой разовой дани сейчас, византийцы клятвенно обещали возобновить и ежегодные откупы; русским же купцам отныне было разрешено беспошлинно торговать на византийских рынках, как и купцам иных народов, получать продовольственное содержание (это же распространялось и на послов русов), и даже – мыться в константинопольских банях, сколько захотят.
Перед уходом домой Олег повесил на воротах города свой щит – как знак окончания войны и наступления мира. Но не показывает ли этот жест – символ многомудрого росича – кого следует отныне грекам видеть своим защитником (щит – защита!) и не предвосхитил ли он рыцарское Средневековье, когда щит, вывешенный на дверях дома в городе, захваченном неприятелем, говорил всем, что дом отныне занят и в нем уже есть новый хозяин?
Через четыре года – в 911 году – империя подтвердит свое намерение, рожденное оторопью, жить с Русью в мире и заключит с Олегом первый в истории Восточной Европы письменный мирный договор, конкретно рассказывающий о том, как грекам надлежит себя вести со славянами – в торговле и в политике.
По возвращении из Константинополя Олег почувствовал, что устал – тридцать лет власти не прошли бесследно. Тогда были иные времена – и правитель не всегда цеплялся костенеющей рукой за трон, понимая: нельзя жить вечно, нельзя унести в собой в могилу, что здесь ты привык считать своим. Некогда он отодвинул в тень племянника-отрока, который так и не стал новгородским князем. Ныне Олег отдавал уже зрелому мужу великое и могучее государство. Решивший прожить последние дни на родной Балтике и ушедший на север, он умирает, не дойдя до своего некогда покинутого дома в Ладоге. Так в 912 году великим князем стал Игорь, сын Рюрика.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе