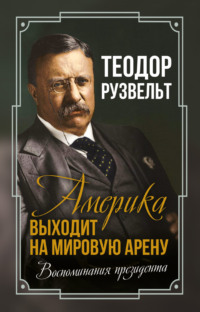Читать книгу: «Америка выходит на мировую арену. Воспоминания президента», страница 3
«Кавалерия на черных лошадях»
Почти сразу после окончания Гарварда в 1880 году я начал интересоваться политикой. Я не верил тогда и не верю сейчас, что какой-либо человек должен пытаться сделать политику своей единственной карьерой. Это ужасное несчастье для человека, когда он начинает чувствовать, что все его средства к существованию и все счастье зависят от того, останется ли он на своем посту. Такое чувство мешает ему по-настоящему служить людям, находясь у власти, и всегда подвергает его сильнейшему давлению, вынуждая отказаться от своих убеждений ради сохранения должности.
У человека должно быть какое-то другое занятие – у меня их было несколько – к которому он может прибегнуть, если его вышвырнут с должности, или он сочтет необходимым выбрать курс, который, вероятно, приведет к тому, что его вышвырнут, если он не захочет остаться в должности ценой своей совести.
В 1880 году молодой человек моего воспитания и убеждений мог вступить только в Республиканскую партию, что я и сделал. Присоединиться к ней тогда было непросто. Это было задолго до эры реформы избирательных бюллетеней и контроля над праймериз, задолго до эпохи, когда мы поняли, что правительство должно официально уведомлять о деятельности партийных организаций. К партии по-прежнему относились как к частной корпорации, и в каждом округе организация образовывала своего рода общественно-политический клуб. Человек должен был регулярно выдвигаться и избираться в этот клуб, как и в любой другой клуб.
При таких обстоятельствах вступление в местную организацию было сопряжено с некоторыми трудностями, и после того, как я присоединился, это вызвало у меня немалое удовольствие и волнение.
Таким образом, я стал членом Республиканской ассоциации Двадцать первого округа Нью-Йорка. Люди, которых я знал лучше всего, состояли в претенциозных социальных клубах, обладали утонченным вкусом и жаждой легкой жизни. Когда я начал наводить справки о местонахождении местной Республиканской ассоциации и способах вступления в нее, эти люди – а также крупные бизнесмены и юристы – смеялись надо мной и говорили, что политика – это «низко», что организации контролируются не «джентльменами», а владельцами салонов, кондукторами конных вагонов и тому подобными плебеями, они заверили меня, что эти люди грубы, жестоки и неприятны в общении.
Я ответил, что если это так, то это просто означает, что люди, которых я знал, не принадлежали к правящему классу, а другие люди принадлежали – и что я намеревался быть одним из правящего класса; что, если они окажутся слишком жесткими для меня, я полагаю, мне придется уйти, но я, конечно, не сдамся, пока не приложу усилия и не выясню, действительно ли я слишком слаб, чтобы выстоять в трудную минуту.
* * *
Я был избран в Законодательный орган осенью 1881 года и оказался самым молодым в этом органе. Как и всем молодым людям, мне было очень трудно научиться говорить. Я во многом воспользовался советом одного упрямого старого соотечественника, который бессознательно перефразировал герцога Веллингтона, который сам, несомненно, перефразировал кого-то другого. Совет гласил: «Не говорите, пока не будете уверены, что вам есть что сказать, и вы точно знаете, что говорите, затем скажите это и сядьте».
Мои первые дни в Законодательном органе были похожи на дни мальчика в новой школе. Мы с моими коллегами-законодателями смотрели друг на друга с взаимным недоверием. Каждый из нас выбрал свое место, каждый начал с того, что последовал примеру какого-нибудь ветерана в первых рутинных делах, а затем, через неделю или две, мы начали разбиваться на группы в соответствии с нашими привязанностями. Законодательная власть была демократической. Я был республиканцем из округа «шелковых чулок», самого богатого округа Нью-Йорка, и меня, как одного из представителей меньшинства, включили в Комитет городов. Это была желанная должность. Я не прилагал никаких усилий, чтобы преуспеть, и, насколько я знаю, был помещен туда просто потому, что это соответствовало обстоятельствам.
Очень короткий опыт показал мне, что при тогдашнем составе Законодательного органа так называемые партийные соревнования меня совершенно не интересовали. Не было реального партийного разделения по большинству вопросов, вызывавших озабоченность в государственной политике, как республиканцы, так и демократы могли быть и были за и против них. Мы дружили не по партийной линии, а потому, что и я и мои друзья обнаружили, что у нас одинаковые убеждения в принципиальных вопросах и вопросах политики. Единственная разница заключалась в том, что среди республиканцев было больше таких людей, чем среди демократов, и мне было легче с самого начала находить среди республиканцев людей с близким мне мировосприятием. По большей части они были выходцами из сельских районов.
За три года я завел немало друзей. Одним из ближайших среди республиканцев назову Билли О’Нила из Адирондака, владевшего небольшим магазином на перекрестке. Он был молодым человеком, лишь на несколько лет старше меня. Назову также Исаака Ханта, Йонаса ван Дузера, Уолтера Хау, Генри Спрэга, огромного роста одноглазого ветерана Гражданской войны, бравого генерала Кертиса из графства Сент-Лоуренс и отличного парня, немца по происхождения, Крузе из графства Каттараугус. Среди демократов я горжусь дружбой с Хэмденом Роббом и Томасом Ньюболдом, а также Томом Уэлчем из Ниагары, которые оказали большую услугу, добившись того, чтобы штат выделил парк Ниагара-Фоллс, а также с членами палаты из Нью-Йорка и Бруклина, Майком Костелло и Питом Келли.
Майк Костелло был членом Таммани-Холла. Он был столь же бесстрашен, сколь и честен. Он приехал из Ирландии и поначалу принял речь Таммани на праздновании 4 июля как свидетельство истинного отношения этой организации к правам людей. Но уже через месяц или два в нем поселилось глубокое неприятие к методам Таммани. Мы с ним работали рука об руку и нам были глубоко безразличны интересы наших местных партийных аппаратов. Руководители его аппарата откровенно предупредили его, что вышвырнут его на следующих выборах – что они и сделали. Но его выдержка и стойкость давали ему силу противостоять обстоятельствам, и держаться на плаву. Я не знаю лучшего гражданина, и наша дружба никогда не подвергалась сомнению.
Когда я пришел в политику, Нью-Йорк находился под контролем Таммани, которому время от времени противостояла какая-то другая – уже исчезающая – городская организация Демпартии. Демократы пригорода еще не попали под влияние Таммани и пытались выдвинуть в качестве политического босса от сельских районов Дэвида Б. Хилла. Республиканская партия была расколота на фракции Стойких и Полукровок. Соответственно, ни у одной из партий не было одного доминирующего босса или одной доминирующей машины, каждая из которых контролировалась враждующими боссами. Коррупция была уже не такой, как раньше, когда сторонние лица контролировали законодателей, как марионеток. Не было и такой централизации системы боссов, которая пришла позже. Многие члены находились под контролем местных боссов или местных аппаратов.
Трехлетний опыт убедил меня, во-первых, в том, что в законодательной власти было очень много насквозь коррумпированных людей, возможно, треть от общего числа; и, во-вторых, что честных людей было больше, чем продажных, и что, если бы когда-либо было возможно прямо поставить вопрос о правильном и неправильном поведении так, чтобы привлечь их внимание и внимание их избирателей, правое дело восторжествовало бы.
Проблема заключалась в том, что в большинстве случаев вопрос был запутан. Из литературы можно прийти к выводу, что единственная коррупция в законодательных кругах заключалась в подкупе законодателей корпорациями, и что четкую грань можно провести между честным человеком, который всегда голосовал против корпораций, и человеком продажным. Мой опыт говорил о прямо противоположном. На каждый законопроект, внесенный (даже не принятый) с целью коррупции в пользу корпорации, было внесено не менее десяти не принятых, и предназначенных не для принятия, а для шантажа корпораций. Большинство коррумпированных членов будут голосовать за шантажные законопроекты, пока им не заплатят, а после оплаты они будут голосовать в интересах корпорации.
Законопроекты о шантаже, или, как их всегда называли, «забастовочные», сами по себе можно было бы грубо разделить на две категории: законопроекты, которые было бы уместно принять, и те, которые принимать нельзя. Некоторые законопроекты, направленные против корпораций, были совершенно дикими. Какую-то часть выдвигали честные и глупые фанатики, но большинство были представлены людьми, у которых не было ни малейшего намерения их принимать, но которые хотели, чтобы им заплатили за отказ от принятия. Однако самым выгодным законопроектом для опытного шантажиста был законопроект, направленный на реальное корпоративное злоупотребление, которое корпорация – по злому умыслу ли или по глупости – не желала исправлять.
Среди мер, введенных в интересах корпораций, также были и разумные и неуместные. Коррумпированные законодатели, «кавалерия на черных лошадях», как их называли, требовали платы за голосование по желанию корпораций, независимо от того, был ли законопроект правильным или неправильным. Иногда, если законопроект был правильным, у корпорации хватало добродетели или силы духа отказаться платить за его принятие, но далеко не всегда.
* * *
Очень поверхностное рассмотрение вышеупомянутого положения дел показывает, насколько трудно было иногда прояснять проблему, поскольку честные и нечестные люди постоянно находились бок о бок, голосуя то против, то за корпоративную меру, в равной степени из правильных и из крайне неправильных побуждений. Я очень рано осознал, что и огульная защита корпораций, и огульные нападки на них, причиняют почти одинаковый вред. Трудно сказать, кто более вредный проводник коррупции и деморализации – тот, который гордился тем, что всегда противостоял корпорациям, или тот, кто заступался за них, мотивируя это своей приверженностью здоровому консерватизму.
По поводу одного законопроекта шла ожесточенная борьба между двумя организациями городского трамвая Нью-Йорка. Я видел, как во время дебатов лоббисты сами спускались в зал заседаний и почти не скрываясь выманивали продажных людей в вестибюли. В другом случае железнодорожные корпорации Нью-Йорка, несмотря на протест мэра и других местных властей, спешили провести законопроект о перечислении более половины своих налогов и некоторые из членов, проголосовавших за эту меру, вероятно, сочли ее правильной, но также за него проголосовал каждый коррумпированный член Палате. Только дурак мог подумать, что все голоса были отданы бескорыстно.
Мы с Майком Костелло вели эффективную борьбу против законопроекта о пересмотре повышенных железнодорожных налогов – возможно, самой откровенно мошеннической меры, которую в мое время продвигали в Олбани.
Взгляды одних и тех же членов законодательного органа, ответственных за внесение законопроекта, претерпели такую необычайную трансформацию, что, когда законопроект появился – проталкиваемый ревностными и действительно честными радикалами, – инициаторы фактически проголосовали против него!
Некоторые из нас, сомневавшиеся в принципе законопроекта, проголосовали за него, поскольку были убеждены, что это был очередной законопроект, выдвинутый для шантажа, и нам не хотелось оказаться на стороне коррупционеров. Затем поднялась волна народных настроений в его пользу, законопроект был вновь внесен на следующей сессии, железные дороги очень мудро решили, что они просто будут бороться с ним по существу, и весь контингент «кавалерии» вместе со всеми бывшими сторонниками меры проголосовал против.
Те из нас, кому претили методы, к которым ранее прибегали для уничтожения законопроекта, проголосовали за него в прошлом году, после долгих раздумий снова проголосовали за него, что я теперь считаю неразумным, и на законопроект наложил вето тогдашний губернатор Гровер Кливленд. Я считаю, что вето было правильным, и те, кто чувствовал то же, что и я, поддержали вето; потому что, хотя было совершенно правильно снизить стоимость проезда до пяти центов, что вскоре было сделано, метод был неразумным и создал бы вредный прецедент.
Случай противоположного рода произошел в связи с крупной железнодорожной корпорацией, которая хотела увеличить свои терминальные мощности в одном из крупных городов. Представители железной дороги принесли мне законопроект и попросили его изучить, сказав, что им хорошо известно, что это такой законопроект, который поддается шантажу, и что они хотели бы рассмотреть его по существу.
Я внимательно изучил его и обнаружил, что муниципальные власти и собственники, чья собственность должна была быть изъята, одобрили его, а также обнаружил, что это было абсолютной необходимостью с точки зрения города не меньше, чем с точки зрения железной дороги.
Итак, я сказал, что возьму на себя ответственность за него, если у меня будут гарантии, что при продвижении не будут использоваться взятки или любые другие грязные методы. Они согласились. В то время я исполнял обязанности председателя комитета, рассматривавшего законопроект.
Очень краткий опыт доказал то, в чем я уже был практически уверен – что существовала тайная комбинация большинства комитета на коррупционной основе. Под тем или иным предлогом подкупленные члены комитета поддерживали законопроект, не высказываясь о нем ни положительно, ни отрицательно. Один или два члена комитета были довольно грубыми личностями, и когда я решил форсировать события, я не был уверен, что у нас не будет проблем.
Я предложил высказаться сперва за законопроект, а затем против. Большинство отказалось без обсуждения: некоторые сохраняли деревянную невозмутимость, другие смотрели на меня с презрительной наглостью. Тогда я положил бумаги в карман и объявил, что все равно выдвину законопроект. Это почти вызвало бунт: мне пригрозили, что мое поведение будет осуждено в законодательном собрании, и я ответил, что в таком случае я должен буду изложить собранию причины, по которым я подозреваю, что люди, задерживающие все сообщения о законопроекте, делают это с целью шантажа.
Соответственно, я добился, чтобы законопроект был представлен в Законодательный орган и внесен в календарь. Но здесь дело зашло в тупик. Я думаю, это произошло главным образом потому, что большинство газет, которые обратили внимание на этот вопрос, относились к нему в таком циничном духе, что поощряли любителей шантажа.
В этих газетах сообщалось о внесении законопроекта и говорилось, что «все голодные законодатели требовали своей доли пирога» – факт «раздела пирога» воспринимался как естественная норма. Это запугивало честных людей и поощряло негодяев: первые боялись, что их заподозрят в получении денег, если они проголосуют за законопроект, а последним дали щит, за которым они будут стоять, пока им не заплатят.
Я был совершенно не в состоянии продвинуть законопроект в законодательном органе, и, наконец, представитель железной дороги сказал мне, что он хотел бы забрать законопроект из моих рук, что я, похоже, не в состоянии провести его и что, возможно, какой-нибудь «более старый и опытный» лидер мог бы быть более успешным. Я был вполне уверен, что это значит, но, конечно, у меня не было никаких доказательств, и, кроме того, я был не в том положении, чтобы обещать успех.
Соответственно, законопроект был передан на попечение ветерана, которого я считаю лично честным человеком, но который не интересовался мотивами, влияющими на его коллег. Этот джентльмен, получивший прозвище, которое я переиначу на «белоголовый орлан из Уихокена», знал свое дело. Через пару недель с предложением провести законопроект выступил даже не «белоголовый орлан», а «кавалерия», чьи чувства полностью изменились за прошедшее время.
Так все и кончилось. Была проведена небольшая работа как в интересах корпорации, так и в интересах общества, которую корпорация сначала честно пыталась выполнить достойным путем. Вина за неудачу лежала прежде всего в безразличии сообщества к законодательным нарушениям, пока шантажировали только корпорации.
* * *
Поведение людей, которых я хорошо знал в обществе и на которых меня учили равняться, просто поражало и разительно отличалось от моих представлений о людях такого положения – ведь тогда прошло немногим больше года с тех пор, как я окончил колледж. В целом, они всегда старались избегать любого прямого разговора со мной о том, что мы сейчас называем «привилегиями» в бизнесе и политике, то есть о корыстном союзе между бизнесом и политикой.
Один сотрудник известной юридической фирмы, старый друг семьи, тем не менее, однажды пригласил меня на ланч, очевидно, надеясь узнать о моих планах. Не сомневаюсь, что он испытывал ко мне искреннюю личную симпатию. Он объяснил, что я преуспел в законодательном органе, что поиграть в реформы было бы неплохо, что я продемонстрировал способности, которые сделают меня полезным в юридической конторе или бизнесе, но что я не должен переигрывать, что я зашел достаточно далеко, и что сейчас самое время оставить политику и отождествлять себя с правильными людьми, с людьми, которые в конечном итоге всегда будут контролировать других и получать реальные награды.
Я спросил его, означает ли это, что я должен оставить политический ринг? Он несколько нетерпеливо ответил, что я полностью ошибаюсь (как на самом деле и было), полагая, что существует просто политический ринг, о котором так любят говорить газеты, что помимо «ринга» есть внутренний круг, включающий крупный бизнес. И политики, юристы и судьи, находятся в союзе с ним и в определенной степени зависят от него, и что успешный человек должен добиваться своего успеха при поддержке этих сил, будь то в юриспруденции, бизнесе или политике.
Этот разговор не только заинтересовал меня, но и произвел такое впечатление, что я навсегда запомнил его, поскольку это был первый проблеск понимания того сочетания бизнеса и политики, против которого я так часто выступал в последующие годы. В Америке того времени, и особенно среди людей, которых я знал, преуспевающий бизнесмен считался всеми в первую очередь хорошим гражданином. Ортодоксальные книги по политической экономии, не только в Америке, но и в Англии, были написаны специально для его прославления. На него сыпались награды, им восхищались сограждане – одним словом ему подобал респектабельный типаж. Суровые газетные моралисты, никогда не уставая осуждать политиков, имели обыкновение противопоставлять политикам «деловые методы» в качестве идеала, который мы должны были стремиться внедрить в политическую жизнь.
Герберт Кроули в книге «Обещание американской жизни» изложил причины, по которым наша индивидуалистическая демократия, – которая учила, что каждый человек должен полагаться исключительно на себя, ни в коем случае не должен подвергаться вмешательству со стороны других и должен посвятить себя своему личному благополучию, – неизбежно породила тип бизнесмена, который искренне верил, как и все остальные члены общества, что человек, сколотивший большое состояние, был лучшим и самым типичным американцем.
В законодательном органе я имел дело в основном с проблемами честности и порядочности, а также законодательной и административной эффективности. Работа с этими вопросами показывали усилия, необходимые, чтобы получить эффективное и честное правительство. Но пока я мало понимал, какие усилия уже приложены – по большей части под очень плохим руководством – по обеспечению более подлинной социальной и промышленной справедливости. И я не был особенно виноват в этом. Добропорядочные граждане, которых я тогда знал лучше всего, даже когда они были людьми с ограниченными средствами – такими, как мой коллега Билли О’Нил и мои друзья из захолустья Сьюэлл и Доу, – не больше, чем я, осознавали меняющиеся потребности, которые приносили меняющиеся времена. Их кругозор был таким же узким, как и мой, хотя в этих узких пределах таким же фундаментально здравым.
* * *
Я хотел бы остановиться на здравом смысле нашего взгляда на жизнь. Там, где мы видели нечестность, мы выступали против нее – в большом или малом. Мы обнаружили, что нужно гораздо больше мужества, чтобы открыто выступить против профсоюзов, чем против капиталистов. Грехи против труда обычно совершаются, и ненадлежащие услуги капиталистам обычно оказываются за закрытыми дверями. Очень часто человек, обладающий моральным мужеством открыто выступать против профсоюзов, когда они неправы, оказывается единственным, кто готов эффективно работать на благо тех же рабочих, когда правда на их стороне.
Единственные виды мужества и честности, которые всегда полезны для хороших институций где бы то ни было, демонстрируют люди, которые беспристрастно и справедливо вершат дела на основе личного поведения, а не классовой принадлежности.
Мы обнаружили, что тем, кто публично ратовал за непогрешимость профсоюзов, в частном порядке нельзя было доверять. Мы искренне не доверяли реформатору, который никогда не осуждал зло, если оно не воплощалось в богатом человеке. Человеческая природа не меняется и этот тип «реформатора», так же вреден, как и во все времена.
Громогласный поборник народных прав, который нападает на зло только тогда, когда оно связано с богатством, и который никогда публично не нападает на какое-либо преступление, каким бы вопиющим оно ни было, если оно совершено номинально в интересах простого рабочего, испорчен либо разумом либо душой – ни один честный человек не должен ему доверять. В значительной степени это была неприязнь, вызванная в наших умах демагогами этого класса, которые затем помешали тем из нас, чьи инстинкты в основе были здравыми, зайти так далеко, как нам следовало бы в государственном контроле корпораций и правительственном вмешательстве в интересах профсоюзов.
Некоторые пороки и неэффективность в общественной жизни тогда проявлялись проще, чем, вероятно, сейчас. Один или два раза я был членом комитетов, которые расследовали грубые и широко распространенные злоупотребления правительства. В целом, наиболее важную роль я сыграл в третьем законодательном органе, в котором я служил, когда я был председателем комитета, который расследовал различные аспекты официальной жизни Нью-Йорка.
Конечно, расследования, разоблачения и разбирательства следственного комитета, председателем которого я был, привели меня к ожесточенному личному конфликту с очень влиятельными финансистами, политиками и контролируемыми ими газетами. Способные, но беспринципные люди боролись – кто за свои капиталы, а кто и за то, чтобы избежать неприятно близкого соседства с тюрьмой штата.
Это означало, что нам нужно было и держать удар и бить в ответ. В такой политической борьбе тот, кто пошел на то, на что пошел я, быстро становился мишенью для сильных и хитрых людей, которые не остановились бы ни перед чем. Любой, вовлеченный в этот особый тип воинственных и практических реформ, быстро чувствовал, что ему лучше даже не пытаться, если его собственный характер не будет несгибаемым.
В одной из следственных комиссий, в которой я служил, был мой соотечественник, очень способный человек, который, прибыв в Нью-Йорк, почувствовал, то, что чувствуют некоторые американцы в Париже, – что моральные ограничения его родного места больше не действуют. При всех его способностях, он был недостаточно проницателен, чтобы понять, что Департамент полиции тщательно следил за ним, как и за всеми нами. Он был пойман с поличным, делающим то, чего он не должен был делать и более не смел делать ничего, что не позволили бы ему делать те, кто владел его тайной.
Так у чиновников, стоявших за Департаментом полиции, появился свой человек в комитете. Была пара случаев, когда он боялся, что события в комитете могут принять такой оборот, что его разоблачат либо его коллеги, либо городские власти – и в эти моменты я видел на лице этого сильного в общем-то человека такой ужас, который не видел больше никогда и нигде. Тем не менее, он избежал обвинений, поскольку мы так и не смогли получить доказательств против него.
Ловушки были расставлены не только для него и если бы я или кто-то еще попал в нее, закончилась бы либо наша общественная карьера, либо наша работа в направлении, которое оправдывало бы участие в общественной жизни вообще.
Человек, конечно, может занимать государственные должности, в то время как другие люди знают о нем то, что он не может позволить себе разглашать. Но никто не может вести действительно достойную общественную карьеру, не может действовать с твердой независимостью в серьезных кризисах, или нанести удар по большим злоупотреблениям, не может позволять себе наживать могущественных и беспринципных врагов, если он сам уязвим в своих личных секретах. Грязное поведение само по себе не позволит человеку хорошо служить обществу.
Мне всегда нравилось замечание Джоша Биллингса о том, что «гораздо легче быть безобидным голубем, чем мудрым змеем». Есть много достойных и много способных законодателей; но безупречность и бойцовские качества не всегда сочетаются. Оба качества необходимы для человека, который должен вести активную борьбу против хищников. Он должен иметь чистые руки, чтобы со спокойным сердцем улыбаться, когда перед публикой открывают его личное досье, и все же чистота не поможет ему, если он глуп или робок. Он должен ходить осторожно и бесстрашно, и хотя он никогда не должен вступать в свару, если может избежать этого, он должен быть готов при необходимости нанести сильный удар.
Пусть он, кстати, помнит, что слабый удар – это непростительное преступление. Не бей вообще, если этого можно избежать, но никогда не бей мягко.
* * *
Как и большинство молодых людей в политике, я прошел через различные колебания чувств, прежде чем «нашел себя». В какой-то период я был настолько впечатлен достоинством полной независимости, что действовал в каждом конкретном случае исключительно так, как я лично это видел, не обращая никакого внимания на принципы и предубеждения других. Результатом было то, что я быстро и заслуженно потерял всякую способность вообще чего-либо достигать; и тем самым я усвоил бесценный урок: на практике никто не может достичь высшей степени своего служения, если не объединится с соратниками, что означает определенное количество компромиссов.
Опять же, в какой-то период я начал верить, что у меня есть будущее, и что мне следует быть очень дальновидным и тщательно анализировать последствия каждого своего действия. Это быстро сделало меня бесполезным для общества и объектом отвращения к самому себе; и тогда я решил, что постараюсь действовать так, как будто каждый пост, который я занимаю, будет последним, и просто буду стараться выполнять свою работу как можно лучше, пока занимаю этот пост. Я обнаружил, что для меня лично это был единственный способ, которым я мог либо наслаждаться жизнью, либо оказывать хорошую услугу стране, и я никогда впоследствии не отклонялся от этого плана.
Когда я пришел в политику, там было, – как было и до того, и как всегда будет после – сколько угодно плохих людей, которые были очень эффективными, и сколько угодно хороших людей, которые хотели бы делать высокие вещи в политике, но которые были совершенно неэффективны. Если я хотел чего-то добиться для страны, я должен был сочетать порядочность и эффективность, быть прагматиком с высокими идеалами, который делал все возможное, чтобы воплотить эти идеалы в реальную практику. Это был мой идеал, и в меру своих возможностей я стремился соответствовать ему.
Не всегда было легко придерживаться золотой середины, особенно оказываясь между коррумпированными и беспринципными демагогами и коррумпированными и беспринципными реакционерами. Мы старались уравновесить их, старались стоять за правое дело, хотя другие его сторонники были кем угодно, только не праведниками. Мы пытались покончить со злоупотреблениями собственностью, даже несмотря на то, что добропорядочные люди, владеющие собственностью, были введены в заблуждение, поддерживая эти злоупотребления. Мы отказывались санкционировать незаконные посягательства на собственность, даже зная, что защитники собственности сами были вовлечены в порочные и коррумпированные деяния.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе