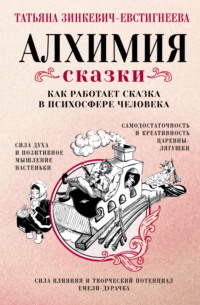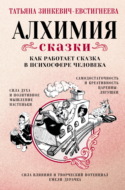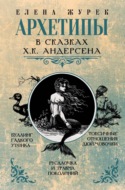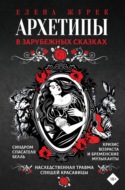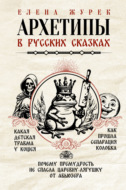Читать книгу: «Алхимия сказки. Как работает сказка в психосфере человека», страница 5
Глава 7
Что делать, чтобы сказки были по душе
Я позволю себе поделиться с вами основными рекомендациями, которые помогут точнее выстроить взаимоотношения ребёнка со сказкой. Потому что считаю такие отношения ценными и важными для будущей взрослой жизни.
В первую очередь, пока ребёнок во чреве матери, читайте ему все сказки, которые нравятся и понятны вам. Читайте вслух, поглаживая живот. Пробуйте вслух размышлять о сказке: «Что же мне открыла эта сказка, о чём же она?
Я буду размышлять, а ты слушай и отзывайся, дополняй или поправляй меня!» Слушайте ответный отклик ребёнка. Такая практика – это основа и вашего будущего взаимопонимания с ребёнком.
Во-вторых, пока ребёнок «в колыбельном возрасте», пойте колыбельные. Лучше сочиняйте тексты сами. Колыбельные – это медитативные сказки, в которых можно рассказать о мире всё, что вы считаете важным. Когда ребёнок бодрствует, играйте с ним, рассказывая потешки, пробуйте рассказывать ему разные короткие сказки и смотрите, как он слушает.
Потешки – это незатейливые смысловые стишки, которые сопровождаются какими-либо полезными движениями, гимнастикой. Наверняка в детстве родители сажали вас на колени и потешали: «По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам, в ямку – бух!» На словах «по кочкам» вас легонько подбрасывали на коленях. А на словах «в ямку бух» взрослые раздвигали колени, и вы чуток проваливались. Конечно, тогда вы не думали про смыслы незатейливых стишков. Тем не менее они про суть земного пути человека, про преодоление трудностей, а также о том, как «не проваливаться» в уныние, воспринимать неприятную ситуацию как «ямку», из которой можно выбраться. Я уже не говорю про моторное развитие на фоне потешки.
Или вот ещё пример гимнастической потешки с глубоким смыслом. В ней мы включаем ребёнка в систему семейных связей – шлём родственникам символические поклоны. Когда малыш лежит на спинке, мы тянем его за ручки: сначала переводим в сидячее положение, потом опять аккуратно укладываем на спинку. Циклический перевод из положения «лёжа» в положение «сидя» мы сопровождаем потешкой:
Близким, кровным шлём поклоны,
Старших в семье уважаем,
Благословение от них принимаем!
Дедушке поклон посылаем,
Благословение от него принимаем.
Бабушке поклон посылаем,
Благословение от неё принимаем.
Папе поклон посылаем,
Благословение от него принимаем.
Мне, маме твоей, поклон посылаешь,
Благословение от меня принимаешь.
(Если есть братья-сестры, им тоже посылаются поклоны и принимаются благословения:
Сестре/брату поклон посылаем
Благословение принимаем).
Себе самому поклон отсылаешь,
От своей светлой души благословение принимаешь!
Все близкие друг с дружкой связаны,
Беречь друг дружку обязаны.
Обязательство это приятное,
Разуму, сердцу и душе понятное!
Расти, (имя ребенка), процветай,
Свою силу обретай!
Под разные уходовые и гимнастические процедуры можно придумывать свои собственные смысловые стишки-потешки. Так ключевые ценности малыш станет впитывать через потешки и колыбельные «с молоком матери».
В-третьих, когда ребёнок подрастает (до 2,5–3 лет), читайте ему короткие сказки о животных и опять же наблюдайте, как он слушает. Попробуйте читать себе вслух любимые или просто интересные вам сказки и боковым зрением наблюдайте за ребёнком, как он себя ведёт. Как видите, наблюдательность – это наш основной инструмент.
В-четвёртых, не торопитесь с длинными волшебными сказками. Пробуждение интереса к волшебной сказке, где действует яркий главный герой/героиня, означает вхождение в «возраст сказок».
Возрастом сказок мы называем пик интереса к волшебным сказкам и остроту метафизического понимания их смысла. То есть ребёнок, находящийся в «возрасте сказок», постигает их не головой, а сердцем, глубинными структурами личной психосферы.
Дети по-разному созревают к восприятию сказок. Поэтому я не могу указать чёткий интервал, лишь приблизительно: от 4,5–7 лет до 9–13 лет. Индивидуальный приход «возраста сказок» связан с традициями семейного воспитания и общекультурным, эстетическим развитием ребёнка. Во многом «возраст сказок» обусловлен развитием коры головного мозга (неокортекса). Для самостоятельной регуляции поведения неокортекс созревает примерно к 6–8 годам. А значит, только к этому возрасту будут интересны и понятны сказки с ярким главным героем, волшебные сказки.
В-пятых, старайтесь до 5 лет предлагать ребёнку преимущественно сказки того этноса, которому принадлежат его кровные родители. До 5-летнего возраста для ребёнка самый полезный образно-смысловой ряд – из его родной природы и фольклора. Это убедительно доказал Александр Сухарев и его команда.
Профессор А. В. Сухарев долгие годы занимался исследованием этнической функции. Он экспериментально доказал, что образы и смыслы естественной по рождению природной и ценностной среды влияют на развитие интеллекта и креативности человека. Свои многочисленные исследования он положил в основу этнофункционального подхода в психологии и выделил 2 ключевые функции, влияющие на развитие личности. Этноинтегрирующую, работающую с «корневыми» образами; и этнодифференцирующую, ответственную за работу с полиэтнической образной информацией.
А. В. Сухарев установил, что если ребёнок до 5 лет не получил полноценного доступа к природе своего этноса, его сказкам и мифам, то это создаёт существенные риски для его оформления в зрелую личность. Перегружая ребёнка мультикультурными образами до 5 лет, мы увеличиваем риски формирования в его личности инфантильных структур, которые наберут силу в подростковом возрасте и станут бедствием для родителей и наставников.
Профессор А. В. Сухарев и его ученики убедительно доказали необходимость участия в воспитании ребёнка образов родной природы и фольклора. Раннее погружение в информационную, образно-смысловую среду других этносов (до 5 лет) создаёт особый вид недоразвития – этнофункциональное. Однако оно может быть откорректировано, скомпенсировано и в более позднем возрасте с помощью погружения в родную образно-смысловую среду. Это можно делать с помощью фотографий, картин, сказок, фольклора. «Наверстать упущенное» никогда не поздно.
А. В. Сухарев опытным путём выделил оптимальные периоды этнофункционального развития: природная стадия – от 1 до 5 лет, природно-анимистическая стадия – от 2 до 5 лет, надэтнически-религиозная стадия – с 7–8 лет4. Зачем нам это нужно знать? Чтобы понимать возраст, с которого следует погружать ребёнка в мультиэтническое образно-смысловое пространство: это можно делать после 5 лет.
Это и есть ответ на вопрос, в каком возрасте стоит открывать ребёнку сказки народов мира – начиная с 5 лет. На самом деле, интерес к этническим сказкам как раз и просыпается к этому возрасту совершенно естественным образом.
И тут тоже стоит подходить к этносказкам разумно: ведь есть такие сказки, которые покажутся «слишком странными» для нашей ментальности. В фольклоре разных народов есть сказки с бродячим сюжетом – и они будут понятны представителям любого этноса. А есть сказки «этноспецифические», понимание которых требует отдельной подготовки, если вы не принадлежите данному этносу и не воспитывались в его культурной среде.
Яркий пример – корякские сказки про шамана-ворона Кутха. Или африканские сказки про Бонгопу-Камагадхлела. Сказкотерапевтов «хлебом не корми», дай провести смысловой анализ «этноспецифических» сказок. Однако для знакомства ребёнка со сказками народов мира лучше начинать с более понятных сказок, в которых заметен «бродячий», понятный сюжет.
В-шестых, придумывайте, пишите и рассказывайте деткам свои собственные сказки, наблюдайте, как они слушают. Эта книга настроит вашу способность сказкотворчества более точно. Поэтому с придумыванием сказок «к месту» трудностей не будет.
Если ребёнок по каким-то причинам не хочет слушать вашу сказку (хотя это трудно представить!), не теряйтесь, рассадите перед собой игрушки и рассказывайте сказки игрушкам. Обоснуйте это тем, что игрушки попросили вас рассказать им сказку. Вы им обещали и держите своё слово. Нравится это ребёнку или нет, но вы продолжите эту работу – раз игрушки просили, слово дано – надо выполнять.
В-седьмых, у некоторых детей рано открывается талант спонтанного сказкотворчества. Не удивляйтесь, если в 5–9 лет ребёнок будет придумывать и рассказывать свои сказки. И даже захочет их театрализовать, стать драматургом и режиссёром собственных сказочных спектаклей. Это прекрасно. Поддерживайте его в этом. Устраивайте сказочные посиделки. Рассказывайте сказки друг другу. Оформляя свои мысли в сказках, ребёнок учится мыслить красиво.
В-восьмых, не бойтесь «страшных сказок». Они не вводят ребёнка в состояние стресса. Наоборот, они делают от него «прививку», включают структуры психологического, социального и ценностного иммунитета. Сопереживая героям, ощущая на себе нагнетание напряжения, ребёнок укрепляется духом, взрослеет.
Да, в коллективном поле есть выражение «всё случилось, как в страшной сказке». Оно означает, что произошло худшее. Согласна, если приглядеться, в сказках «много страшного»: то головы отрубают, животы вспарывают, героиня остаётся без рук, без глаз, калекой. Многие говорят: «Тут у взрослых от ваших сказок “кровь стынет”, а у детей и тем более; зачем такие страсти рассказывать детям и травмировать их?!»
К сожалению, люди в силу разных причин создали такой уклад жизни, в котором есть место насилию, причём разных форм и видов, открытого и завуалированного. Насилие есть и в кино, и в компьютерных играх, и сказки «не стерильны». Ребёнок через сказку открывает для себя эту неприглядную для взрослых истину: в течение жизни травматизаций не избежать.
Это открытие запускает внутри ребёнка целую цепочку вопросов. Как не подставлять себя под удар? Что делать, если удар уже получен? Как извлекать урок из случившегося? Можно ли прожить без насилия? Сами эти вопросы явно не осознаются, поиск ответов на них начинается неосознанно. Благодаря этому постепенно внутри ребенка формируются этические принципы, отношение к насилию, способность распознавать его скрытые формы, формировать защитное и побеждающее поведение.
«Страшность сказок» – это символическая прививка от стресса. Ребёнок переживает стресс в малой дозе – через это включается его психологическая иммунная система. Кто-то, прочитав сейчас эти строки, скажет: «Вот и оправдание для фильмов ужасов». Нет, друзья. Фильмы ужасов – это «жанр особого назначения». И к сказкотерапии он не имеет отношения.
Если ребёнок 5–9 лет просит вас рассказать ему страшную сказку или сам рассказывает её – это нормально. Вспомните, как и вы в начальной школе рассказывали «страшные сказки» про чёрную перчатку и гроб на колёсиках. Делали это с таинственной интонацией и внутри смеялись, предвкушая кульминацию. Через подобные «страшные истории» со смешным, абсурдным концом дети прорабатывают свои страхи. Причём разной глубины залегания.
Напомню вам одну из детских «страшилок».
«Два друга на летних каникулах нашли заброшенный дом. Он был большой, в два этажа, с подвалом и чердаком. Когда они зашли внутрь, то увидели на стене красную стрелку. Казалось, она была нарисована кровью. Они задрожали от страха, но не смогли сойти с места. И тогда на стене стали проступать красные буквы. Они прочитали: “По стрелкам пойдёшь – клад найдёшь!”
Два друга, несмотря на то, что им было очень страшно, решили пойти по стрелке. Им очень хотелось найти клад. Они смотрели старые фильмы про Индиану Джонса и других охотников за сокровищами, поэтому знали, что по пути их может подстерегать всё, что угодно, включая огромных пауков.
Только они проходили одну стрелку, как появлялась другая. Они не заметили, как очутились в страшном и тёмном подвале. Туда едва проникал солнечный свет. Они шли, отмахиваясь от паутины, слыша хруст битых стёкол и скрип досок у себя под ногами. Наконец, они увидели огромный сундук. Подошли ближе, а это оказался… гроб! И вдруг!.. Он открылся!.. И оттуда выпрыгнул скелет!!!… А-А-А-А-А-А-А-А-А! Он хотел схватить их за шиворот!!! Они чудом увернулись, а скелет как заорёт: “А-А-А-А! Не убегайте! Спасите! Реквизитор мне голову оторвёт!..”
В общем, оказалось, что ребята зашли на съёмочную площадку с тыла, когда у съёмочной группы был выходной. Вывод: не все здания, которые выглядят заброшенными, в действительности заброшены; не все стрелки ведут к кладу; а в съёмочных группах встречаются большие шутники!»
Сказкотворчество в жанре «детских страшилок» полезно не только для детей, но и для взрослых. Ведь корни многих наших нынешних страхов тянутся из детства.
В-девятых, если ребёнок настойчиво просит вас читать ему одну и ту же сказку – пожалуйста, проявите терпение. Дело в том, что именно через эту историю он решает некий важный для себя жизненный вопрос. Сформулировать который и задать взрослому пока не может. Ведь самосознание, рефлексия развиваются небыстро и постепенно. Фактически вы становитесь сопричастными удивительному явлению – оформлению любимой сказки.
Только не думайте, что любимая сказка обязательно сформирует какой-то «ужасный» жизненный сценарий!
Да, сейчас многие «лидеры мнений» утверждают, будто сказки откровенно дурачат девочек, девушек и женщин. Почему-то именно женские сказки отличаются особенным «зловредством» и «программируют» современную девушку «быть тихой, покорной, “неперечливой”, трудиться не покладая рук». Женские сказки утверждают, будто такая модель поведения является базовой для земного счастья. Именно на её несостоятельность указывает здравый смысл «лидеров мнений». Если бы современные девушки и женщины вели себя так, как показывается в сказках, они бы так и остались «затюканными» и одинокими. Как говорится, «на Золушку глядючи – нормальную семью не создашь!». Словом, положительные женские персонажи в сказках – это инструмент манипуляции женским сознанием и представлениями о счастье.
Послушав такие разоблачающие выступления, любая мама ужаснётся обнаружив, что её дочери нравится сказка о Золушке или Русалочке! Какой ужас, теперь она будет искать мифического принца, а их же «на всех не хватает»! Теперь она попадёт в сети жертвенной любви, всё будет делать для мужчины, а он её использует и предаст! Как тут не вспомнить эпизод из комедии «Бриллиантовая рука»5: «Шеф, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает!..» Друзья, и кто здесь «программирует»? Сказка, или наши страхи?! Зачем делать сказку виноватой в наших собственных несовершенствах?!
Сюжет о Золушке есть в фольклоре всех народов. Его сакральная суть – подготовка девочки к вхождению в статус невесты. Проживая вместе с многоликой Золушкой архетипический сюжет «Мачеха и падчерица», девочка проходит цепочку малых посвящений в невесту. Невеста – это девушка, внутренне готовая к союзу с мужчиной, в которой активно работает всё «программное обеспечение» хранительницы очага, возлюбленной и матери.
Другой момент про Золушку: не будем забывать, что именно она является наследной хозяйкой дома, поместья, в котором происходят события. Героиня понимает, что её родовое гнездо захвачено «паразитическими силами» (мачеха с дочерями), и перевес на их стороне. Однако её самоощущение хозяйки и наследницы даёт ей силы для поддержания своего дома в порядке. И приходит момент (королевский бал), который становится переломным в расстановке сил. Золушка возвращает свою наследную собственность, которую она хранила и поддерживала. Так и многим женщинам, оказавшимся в условиях зависимости (например, она домохозяйка, зависящая от воли мужа и свекрови), важно восстановить самоощущение Золушки как хозяйки. И на основе этого самоощущения перестраивать модель отношений с окружающими. Золушка не устраивает «домашних войн за справедливость»: она отлично понимает, что у неё нет сильной поддержки. Кто с ней двинется на мачеху с дочерями? Мыши? Голуби? Собака и кот? Нет. В создавшихся условиях она не ставит перед собой нереальной задачи «победить мачеху», она видит свою задачу в том, чтобы по-хозяйски поддерживать свой дом, своё имение.
Сюжет о Русалочке более сложен, он связан с ценностью души и эволюцией духовной сущности живого существа. Я всегда акцентирую внимание критиков этой сказки на том, что Русалочка – не человек. Она элементал, разновидность духа воды. Если читать сказку в первоисточнике, а не знакомиться с нею через диснеевские мультверсии, то несложно обратить внимание на разговор Русалочки с бабушкой о бессмертной душе. Русалочка открывает, что люди обладают бессмертной душой, в отличие от «дочерей воды», которые хоть и живут дольше, но превращаются в морскую пену. И Русалочка вдохновляется идеей получить бессмертную душу. Неслыханный эволюционный мотив для элементала! Бабушка знает лишь один способ – стать любимой тем, кто обладает бессмертной душой. Любовь передаёт бессмертие.
И здесь мы понимаем, что великий Х. К. Андерсен создал сказку по мотиву истории об Амуре и Психее! Как душа когда-то получила бессмертие, пройдя по любви через цепочку невероятных приключений, так и элементал может получить бессмертную душу через любовь. Правда, для этого потребуется целых 300 лет. Но перспектива есть! К тому же срок может быть сокращён, если бывшая Русалочка, ставшая одной из дочерей Воздуха, будет радоваться, видя добрых детей. Словом, в финале сказки Русалочка встала на путь, в конце которого она станет обладать бессмертной душой. Для Русалочки душа обладает колоссальной ценностью. А для человека? Ценит ли свою бессмертную душу тот, кто обладает ею от рождения? Вот вопрос вопросов!..
Если сказка «Русалочка» – это «программа», то программа перманентной эволюции, программа усложнения живых систем через любовь. Да, в этой части сказка «программирует». Но как и на что?
«А как же страдания Русалочки? – спросите вы. – Разве они не программируют схожесть жизненного сюжета?!» То, что проходила Русалочка, мы можем маркировать как «страдания». Но можем также маркировать как «жизнестойкость», «упорство в достижении цели», «ясность пути трансформации». Как видите, «эффект программирования» зависит от того смыслового маркера, который мы присваиваем сказочным событиям, пути героев. Поэтому «негативно программируют» не сами сказки, а те смыслы, которыми люди наделяют сказки. Смысловые маркеры в негативной коннотации – вот основа «программирования».
Поэтому важно открывать шифры, смыслы сказок без «модных предвзятостей». А для этого стоит развивать смысловое внимание, наблюдательность, исследовательский интерес к сказкам. И преодолевать в себе «азарт разоблачителя». И тогда сказка, которую ребёнок просит читать каждый день, хотя уже знает наизусть, точнее расскажет о том, что для него сейчас важно.
Все сказочные герои и героини отмечены особым, глубинным доверием потоку жизни. Им будто открыта тайна причинно-следственных связей, которые приведут их в нужную точку судьбы. Кроме того, если внимательно вчитываться и вслушиваться в сказку, то открывается, каким образом герои управляют потоком событий. Когда очевиден расклад сил, они не тратят энергию на пустые конфликты, но при этом не бездействуют: внутри себя совершают некие таинственные деяния, которые приводят к закономерно счастливому финалу.
Если вернуться к женским сказкам, можно сказать, что их героини, проходя через испытания, будто распутывают невидимый клубок спутанных нитей. И когда развязывается последний узелок, все события складываются, как им следует. Метафоры распутывания спутанной пряжи, прядения, ткачества, вышивания – всё это образы, отражающие глубинные способности женщины управлять потоком жизни. Грамотно вкладывать свою энергию, не «бросать на ветер» свои силы – то есть не заниматься пустым противостоянием. Есть иные инструменты влияния. Они требуют терпения и опыта. В этом и состоит трудность освоения и пользования этими инструментами. Но основа восприимчивости к ним закладывается в девочку благодаря сказкам.
Однако если восприимчивости к этим женским инструментам нет, или она закрыта, не стоит грустить! В жизни есть немало способов явного влияния и проявления себя.
Поэтому за образами «покорных», робких, тихих героинь, которые себя толком не могут защитить, вовсе не скрывается «психология жертвы». Сильный дух, отважный характер, владение глубинными женскими инструментами влияния – вот, что стоит за видимой частью айсберга. Сразу этого не распознаешь – нужно дочитать сказку до конца и потрудиться постичь её. Задать себе вопрос: «Над чем внутри себя работала героиня, чтобы прийти к описанному в сказке результату?»
Словом, не напрягайтесь, когда в любимой сказке вашей дочери присутствует «робкая героиня»!
Не огорчайтесь, когда она мечтает о свадьбе «как в сказке». Да, сказки критикуют за «идеализацию брака»: они заканчиваются свадьбой, после которой все живут долго и счастливо. Безусловно, есть сказки со «свадебным финалом». Их задача зафиксировать завершение некоего цикла развития, о котором шёл рассказ, и обозначить органичный Роду образ семьи, состоящей из мужчины и женщины.
Однако в более масштабных сказках про отношения часто бывает две свадьбы. Например, «Снежная королева» – это сказка, которая начинается в поле символической «первой свадьбы». Кай и Герда – не являются братом и сестрой, живут в одном пространстве – чем не символ земного брачного союза? Да, они дети, но образ детей – это метафора внутренней незрелости, инфантилизма, которые мы часто наблюдаем у молодых пар.
В этом контексте сказка Андерсена разворачивается как череда событий «после свадьбы». И события эти в земных судьбах крайне драматичные: Снежная Королева – разлучница, замораживающая сердце Кая. Герда осознаёт, как для неё важен возлюбленный, и начинает свой путь прощения измены и внутренних перемен. Ею руководит доверие потоку жизни. Путь её долог, но в финале её не ожидает вознаграждение. Наоборот, она переживает глубочайшее разочарование. Однако именно слёзы отчаяния возвращают Каю сердце и прежние чувства. Удивительно, сам Андерсен никогда не был женат, но смог так тонко описать отдаление любящих супругов друг от друга и путь обратного их сближения.
Как видите, чтобы сказка рассказывала о том, что там «после свадьбы», нужно развернуть её к себе соответствующей стороной. В сказке «Лягушка-царевна» «первая свадьба» – это женитьба на лягушке, ставшей царевной; а после сжигания лягушачьей кожи описываются события «после свадьбы». В сказке «Марья Моревна» герои сперва состязаются, потом мирятся и начинают жить вместе – это их «первая свадьба». Далее молодой муж выпускает из подземелья Кощея, и начинается рассказ о том, что было «после свадьбы». Примеров таких сказок немало. «Первая свадьба» – это не конец, а начало или середина сказки.
«Первая свадьба» символизирует решение быть вместе. Обычно после «первой свадьбы» случается длительная разлука, где герои ищут друг друга; или под влиянием колдовства один забывает другого; или вмешивается третья сила. Тем не менее, пройдя через все тернии, он и она вновь оказываются вместе. Случается «вторая свадьба» – она символизирует зрелость союза. А период разлуки – это и есть метафора семейной жизни, в которой Двое ищут дорогу друг к другу.
Опыт многообразных приключений, которые герои переживают в разлуке, – это зашифрованная информация о незрелостях характеров, влияющих на качество семейной жизни; о ловушках отношений, трудностях и радостях, ошибках и искуплениях… Так что сказать, что сказки не рассказывают нам о том, что такое незрелые отношения и через что нужно пройти, чтобы они стали зрелыми, нельзя. Вся информация есть. Только… в зашифрованном виде.
Почему же нельзя написать прямо?! Ведь если бы в сказках не было этих сомнительных, да ещё и «парадоксальных шифров», то и претензий к сказкам было бы значительно меньше!
Без шифров сказкам никак нельзя! С одной стороны, информация должна открываться подготовленному разуму и скрываться от неподготовленного. С другой стороны, сознание, желая понять сказки, будет взрослеть. С третьей стороны, в некоторых сказках сказано слишком много сокровенного об устройстве мира; поэтому информация скрывается, чтобы незрелое сознание не могло использовать её для разрушения себя и окружающего мира. Пусть уж лучше сказка будет восприниматься как «лёгкое чтиво» для детей или странная история. Пусть уж лучше будут копиться обвинения в адрес сказок – разбираясь с ними, появляется шанс приоткрыть истину…
Сказка – вовсе не ложь. Но в ней, действительно, лежит намёк. Ряд золотых ключей к информации. И даже обнаружение «изъяна» сказки является ключом к чему-то настоящему. Если, конечно, готово сознание и открыто сердце.
Но есть и другой ракурс у любимых сказок, который пугает взрослых: что делать, когда любимой становится сказка про монстра? Здесь же происходит «негативное программирование» через сам образ!
Как тут не вспомнить Конька-горбунка, который вздыхает в конце сказки (узнав про то, что Ванюше придётся купаться в котлах, «в молоке и двух водах»): «Вот уж служба так уж служба! Тут нужна моя вся дружба!»
Действительно, как исцелить ребёнка от деструктивных, но модных и привлекающих внимание образов, плодов чужого воображения? Как закрыть его уши от многочисленных «дудочек крысолова», за которыми идут предпочтения ребёнка? Есть способ! Всё начинается с неотвержения этих образов: они уже есть в коллективном сознании. «Хорошо, расскажи мне побольше об этом герое, откуда он родом, что ему уже довелось пережить. Ты мне расскажешь про своего любимого героя, а я тебе про своего. Договорились?», – с этого мы можем начать.
В современной индустрии образов «продаются» не столько сюжеты (сами сказки), сколько образы героев, сквозные персонажи. Монстроподобие является залогом продаж. Поэтому мы просим побольше рассказать про любимый образ, а потом рассказываем про своих любимых персонажей. Это справедливо. Так у ребёнка появляется альтернатива. А дальше… как говорится, «дело техники». Мы можем сочинить сказку про монстроподобного персонажа и отправить его в тот мир, откуда он родом (заблудился, бедняга!). Также нам по силам развернуть сюжет так, что откроется колдовство, из-за которого герой стал монстроподобным. Значит, можно расколдовать его, вернуть человеческий или иной облик. Анализ причин заколдованности позволит укрепить себя опытом героя.
Если ребёнок настаивает, чтобы монстры оставались монстрами, будем наблюдать за его игрой, стараться распознать, что она ему даёт. И… станем деликатно развивать его эстетическое чувство: приучать к хорошей музыке, смотреть вместе красивые картины. Развитое эстетическое чувство, чувство прекрасного помогут преодолеть инфекцию чужеродных образов.
Моё «в-девятых» получилось многословным. Тема образных и сюжетных предпочтений, любимых сказок неисчерпаема. Надеюсь, мы с вами немножко в ней сориентировались.
Наконец, в-десятых, наблюдая за ребенком, вы сможете понять, что его интересует. И ваша ассоциативная память, доступ к библиотеке жизненных сюжетов, знание основ сказкотерапии и сказкотворчества помогут вам подобрать уместную историю. Либо дать её прочитать, либо оперативно сочинить. Всё, что бы ни происходило в жизни, можно преобразовать в сказочный сюжет. В этой книге я с разных сторон рассказываю именно об этом, именно эту способность настраиваю.
И ещё один маленький совет «вдогонку»: не связывайте себя общепринятыми представлениями о том, какие сказки нужно читать в том или ином возрасте. Все индивидуально! Слушайте себя, наблюдайте за ребёнком, и всё получится так, как нужно именно вашей семье или вашему личному жизненному пути!
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе