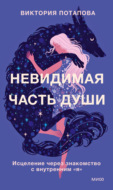Читать книгу: «Кабинет психотерапевта. Самоисследование и самоисцеление через опыт проходящих терапию», страница 3
– В смысле сон? – уточняю я.
– Да. Не знаю, это было так реалистично. Мне потребовалось время, чтобы снова прийти в себя… Будто я в Чернобыле. Спустя 30 лет после аварии. Я с группой туристов в автобусе. Мы едем по зоне отчуждения. Подъезжаем почти к самому реактору, короче, к бетонному саркофагу. Жуткое ощущение: в нем трещины. Я говорю: «Поехали отсюда!» И тут меня резко ослепила вспышка, а потом опять всё как ни в чем не бывало. Все тот же пейзаж, и я не сгорел. И такая тишина. В следующее мгновение я понимаю, что все вокруг излучает радиацию. Я сам облучен, радиация проникла внутрь меня, ведь на мне нет никаких защитных средств. Во сне я знаю, что у меня лучевая болезнь. И тут я испугался, стал задыхаться, соскочил с постели, кинулся к окну, покурил. Только под утро я успокоился.
Сон – воплощение того ужаса, который сидит в Конраде. Сам факт, что мужчина его увидел и даже запомнил, – для меня знак того, что внутри него началось определенное движение. Сны с точки зрения психоанализа – попытка психики осознать неосознаваемое. Иногда в них содержится то, что на языке психоаналитиков называется вытесненным. А иногда и то, что вообще прошло мимо сознания, как, кажется, в случае с Конрадом. Прежде чем смочь говорить о чем-то, мы сначала проживаем это во снах, в виде образов, интуитивно. Возможность рассказать появляется лишь в конце длинного пути, даже терапевтического. То, что беспокоит человека, он проигрывает внутри себя тысячи раз различными способами: в виде снов, образов, – прежде чем облачить в слова. Как психоаналитику, мне малоинтересно просто извлечь вытесненные воспоминания; гораздо больше меня занимает вопрос, как вообще возникают мысли, чувства – душевная жизнь. Видеть сны – своего рода первая ступенька к обдумыванию, другими словами, сон – островок, который возвышается над поверхностью океана безымянных состояний. О чем говорит сон Конрада? Конечно, у меня нет сонника, однако, обсуждая его содержание с Конрадом, я могу приблизиться к его пониманию. Почти час мы с ним посвятили этому сну.
Терапия все больше приближает Конрада к опасному ядру в его душе, в которой есть не только безжизненная пустыня, но и то, что все больше разрушает его, своего рода источник радиации. Даже если катастрофа случилась «30 лет назад», от нее по-прежнему исходит ядовитое излучение. Ведь быть невидимкой, не чувствовать себя любимым – катастрофа для человека, не подвластная времени. И вот он уже воздвиг вокруг этой зоны саркофаг, похоронив в нем свое чувственное «я». Саркофаг защищает его, но в то же время отрезает от эмоциональной жизни. Впервые за все время нашей терапевтической работы Конрад осознаёт, насколько ему больно. Сон дал нам метафору, которую мы будем использовать в терапии снова и снова: саркофаг.
– Это способ, которым вы до сих пор пытались справиться со своими чувствами. И это был лучший выход в ситуации, когда другой помощи ждать неоткуда, – объясняю я Конраду.
Он некоторое время молчит, но на этот раз тишина уже не гнетущая – наоборот. Кажется, словно внутри Конрада что-то происходит, как будто он борется с чем-то внутри себя. Вероятно, движение души, которое он пытается снова взять под контроль, побороть в себе? Несколько неуверенным голосом он наконец спрашивает:
– А что в этом саркофаге?
Я молчу. У меня нет ответа.
– Жутко, всю ночь после этого сна меня не покидало ощущение кошмара и опасности, – говорит Конрад.
Конрад описывает, что ему приходит в голову в связи с образом лучевой болезни: быть живым мертвецом, страдать от «синдрома ходячего мертвеца». По лицу человека этого не видно, он ходит, как все, через несколько дней после аварии, будто здоровый. Но в клетках своего тела он уже носит смерть. Конрад говорит, что никто не должен приближаться к «облученному человеку», иначе он сам будет облучен, «особенно это касается беременных женщин». Короче, никто, в ком есть жизнь.
На это я говорю:
– Мне кажется, что это прообраз того, как вы сами воспринимаете себя, как воспринимали еще до терапии, например в Новой Зеландии. Похороненным заживо, будто внутри вас есть то, что уничтожает все жизненные силы и все важные для вас отношения.
– Но туда ведь нельзя войти – в реактор, – произносит Конрад. – Ничто там не выживет. Там ничто не может выжить. Я читал: внутри есть только один черный гриб и он разрастется повсюду. Он приспособился к окружающей среде, питается радиацией. Думаю, лучше не входить.
– Вы боитесь втянуть в этот ужас остальных, – предполагаю я. – Отдать другим то, что носите в себе: вы не делаете их счастливыми, вы причиняете им боль. Как несчастной Люси. Вероятно, вы боитесь, что и меня надо защищать от содержимого саркофага.
Конрад глубоко вздыхает, это больше похоже на всхлип, но ничего не отвечает. Думаю, он сам жаждет моей помощи, но это палка о двух концах. Ведь я тоже веду его по мертвой пустыне его души к ее радиоактивному ядру. Даже не знаю, правильный ли этот путь, не представляет ли он реальной угрозы для Конрада, не разрушит ли наша работа его психику окончательно. Решающий вопрос: сможет ли он найти на этом пути то, что удержит его, сделает боль и страх терпимыми. Наши терапевтические отношения. Насколько они устойчивы, насколько Конрад доверяет мне? С ним по-прежнему очень сложно установить связь. В каком-то смысле мне тоже «страшно», я не уверен, что терапевтический процесс возможно удерживать под контролем. Меня начинает подташнивать: что, если я протяну ему руку помощи, а он не ухватится за нее и окончательно потеряет равновесие? Или ухватится, но я не смогу его удержать? Тот факт, что я осознал один из важнейших аспектов его сна лишь несколько дней спустя, когда говорить об этом было уже поздно, вполне соответствует моим личным страхам: Конрад поведал мне свой сон незадолго до зимних каникул, мы не увидимся больше трех недель. То видение также указывает на его страх перед тем, что может случиться, если он прорвется сквозь бетонную стену саркофага, а меня не будет рядом, причем несколько недель, которые покажутся ему нескончаемо долгими. С огорчением должен признать, что до этого момента я не замечал, как сильно Конрад уже пытается дотянуться до моей руки.
Катакомбы собственного «я»
Пошел второй год лечения. Конрад вернулся с рождественских каникул в плохой форме. Все это время он чувствовал себя отвратительно, почему – не знает. Почти все каникулы он провел в одиночестве, включая Рождество, но это его не сильно беспокоило: «Я не обращаю на это внимания». От приглашений друзей он отказался, сходив только на вечеринку в канун Нового года, но от этого стало еще хуже. Незадолго до полуночи он почувствовал такую тошноту, что едва мог терпеть.
– Какой-то страх, или – не знаю – будто белый свет вот-вот погаснет, или что-то в этом роде. Будто я не совсем на вечеринке и это все не по-настоящему. Я был рад вернуться домой и снова остаться в одиночестве. Вообще все три недели я был в таком сильном напряжении.
– Возможно, вам было тяжело оттого, что терапия не проводилась? Что меня не было рядом? – спрашиваю я.
Конрад подхватывает первую версию:
– Хм, да, может быть, отчасти сеансов мне не хватало. Возможно, они поддержали бы меня. Думаю, благодаря им я более стабилен. Я часто ловил себя на мысли: «Черт, этот перерыв». А есть вещи, от которых я хотел бы избавиться. Но потом смирился.
Конрад описывает меня и терапию не как отношения двух людей, между которыми существует эмоциональная связь, а скорее функционально, как терапевта с таблеткой, которую глотаешь, чтобы почувствовать себя лучше. Но его слова также свидетельствуют о том, что лечение для него приобрело большое значение.
На сеансах Конрад рассказывает новые сновидения. Меня удивляет, насколько изобретательна – даже чертовски креативна – его психика. Конраду снятся разруха, преследователи, гоняющиеся за ним по улицам заброшенного города, снова и снова лучевая болезнь, космический корабль, оказавшийся на пути нейтронной звезды, сияющего остатка взрыва. Чтобы увернуться, Конрад запускает двигатель на полную мощность, но притяжение слишком сильно, скорость космического судна слишком мала, его вырывает из корабля, он «прилипает» к гладкой поверхности «удивительно холодной звезды», не имея возможности пошевелиться, и в конце концов чудовищная сила гравитации расплющивает его.
Психика Конрада во сне постоянно создает катастрофические ситуации, в которых он ищет решение и не находит. Снова и снова он пытается убежать от угрозы, но безуспешно: слабый двигатель, город, в котором заперты все дома. В его снах всегда нет выхода, шанса на счастливый поворот событий, ни одного человека, который помог бы ему. Даже в собственных снах он одинок. Если сны иллюстрируют внутренний мир человека, то в мире Конрада нет спасения и нет отношений – он не может вырваться из себя, как космический корабль не способен противостоять притяжению нейтронной звезды. Мы называем то, чего он боится, катастрофой – это слово с расплывчатым значением, оно лучше всего выражает неконкретное внутреннее состояние. То, что описывает Конрад, – странные, деперсонализированные состояния, паника, – по-моему, проистекают из глубокого страха потерять свою внутреннюю структуру. Тошнотворное чувство, охватившее меня еще до рождественских каникул, вновь дает знать о себе во время рассказов Конрада. Думаю, мне нужно быть очень осторожным и осмотрительным. Конрад вступает в чувствительную фазу, когда его саркофаг становится все более хрупким, ведь этот бетон поддерживал и стабилизировал его. В то же время надежда есть только в том случае, если саркофаг откроется. «Отношения вместо бетона» – вот, пожалуй, самая краткая формула для определения результата нашей работы. Иногда Конраду удается выразить себя, пусть в виде сна, который он мне описывает. Но часто это не срабатывает. Иной раз на сеансах возникает состояние, которое я называю дрейфом. Конрад молчит, но не как человек, который размышляет, а как будто его внимание засасывает что-то внутри него. Тогда я не знаю, что с ним, грустит ли он или озабочен. Он просто как будто «ушел».
– Где вы? – спрашиваю я его.
Конрад тут же приходит в себя и отвечает, используя психологическую защиту:
– Что? Я просто думал, что приготовить сегодня на ужин.
Дверь в его внутренний мир закрыта даже для него самого. Мне кажется, он сам не знает, где только что был, и заполняет пустоту внутри себя чем-то неважным. В такие моменты мне становится жутко, потому что дверь между нами тоже закрывается и внутри него происходит то, что остается полностью скрытым от меня. Что-то тревожит его, наполняя будничную жизнь смыслами, но я не знаю какими. Навязчивые идеи? Странности поведения, симптомы процесса внутреннего распада? Или он всегда был таким и только сейчас открылся мне?
Конрад опоздал на автобус по дороге с работы. По какой-то необъяснимой причине он не просто раздосадован, а настолько глубоко задет, что аж оцепенел. Он стоит, подъезжает следующий автобус, он хочет сесть в него, но не может. Он прикован к месту, видит, как открывается и закрывается дверь, – беспомощный и злой, – и автобус уезжает. Так он пропускает несколько автобусов, пока ему не удается выйти из ступора, сесть в салон и доехать до дома. Вместе мы пытаемся понять, что могло произойти. «У вас есть какие-то соображения на этот счет?» – спрашиваю я. Но у Конрада нет идей, он описывает свое состояние так: он сам, его тело, разум «сжались до одной точки в пространстве». Может, пропущенный автобус ассоциируется у него с жизнью, в которую он никак не может попасть? Той, которую он упускает? Это настолько его расстраивает, что он позволяет ей проходить мимо, не включается в нее, даже когда появляется такая возможность. Однако вряд ли эти очевидные интерпретации справедливы. Мое мышление в этот момент тоже заблокировано. В подобных состояниях внутреннее и внешнее как будто размываются. Можно сказать, что опыт сновидения вплетается в повседневную жизнь Конрада, что-то настолько угрожающее приближается к нему, что порой ему становится все труднее отделить внутренний опыт от явлений окружающего мира. Сцену с автобусом он переживает так же, как сон о нейтронной звезде, от которого он не может увернуться. Но это не игра разума, не метафора, не сон, а конкретное поведение.
Одна из важнейших задач нашей психики – отделить воображаемое, внутреннее, от действительного, внешнего. Это разделение обеспечивает нам наше «я», в психоанализе в связи с этим говорят о проверке реальности. Данная способность не врожденная, а вырабатывается в детстве и, вероятно, никогда не может быть освоена в полной мере. Сон и бодрствование гораздо труднее различить, чем мы готовы признать. Чем больше внутренний мир загружен аффектами, «радиоактивной материей», тем мощнее давление, которому подвергается «я». Внутренний опыт прорывается наружу, проявляясь в конкретных действиях; мы перестаем различать, где явь, не можем взглянуть на себя со стороны и, следовательно, не можем судить о себе и своем «я». Конрад больше не может сказать: «Мне кажется, я не двигаюсь с места, пока остальные двигаются вперед». Он просто не идет на автобусную остановку – он говорит уже не словами, а действиями.
Психотерапия – поиск слов для внутренних переживаний, проникновение в голову. Обдумывание – это установление связи между внутренним импульсом и действием, осознание своих поступков. Если мы не способны к рефлексии, границы нашего «я» оказываются под угрозой. В этом смысле уход в нечувствование (так сказать, блокировка души) становится защитной мерой, предотвращающей разрушение нашего «я». Не это ли угрожает Конраду? Неужели терапия запускает процесс, который буквально сводит его с ума? Я вспоминаю страх, с которым Конрад начинал терапию, стену, которую он воздвиг вокруг себя, чтобы ни одна эмоция не проскользнула внутрь. Только сейчас уже понятно, как сильно Конрад хотел защититься от того, что могло разрушить его изнутри.
Самое страшное случилось в середине второго года терапии. Конрад рассказывает мне, как он после сеанса едет на велосипеде домой через весь город. Сам не зная почему, во время движения он закрывает глаза и продолжает путь. Мне неизвестно, действительно ли Конрад ехал с закрытыми глазами, или ему просто так показалось, вариант дрейфа, так сказать. Но я реально почувствовал опасность: а вдруг с ним что-то случится? Конрад, напротив, рассказывал об этом эпизоде очень спокойно, со странным, свойственным ему с самого начала наших встреч безразличием. Я нервничаю, мне вдруг захотелось схватить Конрада за руку, как будто в моем воображении он может сорваться вниз по склону, если я его сейчас не ухвачу. Я не поддаюсь порыву, но бурная фантазия заставляет меня сказать (пожалуй, даже слишком громко): «То, что вы описываете, меня пугает».
Конрад удивленно поднимает глаза, смотрит на меня. На мгновение у меня возникает ощущение, что мне удалось достучаться до него; мне кажется, что он вдруг осознал свой страх через испуг в моих глазах и между нами открылся проход. Он сглатывает и говорит: «Простите, я не хотел».
Это деликатная фаза любой терапии, когда пациент вступает в контакт со своим раненым «я», освобождается от собственных защит и открывает двери в давно закрытые пространства души. Но только так может зародиться что-то новое. Ведь речь именно о том, чтобы осознать, что вам больше не нужны защиты, что сегодняшний день отличается от вчерашнего. Контакт с собственным эмоциональным миром может быть целительным или угнетающим. Порой тут тонкая грань.
Состояние Конрада пробуждает во мне желание унять собственные эмоции, как будто я хочу помешать ему слишком быстро ослабить защиту. В кабинете царит невыразимый страх, беспричинный, ни перед чем, жуткое нечто, которое просто есть. Но – и это важно – не только Конрад, но и я чувствую этот страх. На одном из сеансов я говорю в тревожно-напряженной тишине: «Думаю, мы оба сейчас там, перед саркофагом». Ощущение, что время медленно тянется, посещавшее меня раньше во время сеансов, ушло, но теперь напряжение и тревога берут верх. У Конрада часто дрожит голос на наших встречах, при каждом удобном случае он повторяет: «Мне страшно. Так холодно».
И действительно, хотя на улице сентябрь и еще тепло, Конраду так холодно, что он тянется к одеялу, лежащему рядом с креслом.
Однажды ему приснился мальчик, запертый в подвале «глубоко под землей». Там так темно, что он сомневается, не ослеп ли он. Он ощупывает стены в поисках выхода, но повсюду только холодный камень. Его охватывает паника, он зовет на помощь. Он знает, что по ту сторону стены кто-то точно есть, но не слышит его. Во сне Конрад вдруг понимает, что видит сон, но не может пробудиться. Как будто он, как и мальчик, теперь заперт в собственных грезах. Он видит себя лежащим в своей постели, вокруг темно, нигде нет окон, – он кричит, пока не вырывается из сна. В ужасе он включает свет. Конрад испытывает облегчение, когда понимает, что с его глазами все в порядке, но с тех пор спит только с включенным светом. Приступы паники, которые будили его по ночам в начале лечения, наконец обрели форму снов. Это страх, замурованный в пустых подземельях его души, где никто не слышит криков, где он беспомощен и слеп.
Несмотря на весь ужас, сон намекает и на что-то новое: проскальзывает мысль, что есть тот, кто может помочь, хоть образ его смутный и находится он вне досягаемости, за стеной. Это еще не воплощение кабинета психотерапевта с дверями и окнами, где существует взаимопроникновение между внутренним и внешним, где возможна связь между ним и другим человеком. Тем не менее во сне уже нет безнадеги, он скорее свидетельствует об отчаянной попытке нащупать выход.
Как годичные кольца дерева сужаются к центру, так Конрад с каждым разом ухватывает всё новые нити в своей биографии. Событие уже знакомое, но каждый раз, когда он рассказывает о нем, его описания становятся всё более яркими, обрастают деталями, которые он всегда помнил, но считал малозначительными. Конрад рассказывает, и в это время в кабинете появляется маленький мальчик. Я сопереживаю ему. Его рассказ трогает меня за живое. Конрад описывает мир, погрузившийся в глубокую меланхолию, а точнее, в психическую болезнь – болезнь его матери. В ходе разговора он замечает, что, возможно, дома все было «не так уж и нормально, но в детстве ты не задаешься такими вопросами».
Но прежде чем заговорить о тяжелых воспоминаниях, ему надо вспомнить о чем-то хорошем – о матери, которая бывала не только в угнетенном и безрадостном настроении. Случались ведь и лучшие времена. В присутствии отца мать «брала себя в руки». Когда он бывал дома, она готовила ужин, занималась Конрадом и хозяйством, не просто отправляла его спать, как обычно, а читала сказку на ночь. Тогда он слушал ее голос с закрытыми глазами, прижимался к ней и медленно засыпал.
Я буквально чувствую, как трудно Конраду говорить о «другой» матери. Я пытаюсь поддержать его. Нелегко найти слова, чтобы рассказать о темной стороне своей биографии. Многие пациенты испытывают потребность воздерживаться от любых упреков в адрес родителей, особенно если их личная история отмечена глубокой обидой на взрослых, – они стараются припомнить хорошее, и оно почти всегда находится. Ни один ребенок не может прожить это чувство, даже в воспоминаниях. Но важно описывать события такими, какими они были, или, по крайней мере, так, как Конрад действительно их пережил. Потому что, на мой взгляд, только так можно понять суть его бесконечных поисков.
По словам Конрада, пока отец был в разъездах, матери было труднее «взять себя в руки». День ото дня ей становилось все хуже. «Как воздушный шарик, из которого медленно выходит воздух, пока он окончательно не сдуется и не будет валяться без признаков жизни».
Конрад описывает разные сцены из воспоминаний. Из них я выбрал особенно значимые.
Конраду восемь лет, отец в рейсе. Мать лежит в постели, уже полдень. Мальчик уже знает это ее состояние, но в тот день он не может вынести ее вида, затемненной комнаты, «этой гнетущей тишины в квартире». Он хочет придумать что-нибудь, что заставило бы маму почувствовать себя лучше, и решает сварить ей суп. Маленький мальчик, который уже привык готовить сам, гремит кастрюлями и напевает себе под нос, получая большое удовольствие. Вдруг в дверях появляется мать. «Конни!» – зовет она, и Конрад удивленно оборачивается. Он радуется, увидев мать, думает, что ему удалось взбодрить ее, хочет похвастаться тем, что «наколдовал» для нее, начинает рассказывать, но мать перебивает его: «Конни, не обязательно так шуметь!» Когда до нее доходит, что Конрад старался для нее, ей становится стыдно за свои слова. Она извиняется. Теперь она еще более подавлена. Она не была плохим человеком. «Но она не могла иначе. Для нее все было “слишком”. Ей и меня было слишком много». Мать снова отправляется в постель, а Конрад приносит ей суп. «Поставь сюда, Конни! Спасибо», – просит она. Когда он заглядывает к ней несколько часов спустя, то видит, что она не притронулась к еде. Так продолжалось несколько недель. Но потом она вдруг снова начинала мыться, приводить себя в порядок и заниматься домашними делами. «Тогда я понимал: папа скоро вернется. Для него она могла встать с постели. Для меня – нет».
Полагаю, в этом кроются глубокая обида и чувство беспомощности: почему отцу удается вернуть мать к жизни, а ему нет? Однако сомневаюсь, что в семье было возможно реальное оживление, даже в присутствии папы. Насколько я понимаю, речь шла всего лишь о том, что мать что-то делала. Конрад описывает атмосферу в семье как безрадостную, без всякого интереса к жизни и даже друг к другу. Даже отец ни о чем не расспрашивал его, когда они находились в одной комнате. Усталый, он вечно сидел на диване перед телевизором. Так было всегда на памяти Конрада. На старых фотографиях мать уже в своем привычном виде: старается, но впечатление такое, что для нее это слишком, как будто она постоянно изнурена, как будто вся ее жизнь была утром после бессонной ночи, когда приходится за уши вытаскивать себя из постели. Примечательно, что его фотографий с отцом из тех времен вообще нет. Мне кажется, вся жизнь Конрада отмечена одиночеством. Будто он постоянно получает от жизни пустышки, как молоко без вкуса; то, что сохраняет ему жизнь, но не делает его счастливым. Лишь изредка он вспоминает, что в жизни бывают какие-то близкие связи. Это видно из другого его детского воспоминания, где родители появляются лишь мельком.
Конрад с другом на улице, они играют в футбол. Друг постоянно нарушает правила, тянет Конрада за футболку или подставляет ему подножки. «Внезапно я сильно испугался, – говорит Конрад. – Абсурдная ситуация. Я закричал, ударил его. Приятель был ошеломлен, он даже не защищался. Такого он от меня не ожидал, обычно я был тихим и подчинялся». Испугавшись самого себя, Конрад побежал прочь и спрятался в маленькой нише в стене. Съежившись и решив, что он один, Конрад тихо расплакался.
– Знаете, что во всем этом было действительно удивительным? – Конрад бросает на меня быстрый взгляд и снова опускает глаза. – Мой приятель нашел меня и все извинялся и извинялся. Он даже хотел подарить мне свой футбольный мяч. Я не решался выходить из ниши. Но не потому, что я все еще злился на него.
Я пробую предположить:
– Вам было стыдно, что друг стал свидетелем вашего отчаяния.
Конрад кивает:
– Да. Он тогда сходил за своей матерью, потому что она вдруг оказалась в проеме ниши.
Конрад думал, что она будет ругаться. А случилось наоборот:
– Она так по-доброму со мной разговаривала. Спрашивала, что произошло, из-за чего мне так грустно. Она выглядела такой обеспокоенной. Я не знал, что ей ответить. Но я хотя бы вылез из ниши. – Мать друга обнимала Конрада и гладила по голове. – Было приятно. Я не знаю. Но это было как-то странно.
И вот Конрад приходит домой, мать сидит за столом. Ее лицо ничего не выражает, она устало приветствует его с отсутствующим видом. Отец лежит на диване, смотрит телевизор.
– Внезапно собственный дом показался мне чужим. Аж до боли, – говорит Конрад.
– До боли? – переспрашиваю я.
– Да, до боли, – повторяет Конрад.
– Потому что стало ясно, чего не хватает, – продолжаю за него я.
– Да, – произносит Конрад, и мы оба сидим, молчим.
Я представляю, что мог чувствовать Конрад: где-то есть добро, кто-то любящий, тот, кто ищет тебя в твоем укромном местечке, – но все это происходит не с ним. Не у него дома. А с другом, которого утешает мать. Где-то на дальней автостраде с отцом, который забрал с собой сердце матери. Почему его родители не очнутся и не посмотрят на него? Где они все время? Где-то далеко есть место, полное тепла и света, куда стремится Конрад, но между ним и этим местом лишь печаль пустых пространств.
Описанная сцена напоминает наши сеансы: добро, которое вы хотите дать, не может попасть в нужные руки. Как мать Конрада не ест суп, который он ей приготовил, так и он сам не может принять подарок от друга – футбольный мячик, – потому что он выстроил вокруг себя баррикады.
Каждый человек трансформирует свой опыт взаимоотношений с людьми в объекты своего внутреннего мира или, выражаясь психоаналитическим языком, во внутренние объекты. Заинтересованный взгляд родителей, наблюдающий за нашими действиями, их дружеский тон превращаются в наш внутренний голос, который мы слышим, даже когда родителей уже нет рядом. Мы с интересом наблюдаем теперь за собой сами, объясняем свои поступки, как будто внутренние родители участвуют в нашей жизни с той же вовлеченностью, какую мы в прошлом получали от настоящих родителей. Но что, если мы переживали этот опыт слишком редко? Опыт таких отношений становится частью нашего «я». Мы приобретаем внутренних родителей, которым мы не интересны: наши поступки исчезают в темноте, мы не можем наполнить их смыслом. Это отсутствие внешней реакции в итоге становится отсутствием внутренней реакции: что бы мы ни делали, это не кажется нам хоть сколько-нибудь значимым.
Душа ребенка – мастер выживаемости. Она получает то, что ей нужно для жизни, даже в самых неблагоприятных условиях. То, что она не находит в родительском доме, она ищет в других местах, у других людей: бабушек и дедушек, соседей, друзей, воспитателей, учителей, которые могут стать для ребенка значимыми фигурами. Думаю, это закономерно, что Конраду не удалось найти такую фигуру: судя по всему, еще в детстве он смирился с ситуацией. Кажется, он так и не разорвал внутреннюю связь с вечно отсутствовавшими родителями, а самоизолировался от внешнего мира, вместо того чтобы получить иной опыт. Трагедия Конрада в том, что он не может открыть дверь, даже когда другие стучатся в нее. Не мог ни в юности, ни с Люси, ни с Таней.
Ни со мной? Полагаю, я тоже долго был для него далеким и неосязаемым. И все же мой терапевтический кабинет не пустая Вселенная. Это заметно по тому, как Конрад цепляется за мои слова, и мы вместе формулируем метафору, разгадываем ее смысл. Это все своего рода футбольные мячи, которые Конрад принимает и отыгрывает, совершая таким образом шаг к новому опыту.
Тусклый свет
Для меня это был трогательный момент, когда чувственная часть Конрада – робкая, застенчивая, все это время державшая руку на дверной ручке – начала проявляться. По собственному желанию, без всяких уговоров с моей стороны. Пошел уже третий год терапии. На сеансе в понедельник Конрад рассказывает, что планировал провести выходные как обычно, в одиночестве, но в субботу вечером снова почувствовал себя странно. Он не отмахнулся от своих чувств, как обычно, а позвонил другу. Он удивился, что Конрад вышел на связь, но и обрадовался. В тот же вечер они встретились, выпили пива и посмотрели футбольный матч.
Я спрашиваю Конрада, как поговорили.
– На самом деле все было довольно мило. Он спросил меня, чем я занимаюсь. Мы давно ничего не слышали друг о друге. Я сказал ему… Не знаю, у меня сейчас все не так уж радужно, я снова подумываю о смене работы… А он сказал, что у него тоже был похожий этап в жизни… Это был замечательный вечер. Моя футбольная команда проиграла. Но мне все равно полегчало, всю ночь я проспал абсолютно спокойно.
В этот момент я размышляю, стоит ли мне что-нибудь сказать, установить за него взаимосвязь, которая вроде и так очевидна: ему полегчало, потому что он не чувствовал себя одиноким. В тот вечер он вспомнил о другом человеке, с которым мог бы созвониться и пообщаться, которому было бы интересно то, что он говорит. Этот не спланированный заранее вечер похож на тайный шифр, подобный тем, которые мы разгадываем на наших психотерапевтических сеансах. Видимо, Конрад пережил определенный опыт в ходе терапии, который теперь переносит в свою повседневную жизнь, который считает возможным разделить с другими людьми.
Затем Конрад сам высказывает следующую мысль:
– Хм, думаю, мне надо было с кем-нибудь встретиться… Думаю, это был способ уйти от одиночества.
Я повторяю за ним:
– От одиночества?
Помолчав некоторое время, будто весь смысл этих слов становится очевидным только в тишине, Конрад произносит:
– Да.
В дальнейшем рассказы Конрада становятся более яркими, он дополняет их собственными мыслями, как будто теперь смотрит на мир из его центра. Произнося «я», Конрад говорит именно о себе, а не как сторонний наблюдатель. В то же время наш разговор вне времени и места словно заземляется, когда речь заходит о таких простых вещах, как провести выходные. В голове мелькает мысль: вот и первая попытка посадить свой космический корабль. У меня впервые такое ощущение, что он чего-то хочет. Но пока неясно чего. Когда он заговаривает о романтических отношениях – например, о том, что он хотел бы снова с кем-нибудь познакомиться, – создается впечатление, что он все еще думает о Тане. Ее ребенок, чья фотография так и стоит в его гостиной, уже ходит в школу. Конрад видит снимок каждый день. Никто не провожает его, когда он уходит утром на работу, и никто не встречает, когда вечером он возвращается домой.
Чем больше Конрад открывается, тем отчетливее я чувствую ту печаль, которая сопровождает его так давно. Он описывает одну сцену из детства: он стоит вечером у окна, мать лежит в постели, отец в отъезде. Он смотрит на оживленную улицу и вечерние огни. В другом воспоминании, мальчиком, он гуляет один по окрестностям до автодорожного моста на окраине городка, откуда открывается красивый вид на дорогу с проносящимися мимо легковыми и грузовыми автомобилями.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе