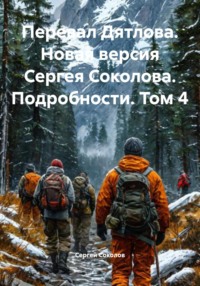Читать книгу: «Перевал Дятлова. Новая версия Сергея Соколова. Подробности. Том 4», страница 8
Заметка
84.
Переохлаждение
.
Продолжаем обсуждение моей версии и понемногу фФприближаемся к моей гипотезе гибели туристов группы Дятлова.
В предыдущей Заметке мы подробно изучили такую форму существования материи, как жизнь.
Туристы на момент трагедии были живы. А в результате трагедии погибли. Гибель – это прекращение жизни. Казалось бы, теперь, когда был рассмотрен процесс жизни, самое время рассмотреть, как эта жизнь прекратилась, то есть процесс гибели.
Но есть ещё один очень интересный процесс, который произошёл после покидания туристами палатки, но до их гибели. И этот процесс – переохлаждение. Казалось бы, это естественный процесс, когда человек, выйдя на холод, испытывает воздействие отрицательной температуры. Естественно также, что в этих условиях может наступить переохлаждение.
Когда туристы в состоянии неконтролируемого страха и ужаса, вызванного инфразвуком, экстренно покидали палатку, понятно, что у них не было возможности подумать о возможном переохлаждении и позаботиться о тёплой одежде и обуви. Всем известно, что туристы покинули палатку без обуви, в носках. Но они были ещё и без рукавиц. И переохлаждению подверглись не только ноги, но и руки. А переохлаждение было сильным, вплоть до обморожения. Судмедэксперт Возрожденный отмечает этот факт в актах исследования погибших.
Зинаида Колмогорова: "Отморожение третьей четвертой степени концевых фаланг пальцев рук."
Рустем Слободин: "Отморожение пальцев верхних конечностей третьей, четвертой степени."
Игорь Дятлов: "Отморожение пальцев конечностей III и IV степени."
Юрий Дорошенко: "Отморожение пальцев конечностей III и IV степени."
Георгий Кривонищенко: "Отморожение пальцев конечностей".
По четвёрке туристов, обнаруженных в ручье, сведений об отморожении в актах исследования нет. Но и пятерых туристов (55%) достаточно, чтобы сделать вывод – сильное переохлаждение у туристов было.
Насколько серьёзными были указанные в актах отморожения?
III степень. Пострадавший испытывает нестерпимые, длительные боли, кожа приобретает багрово – синюшный цвет. Пузыри образуются редко, отёк выражен, выходит за границы поражения кожи. Все виды чувствительности отсутствуют. Наступает омертвление кожи и подкожно – жировой клетчатки. Мёртвые ткани чернеют, отторгаются, вызывая нагноения. Образовавшийся дефект заживает по типу вторичного натяжения ткани в течение 40 – 60 дней.
IV степень. В первые дни мало отличается от отморожения III степени, однако, боли могут быть весьма интенсивными или практически отсутствовать. Самопроизвольное отторжение омертвевших тканей затягивается надолго, нередко осложняется гнойной инфекцией. Развивается сухая или влажная гангрена поражённого органа.
Такие повреждения туристы могли получить только в условиях сильного переохлаждения. Все отморожения являются прижизненными. Туристы в конечном итоге замёрзли, но это было не отморожение, а замерзание. Отморожение застигло только пальцы конечностей, ткани лиц отморожены не были, хотя при замерзании лица туристов были открытыми и находились в снегу.
Любой человек, испытывая переохлаждение, даже инстинктивно пытается согреть части своего тела. Туристы почему-то этого не делали.
Понятно, что в такой одежде и без обуви туристы выскочили из палатки сгоряча. Но дальше у них была возможность согреть руки и ноги. Не будем говорить о возвращении в палатку. Хотя Николай Андреев в своей книге пишет:
"Но допустим, под влиянием инфразвука помутились у них мозги. Но отбежали бы метров на 50 – 100, на котором заканчивается воздействие инфразвука, пришли бы в себя, вернулись бы к палатке."
Николай Андреев прав. Но допустим, испытав в палатке ужас, туристы не сочли возможным в неё возвращаться, остановил страх. Однако они должны были почувствовать, как у них мёрзнут руки и ноги. Каждому из нас приходилось испытывать, как в сильный мороз мёрзнут ноги даже в ботинках и сапогах. Вспомните, как согревались герои фильма "Ирония судьбы", прыгая по улице Ленинграда под речёвку "Надо меньше пить". Я сам прыгал на платформе Львовская, ожидая электричку. И многие рядом со мной прыгали, пытаясь согреться. По опыту знаю, когда мёрзнут ноги или руки, не заметить этого невозможно и спокойно наблюдать за этим, ничего не предпринимая, тоже невозможно.
А туристы подвергались переохлаждению в течение нескольких часов вплоть до отморожения конечностей. А ведь могли разрезать свитер и обмотать ноги. Могли нарезать бересты и привязать к ногам. Могли засунуть голые руки в карманы или за пазуху. Могли. Но ничего не предприняли, предпочитая терпеть и выполнять работы по выживанию в состоянии переохлаждения. И даже спустя достаточно большое время, когда туристы решили идти к палатке, они шли к ней, не утеплив ноги и руки, хотя утеплить было чем – на настиле были невостребованные тёплые вещи туристов и части этих вещей.
Возникает вопрос – как такое могло быть?
И чтобы ответить на этот вопрос, надо подробно рассмотреть процесс передачи в мозг информации о переохлаждении того или иного участка тела. Потому что только неким сбоем в работе этой системы можно объяснить факты отсутствия реакции организмов туристов на переохлаждение.
При этом речь не идёт о терморегуляции, процесс терморегуляции – это нечто другое, и этому будет посвящена отдельная Заметка. Речь идёт всего лишь об информировании организма о переохлаждении его участков.
Итак, как же организовано это информирование?
Датчиками системы являются терморецепторы.
Терморецепторы – рецепторы, воспринимающие температурные сигналы окружающей среды. Они являются составной частью системы терморегуляции, обеспечивающей поддержание температурного гомеостаза у теплокровных организмов. За открытие молекулярных механизмов, лежащих в основе терморецепции и механорецепции, Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну была присуждена Нобелевская премия по физиологии 2021 года. Как видим, это открытие произошло совсем недавно.
У млекопитающих периферийные терморецепторы расположены в коже, в роговой оболочке глаза, на слизистых оболочках. Терморецепторы есть также во внутренних частях тела. Рецептивные поля кожных терморецепторов образуют пятна чувствительности к холоду или теплу размером около 1 мм, составляющие нечто вроде мозаики. Сигналы от терморецепторов передаются в спинномозговые нейроны и по спиноталамическому и спиноретикулярному путям достигают соответственно ядер таламуса и ретикулярной формации. Далее эти сигналы передаются в ядра гипоталамуса, ответственные за вегетативную регуляцию тепловыделения и охлаждения организма, и соматосенсорную кору. В самом гипоталамусе есть термочувствительные нейроны, которые отслеживают локальные изменения температуры головного мозга и регулируют её. В последние годы установлено, что температура тела регулируется не только гипоталамусом, но и другими термоэффекторными путями с собственными афферентными и эфферентными ветвями.
Периферийные терморецепторы делятся на холодовые, которые воспринимают сигналы холода, и тепловые – воспринимают сигналы тепла. Когда температура окружающей среды находится в так называемом «нейтральном» диапазоне, приблизительно в районе 30 °С, то и тепловые, и холодовые рецепторы работают с минимальной активностью. Активность терморецепторов возрастает тем больше, чем сильнее отклонение от нейтрального диапазона. Различают четыре типа афферентных сигналов от термочувствительных рецепторов. При умеренном снижении температуры, примерно в диапазоне от 30 до 15 °С, активируются холодовые рецепторы, что субъективно ощущается как прохлада или холод. При повышении температуры среды свыше 30 °С увеличивается активность тепловых рецепторов, что ощущается как тепло или жар. Ниже 15 °С и выше 43 °С активируются не только терморецепторы умеренного тепла или холода, но и болевые рецепторы, чувствительные к экстремальному жару или экстремальному холоду, и к температурным ощущениям примешиваются болевые.
Механизмы работы терморецепторов активно изучаются на молекулярном уровне. В настоящее время считается, что основную роль в чувствительности к температуре играют белки из семейства TRP, образующие мембранные ионные каналы.
Первичные термочувствительные нейроны – это псевдоуниполярные нейроны, тела которых расположены в спинальных ганглиях, а аксоны разделяются на две ветви. Первая ветвь иннервирует периферийные ткани, например, кожу или слизистые оболочки, и является сенсором температуры. Вторая ветвь передаёт сигналы вторичным нейронам в спинном мозге или чувствительным ядрам головного мозга. Тела термочувствительных нейронов, иннервирующих голову и лицо, расположены в тройничном ганглии. Температурные сигналы передаются по нервным волокнам типа Aδ (миелинизированным) и типа C (немиелинизированным) и могут идти по трём путям. По миелинизированным волокнам типа Aδ быстро передаются сигналы, требующие немедленного реагирования, например, когда требуется избежать ожога при соприкосновении с раскалённым предметом, и в этом рефлексе отдёргивания участвуют интернейроны спинного мозга, включающие рефлекторный ответ без участия высших отделов нервной системы. По немиелинизированным волокнам типа C информация передаётся медленно и через вторичные интернейроны спинного мозга по спиноталамическому пути, достигает таламуса и далее соматосенсорной коры, где включаются интегративные функции субъективного восприятия температуры. Наконец, третий путь передачи сигнала ведёт в боковое парабрахиальное ядро (на стыке моста и среднего мозга), откуда информация о температуре поступает в ядра преоптической области гипоталамуса, отвечающие за терморегуляцию. Исследования, проведённые в 2017 году, указывают на относительную важность этого последнего пути.
В основе механизма чувствительности к температуре на молекулярном уровне лежит изменение ионной проводимости каналов, образованных особыми белками. Частота спайков нейронов зависит от ионной проводимости канала, которая, в свою очередь, зависит от температуры. В последние десятилетия были обнаружены несколько белков из семейства TRP (transient receptor potential), профили температурного отклика которых охватывают весь физиологический диапазон температур. Эти белки считаются наиболее вероятными кандидатами на роль молекулярных сенсоров температуры. Однако предполагается наличие и других, пока ещё неизвестных молекулярных механизмов термочувствительности, и исследования в этой области продолжаются.
Гипоталамус воспринимает сигналы переохлаждения. Этот отдел мозга получает информацию от терморецепторов всего организма, производит её оценку и отдаёт органам – посредникам указания к действию для осуществления того или иного изменения.
Также температурные сигналы поступают в островковую кору мозга, точнее, в её заднюю часть. Здесь обнаружились нейроны, которые реагируют на потепление, на похолодание и на то и на другое.
Кроме того, чувствительные к холоду нервы в коже посылают электрические сигналы в преоптическую область гипоталамуса, которая регулирует температуру тела.
Ещё одна структура мозга, которая реагирует на понижение температуры, – соматосенсорная кора.
Более подробно этот вопрос изложен на ресурсе "Наука и жизнь".
Мозг измеряет тепло отдельно от холода
Для температуры у нас есть специальные рецепторы, причём разные виды рецепторов реагируют на разные диапазоны температур.
Но белки-рецепторы лишь воспринимают какой-то стимул и превращают его в нейронный сигнал. Сигнал бежит в мозг, но куда именно в мозг?
Известно, что есть несколько мозговых отделов, которые воспринимают температурную информацию. Один из таких отделов – гипоталамус, от которого зависит множество физиологических процессов, начиная от сна и заканчивая терморегуляцией. По данным об окружающей температуре гипоталамус настраивает обмен веществ и определяет, сколько энергии потратить на обогрев.
Но также любая сенсорная информация приходит и в кору полушарий. И в том, что касается температуры, до последнего времени не было понятно, как именно кора полушарий её измеряет. Отчасти на этот вопрос отвечают исследования сотрудников Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка и берлинского медицинского центра Шарите. Экспериментируя с мышами, они рассчитывали, что найдут температурные нейроны в первичной соматосенсорной коре, про которую известно, что она реагирует на осязательные сигналы и понижение температуры. Однако оказалось, что, хотя соматосенсорная кора реагирует на похолодание, она не реагирует на потепление.
Островковая кора, или островок, лежит в глубине латеральной борозды, скрытая наползающими на неё другими участками коры.
Дальнейшие опыты привели исследователей к другой зоне – островковой коре, точнее, к задней части островковой коры. Здесь обнаружились нейроны, которые реагируют на потепление, нейроны, реагирующие на похолодание, и нейроны, реагирующие на то и на другое. При этом нейроны, которые принимают температурные сигналы от расположенных рядом участков кожи, сами тоже расположены рядом друг с другом в островковой коре. В статье в Nature исследователи пишут, что характеристики импульсов, которые «термонейроны» генерировали в ответ на тепло и холод, были разными; например, ответ на потепление длился дольше, чем ответ на похолодание.
Если температурные нейроны в островковой коре отключали, у мышей слабела чувствительность к температуре. Слабела – не значит исчезала: всё-таки тепло и холод в мозге анализируют разные центры (гипоталамус и соматосенсорная кора), причём всё осложняется тем, что для тепла и холода могут быть отдельные нейронные цепи. Сами авторы работы уточняют, что кора мозга состоит из нескольких слоёв нейронов, а клетки температурной чувствительности они искали только в двух слоях. Возможно, в той же островковой коре есть и другие температурные нейроны, и в перспективе предстоит выяснить, что они делают с температурными сигналами, как преобразуют и как совмещают – если совмещают – с другими сенсорными сигналами, в первую очередь, с осязательными.
Нобелевскую премию по медицине или физиологии дали за осязательные и температурные рецепторы
Благодаря Дэвиду Джулиусу из Ардему Патапутяну мы узнали, как чувствуем тепло и объятия.
Вряд ли нужно лишний раз объяснять, какую роль органы чувств играют в нашей жизни. Проблемой восприятия окружающего мира с давних пор занимались лучшие умы человечества, причём начиналось всё с философов, а потом к этому подключилась и наука. Очевидно, что для разных ощущений у нас есть разные каналы передачи. Но со зрением, обонянием, слухом и вкусом дела обстоят как будто проще – у нас есть глаза, уши, язык и нос. А как быть, например, с ощущением температуры? Или механическими ощущениями трения, поглаживания, давления и т. д.? Для них и органов чувств-то нет, температуру и давление мы ощущаем всей кожей, и не только кожей, но и внутренними органами.
Достаточно давно нейробиологи выяснили, что для стимулов разной интенсивности есть разные нервы, например, что на обычное прикосновение и на боль от удара реагируют разные нервные волокна. За это открытие в 1944 году была присуждена Нобелевская премия по физиологии или медицине. Но оставался вопрос, как именно нервы воспринимают такие стимулы, или, иными словами, как стимул – давление, удар, изменение температуры – превращается в электрохимический нервный импульс.
Один из новых лауреатов Нобелевской премии, Дэвид Джулиус, ответил на этот вопрос для температурных стимулов. Во второй половине 90-х годов ему и его коллегам в Калифорнийском университете в Сан-Франциско пришла в голову мысль, что механизм температурного чувства можно исследовать с помощью капсаицина – жгучего растительного алкалоида, который содержится, например, в перце чили. В нейронах, которые передают сигналы боли, сигналы повышенной температуры и сигналы механического давления, синтезируется множество белков, чья ДНК известна. И вот исследователи пересаживали эту ДНК из сенсорных нейронов в другие клетки, которые ни боль, ни температуру, ни прикосновения не чувствуют. И дальше такие модифицированные клетки обрабатывали капсаицином.
В итоге удалось обнаружить рецепторный белок TRPV1. Он реагирует на капсаицин и на очень высокую температуру, когда мы уже начинаем чувствовать боль. TRPV1 – ионный канал, который сидит в мембране сенсорного нейрона и открывается под действием температуры. Через открытый канал ионы перегруппировываются между наружной стороной и внутренней стороной мембраны – так возникает электрохимический импульс, который бежит по нервам в мозг.
TRPV1 – не единственный температурный рецептор. Для других температур есть свои рецепторные белки. Например, рецептор TRPM2 работает в диапазоне от 33 до 38°С, а TRPM8 включается, когда температура падает ниже 26°С. Кстати, TRPM8 независимо друг от друга открыли Дэвид Джулиус и второй нынешний лауреат Ардем Патапутян. (Кстати, TRPM8 нашли с помощью «холодного» ментола – как TRPV1 открыли с помощью «горячего» капсаицина.) Но свою половину премии Ардем Патапутян получил не столько за холодовой TRPM8, сколько за рецепторы механического давления. Он и его коллеги из Института Скриппса в конце 2000-х экспериментировали с сенсорными нейронами, которые реагировали на прикосновения: на клетки надавливали микропипеткой, и клетки отзывались электрическим сигналом. Генов, которые могли бы кодировать нужный рецепторный белок, насчитали аж 72. По очереди отключая их в клетках, исследователи нашли те, которые действительно кодируют механосенсорные белки – это были гены Piezo1 и Piezo2.
Понятно, как бы мы чувствовали себя без температурной чувствительности – мы бы просто не выжили, не умея ощутить опасный холод или вовремя спрятаться от жары; и это мы ещё не говорим об иммунологических процессах, когда температура тела повышается или понижается в зависимости от интенсивности воспаления. То же самое можно сказать про рецепторы Piezo. С их помощью мы в прямом смысле ощущаем землю под ногами, ложку в руке, объятия и поцелуи – но также и давление мочи в мочевом пузыре, положение тела в пространстве (здесь особенно важен рецептор Piezo2), а наш организм с помощью Piezo следит за кровяным давлением и дыханием. Как обычно, «нобелевские» открытия в медицине и биологии сообщают нам не только что-то новое о фундаментальных процессах в живой природе, но и имеют вполне практическое измерение: зная, как работают температурные и механосенсорные рецепторы, мы можем лучше понять механизм множества заболеваний.
Европейским ученым удалось показать, что ключевую роль в регуляции температуры тела играет белок TRPM2, действующий в нейронах гипоталамуса. Об этом рассказывает статья, опубликованная журналом Science.
Все млекопитающие поддерживают температуру тела в узком диапазоне около 37 °C, и любой выход за его пределы связан с развитием патологических процессов. Ключевым регулятором температуры выступает гипоталамус, крошечный орган промежуточного мозга, содержащий чувствительные к теплу нейроны (Warm-Sensitive Neurons, WSN). Молекулярные механизмы их реакции на повышение температуры оставались неизвестными. Лишь теперь немецкие и итальянские ученые, работающие под руководством профессора Гейдельбергского университета Яна Сименса, обнаружили молекулу, которая служит температурным сенсором этих нейронов.
Авторы проводили эксперименты с культурой нейронов преоптической области гипоталамуса, индуцируя у них ответ на критическое (вплоть до 45 °C) повышение температуры. Нейроны, активирующиеся при этом воздействии, идентифицировались при помощи "кальциевой визуализации". Этот метод позволяет следить за потоком ионов кальция, которые связываются с белками – индикаторами, вызывая их флуоресценцию. При этом учёные последовательно ингибировали работу различных ионных каналов на мембранах нейронов.
Среди белков, реагирующих на температуру, обнаружились известные «рецепторы холода» TRPC5, TRPM8 и STIM1/ORAI1, а также белки TRPV1-3 и TRPM3, участие которых в создании ответа на повышенную температуру удалось отбросить в ходе последующих опытов. В результате учёные остановились на рецепторе TRPM2, белке – переносчике катионов, функции которого до сих пор были плохо понятны. Авторы получили культуры клеток с нокаутированным геном TRPM2, показав, что такие нейроны на повышение температуры вовсе не реагируют. Это подтвердили и опыты на мышах, в гипоталамус которых инъецировали сигнальную молекулу, вызывающую лихорадку. У мышей с дефектными генами TRPM2 рост температуры был более значительным, чем у дикого типа – 40,4 °C против 39,6 °C.
Таким образом, учёными установлено, что сигналы от терморецепторов в конечном итоге поступают в гипоталамус и анализируются там. Именно гипоталамус выдаёт команды на компенсацию переохлаждения на молекулярном уровне организма, а также формирует окончательный сигнал, свидетельствующий о переохлаждении, в нашем сознании.
И если такой сигнал не формируется, значит в этой системе происходит сбой. А сбой этот может происходить на различном уровне работы системы.
Нарушение работы терморецепторов из вероятных причин сбоя можно исключить сразу – терморецепторов в организме много, они расположены в разных местах, и одновременного нарушения их работы в принципе быть не может. Тем более у девяти различных организмов туристов. То же можно сказать и про нейросети передачи информации гипоталамусу. Сами нейросети вряд ли могли отключиться и перестать передавать информацию от терморецепторов, причём одновременно у всех девяти человек.
Остаётся уже известный нам гипоталамус. Терморецепторы формировали сигнал переохлаждения и передавали его через нейросети гипоталамусу. Причин нарушения этого процесса нет. А вот гипоталамус имел функциональные нарушения в работе и не выдавал нужной реакции на сигналы терморецепторов, в том числе и сигнал о переохлаждении, в сознание туристов.
То есть у туристов было переохлаждение, но разум туристов этого не ощущал, поэтому они спокойно продолжали свои действия и переохлаждение не тревожило их, они его не чувствовали – не чувствовали ни холода, ни сопутствующей отморожению боли.
Что же могло послужить нарушению функционирования гипоталамуса, причем одинаковому для всех туристов? Конечно же, внешнее воздействие, и таким воздействием мог быть возникший в районе трагедии инфразвук.
Гипотоламус является очень важным участком головного мозга, определяющим саму жизнеспособность организма. Функциям гипоталамуса и влиянию его на работу органов человека будет посвящена отдельная Заметка, поскольку из всей имеющейся информации вырисовывается участие этой области мозга в гибели туристов. Ведь если терморегуляторная функция гипоталамуса была заблокирована инфразвуком, то организм туристов не реагировал не только на переохлаждение, но и на замерзание. И это возможный ответ на вопрос, почему туристы погибли от переохлаждения и не смогли предпринять никаких действий по сохранению жизни.
Общеизвестно, что инфразвук может оказывать воздействие на органы человека на резонансных частотах этих органов. В число этих органов входит и головной мозг.
Общеизвестно, что инфразвук вызывает неконтролируемый страх и ужас. Почему это известно? Потому что это яркое и очевидное проявление воздействия. А другие воздействия на головной мозг человека ведь тоже существуют, но это не общеизвестный факт, а предмет специальной медицинской литературы.
А в ней сказано: "Влияние инфразвука на гипоталамус заключается в том, что при акустическом раздражении этой структуры происходит нарушение нейрогуморальной регуляции висцеральных органов (сердца, кровеносных сосудов, кишечника и т. д.).
Также возбуждаются гипоталамо – гипофизарные центры, которые регулируют изменение ритмов во время сна и пробуждения, эндокринную секрецию."
Исследование влияния инфразвука на терморегулирующую функцию гипоталамуса просто – напросто не проводились, потому что ситуация, когда вслед за страхом и ужасом наступает замерзание, нетипична. В зоне действия промышленных источников инфразвука нет условий для замерзания. Но анализ событий с группой Дятлова позволяет сделать предположение, что именно это влияние стало причиной гибели туристов.
Некоторые исследователи считают, что неадекватные действия туристов были вызваны их сумасшествием. Факты не подтверждают эту теорию. Действия туристов нельзя назвать неадекватными. Сумасшедшие люди так себя не ведут. Фактически, необычным в их действиях является лишь одно – игнорирование процесса переохлаждения. Причём не на уровне разума, а на уровне функционирования организма.
И это возможно только при блокировании системы терморегулирования головным мозгом, конкретнее – гипоталамусом.
Теперь, когда мы подробно рассмотрели процесс жизни и происходившие при этом события, можно постепенно переходить и к рассмотрению процесса гибели. Но это уже в следующих Заметках.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе