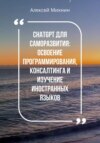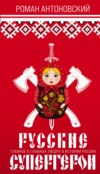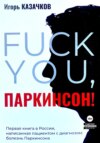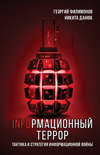Читать книгу: «Искусство жить, или Как быть счастливым, несмотря ни на что», страница 8
Интроспекция заключается в таком наблюдении за собственными мыслями и эмоциями, при котором мы «отделяем» мысли и эмоции от «себя как наблюдателя». Отличие от метода «взгляд со стороны» в том, что мы снова «раздваиваемся», но та часть себя, которую мы назначили «наблюдателем», находится внутри и следит за мыслями и эмоциями, наблюдает за процессом их возникновения. «Наблюдатель» – это не «ум» и не «эмоции». Он просто фиксатор, датчик, пытающийся уловить возникновение эмоции и возникающие мысли, оценки, суждения. Если вас охватила какая-то эмоция, значит, произошёл мыслительный процесс. Попробуйте уловить, о чём вы при этом подумали. Освоив хотя бы в общих чертах способы самонаблюдения, мы сможем приступить к постижению следующего уровня анализа мыслительного процесса: разложению его на отдельные элементы, осознанию его структуры.
Скажем, вы заметили как ваш муж или молодой человек любезничает с незнакомой красоткой, не зная, что вы где-то рядом. Вы взволнованы и испытываете ревность. Вы можете не считать это «настоящей ревностью», но чувство неприятной тревоги возникает. С этим горьким чувством вы будете жить некоторое время, размышляя об увиденном. Ревность может подвигнуть вас на разные действия, в зависимости от характера, воспитания, обстоятельств и проч. Одни дамы в этой ситуации подбегают и начинают громко возмущаться, некоторые пытаются дать пощёчину и т. п. Другие молча отойдут в сторонку и обронят слезу, третьи расскажут об этом подругам, четвёртые примут решение типа «ах ты так, ну тогда я тоже…» и пойдут звонить «старому другу». У каждой возникнет свой мыслительный процесс, однако их структуры будут похожи друг на друга.
Структура умственного процесса
Структуру типичного умственного процесса можно описать в виде последовательных операций: опознавание, присваивание отклика, присваивание статуса, операция сравнения. Прежде чем их описать подробнее, рассмотрим пример.
В первом издании книги я в виде примера описывал ситуацию с хамоватой продавщицей картошки, обидевшей покупателя. Приятно сознавать, что бывшая некогда вполне типичной подобная ситуация практически исчезла из сегодняшней жизни: продавцы нынче вежливы. Тем не менее как модельный пример её можно привести вновь, а читатель легко вспомнит подобные – в смысле взаимоотношений людей и возникающих эмоций – ситуации с другими персонажами и в других обстоятельствах.
Итак, наглая, невоспитанная продавщица на вопрос покупателя «Сколько стоит картошка?» отвечает: «На ценнике все написано, сами, что ли, не видите?» Покупатель оказался настолько чувствителен, что распереживался, обиделся, сделал продавщице замечание, а в ответ получил ещё большую грубость. Попробуем «увидеть» мысли обидчивого покупателя, раскладывая их на элементы, которые потом мы опишем как структуры мыслительного процесса.
Начнём с банально-очевидного: покупатель «опознал» продавщицу как человека, который торгует овощами, в частности картошкой, и не ошибся. Далее он, пытаясь удовлетворить желание купить картошку, решил узнать её стоимость. В этот момент он осуществляет «операцию присвоения отклика»: продавщица знает цену и должна ответить на вопрос. На этом шаге он подсознательно допустил два предположения, одно верное, другое – не совсем. Продавщица знает цену, это верно, но то, что она должна отвечать на вопрос, нуждается в корректировке. Мы с вами, исходя из опыта и в соответствии с правилами торговли, полагаем, что продавщица должна ответить, причём вежливо. Однако она – в силу неизвестных нам обстоятельств (неприятности в личной жизни, переживание выговора от начальства, размышление о выявленной недостаче – да мало ли причин, способных сформировать у невыдержанного, невоспитанного человека готовность нагрубить!) – не готова отвечать на вопрос каждого покупателя, тем более что ценник, на котором все написано, действительно имеется. Так возникла первая «ошибка присваивания»: покупатель приписал, «присвоил» продавщице определённый формат отклика – обязанность отвечать на наш вопрос, а она таковым качеством в действительности, по крайней мере в данный момент, не обладает. Получилось, что его ожидания не соответствуют действительности, он огорчён, возмущён, обижен.
К этим эмоциям его привёл неосознаваемый мыслительный процесс, проходящий следующие типичные стадии (подробнее в книге Ю. Орлова «Исцеление философией», ссылка в списке литературы).
Опознавание.
У возникшей эмоции есть источник. Скажем, есть некто, обидевший вас, нагрубивший, нахамивший. Эмоция вспыхнула мгновенно, но за это мгновение ум успел произвести несколько операций. Первое, что он сделал – зафиксировал событие и «признал» его существование в действительности, а не в качестве фантазии, вымысла. Второе – «опознал» обидчика. Делается это автоматически, подсознательно, без произнесения каких-то мыслительных слов типа «это продавщица».
Присваивание отклика.
Мы вошли в ситуацию с некими ожиданиями. Мы ожидаем, что врач выслушает наши жалобы, близкий человек посочувствует и даст совет, мать утешит, а от встречи с автоинспектором мы душевной теплоты не ожидаем, так уж нас научила жизнь, но соблюдения определённых норм общения ожидаем и от него. Мы также ожидаем наличия определённых навыков у тех, к кому обратились, и готовности их применить: сантехник починит кран, компьютерщик наладит компьютер, продавщица продаст и т. д. В нашей памяти, жизненном опыте накоплены ожидания определённого отклика, модели поведения от друзей, знакомых, родных и близких, коллег по работе и т. п.
Присваивание статуса.
То, что мы сейчас опишем, как присваивание статуса, тоже никогда нами не осознается, это происходит автоматически. Разделять этот процесс на элементы бывает нужно только тогда, когда мы проводим наш сеанс саногенного мышления и хотим «разобраться» с эмоцией.
Мы подсознательно придаём событиям разное значение: одни кажутся важными, другие – не очень. Придание «значения» – важный фактор в формировании эмоций. Чем больше высокий статус (значение) объекту (в рассматриваемом примере – обидчику) мы придаём, тем сильнее будет возникающая эмоция. Вернее смотреть на это так: чем сильнее возникшая эмоция, тем, стало быть, более важное значение придало этому ваше подсознание. Скажем, объект «мой начальник» наделяется подсознанием высоким статусом: то, что он скажет или сделает, важно, его значение в жизни велико. Велико значение уважаемых вами людей, родных и близких, друзей, а вот значение и статус незнакомых людей не должны быть такими же высокими. Авансом мы, конечно, уважительно относимся ко всем людям, но есть кто-то более или менее для нас значимый. Подсознательно, а порой и сознательно мы это учитываем в межличностном общении. Именно по причине их высокого статуса мы так остро реагируем на близких людей. Мы легко и сильно обижаемся на своих жён и мужей по таким поводам, которые остались бы незамеченными в общении с чужими людьми, потому что статус близких людей, значение их мнения и поведения для нас очень важны. Мы чувствительны по отношению к мнению тех, кого считаем авторитетами, от кого зависим, кому хотим понравиться и т. д. В обычной жизни мы об этом знаем, хоть и не формируем рейтинги значимости среди всех своих знакомых.
В случае, когда вспыхивает эмоция, процесс присваивания статуса происходит автоматически, вне нашего контроля. Мы не осознаем, какой статус кому мы присвоили. Мы вообще об этом не думаем. А думать об этом надо: осознав ошибочность, завышенность статуса, присвоенного нашим подсознанием обидчику, мы не станем так остро реагировать на обиду, сможем контролировать свои переживания.
У покупателя возникла эмоция: его обидела продавщица. Большинство людей в этой ситуации особо переживать не станут: посмотрят на ценник, узнают стоимость и тут же забудут о не слишком вежливом ответе продавщицы. Но наш покупатель иной: он страшно огорчился! А почему? Из-за одной только ошибки присваивания отклика? Нет, он допустил ещё и другую ошибку, оказавшую сильное влияние: он завысил статус продавщицы. Мало того, он весьма не кстати «включил» свою Я-концепцию и неуместно завысил собственный статус! Взыграли чувство собственного достоинства («Как это продавщица могла так со мной разговаривать, ведь я уважаемый человек») и чувство социальной озабоченности («Куда катится государство! Разве такими должны быть отношения в обществе?!»).
Сила эмоции действительно зависит и от того, насколько для обидчивого гражданина значим собственный образ «спрашивающего покупателя» и образ «вежливого продавца». Он посчитал это признаком собственного достоинства и успеха в жизни, признания личной значимости в глазах окружающих. Все это в сумме привело к переживаниям, скачку давления, испорченному настроению. Как мы видим, значение события и как следствие – степень эмоции определяется многими факторами и весьма индивидуально. Наш несчастный покупатель, запуская свои эмоции, произвёл ещё несколько умственных действий, среди них – операция сравнения.
Операция сравнения
Сравнение – это основное, что делает наш ум. Это его прямая обязанность. В результате процесса сравнения он должен выдать команду: «это лучше, а это – хуже», «это делай, то не делай». Когда мы пользуемся умом для рассуждений о внешнем мире, мы более или менее контролируем и сам процесс сравнения, и те критерии, которыми наш ум пользуется: «Туда не ходи, сюда ходи: снег башка попадёт…». Когда наш ум действует во внутреннем мире, он трудится бесконтрольно, но оператор сравнения включается самопроизвольно на каждом этапе мыслительного процесса.
В структуре мыслительного процесса первым шагом является опознавание ситуации. В ней тоже содержится процесс сравнения. Информация о типичных жизненных ситуациях накапливается с опытом и хранится в памяти. Опознавание ситуации состоит в сравнении данной ситуации с типичными образцами, имеющимися там. В результате этого ум либо находит некие уже случавшиеся подобные ситуации, либо определяет ситуацию как происходящую впервые. И в том, и в другом случае возникает некая поведенческая рекомендация. Какими критериями при этом руководствуется подсознание, сказать трудно, но так или иначе возникает некая программа поведения, которую подсознание, что-то с чем-то сравнивая, выбирает и признает правильной.
Операции сравнения продолжаются: идёт формирование образа ожидаемого результата. Это некая «внутренняя цель» подсознания, которая, конечно, как-то связана с «внешней целью», возникшей в результате появления потребности. Напомню, что мы разбираем процесс подсознательного умственного действия, возникающего в связи с внутренними переживаниями, которые никак не вербализуются, не «опредмечиваются». Поэтому мы до поры до времени не можем сказать, каков образ внутренней цели, но вправе предполагать, что подсознание его сформировало и утвердило программу действий. Как только мы начинаем действовать, выполняя подсознательно сформированную программу, наш ум переходит из области подсознания в область сознания, наши действия и образы опредмечиваются, мы начинаем осознавать прежде неясные мотивации как рациональные цели.
Последнее оценивание в цепочке сравнений: соответствует ли полученный результат той цели, которая была поставлена вначале – «внешней» цели? Если результат согласуется с требуемым, то возникает чувство удовлетворения, а если не согласуется, возникает неприятное переживание внутреннего конфликта, каковым могут быть разочарование, обида, стыд, вина и прочие эмоции. При многократном повторении сходных ситуаций формируется стереотипные, автоматические, неосознаваемые ответы организма на ситуацию. Формируются умственные привычки или автоматизмы ума.
То, что мы выше описали, упрощённая схема мыслительного процесса, порождающего эмоции. Можно ли им управлять, если он неосознанный и автоматический? Можно, если сделать его осознанным. Для этого надо, пережив неприятную эмоцию, попытаться понять, какой мыслительный процесс проходил в нашем подсознании, разбить его на этапы, выделить операции опознания, отклика, присваивания статуса и сравнения. На каждом шаге возможны ошибки, и надо попытаться их выявить. Если вернуться к примеру с продавцом, то на первом шаге – опознание – можно было ошибиться, если это был не продавец, а грузчик или подсобный рабочий, оказавшийся за прилавком. Ошибка могла быть и на втором шаге: присваивание отклика, ожидание вежливого и содержательного ответа. Можно напомнить себе, что мир и общество не всегда такие, какими могут и должны быть, и продавцы не всегда соответствуют своему назначению, нарушают правила торговли, что бывает не так уж редко, так что надо быть готовым к жизненным реалиям и не огорчаться при встрече с ними. Ошибка могла быть и на третьем шаге: присвоение статуса. Вы сами возвели незнакомого продавца в ранг тех персон, чьё мнение, поведение и оценка для вас важны настолько, что всякое отклонение от ожиданий для вас болезненно. Разве так должно быть? Неужели каждый лавочник имеет для вас такое же значение, как родные и близкие, друзья и коллеги? К операции сравнения у вас претензий нет: ум сравнил ваши ожидания с тем, что произошло в действительности, и вынес вердикт: имеет место расхождение. А вот огорчаться этому или нет – ваше дело. Автоматизмы возбуждают эмоцию возмущения, недовольства, обиды, но теперь вы, я-наблюдатель, стоите над схваткой и гасите вспыхивающую эмоцию, находите успокаивающие слова типа «продавщица оказалась невоспитанной дурой» или что-то подобное.
Мы на примере разобрали процесс возникновения эмоции и процесс анализа мыслительного процесса, после того, как все произошло. Можно ли управлять этим процессом в режиме реального времени, когда отрицательная эмоция ещё не возникла, когда её ещё можно избежать? Да, можно. Разбирая реальные случаи так, как это сделано выше, мы «познаем себя» и обучаемся. Через некоторое время мы уже будем заранее знать, что от себя можно ожидать, и на каждом шаге будем готовы и к неожиданной для вас реакции извне, и к нежелательной собственной реакции на происходящее, сумеем смягчить её или вовсе не допустить.
Мы представляем, как осуществляется управление машинами, механизмами, людьми, группами людей, предприятиями, государствами. Понимаем, что это – осознанные способы управления: есть цели, планы действий, рычаги управления, управляющий. В природе существуют процессы, протекающие как бы сами собой, без видимого управления. Например, физиологические процессы в нашем организме «управляются сами»: мы не даём желудку команду – переваривать, глазам – смотреть, сердцу – качать кровь и т. д. На самом деле все они управляются генетически заданной программой – рост растения, сложная система взаимодействия органов, контролирующих и поддерживающих параметры жизнедеятельности – организмом. Все это – управляемые процессы, детально рассмотрев которые мы сможем отыскать причины отдельных фрагментов и понять: не будь причин, играющих роль команд управления, не было бы и их следствий, процесс пошёл как-то иначе.
В области психической деятельности есть те, что управляются осознанно, когда я понимаю проблему и даю себе команду действовать так, а не иначе, вести себя так, а не по-другому. Есть и психические процессы, протекающие без нашего непосредственного участия, идущие как бы сами по себе. Процессы, порождающие эмоции, чаще всего, протекают именно так. Это отражается даже в языке. Мы «вспыхиваем» от гнева или обиды, нас «охватывает» чувство ревности или страха и т. д. Мы описываем эти явления как не зависящие от нас, мы не говорим «я зажёг в себе гнев» или «возбудил в себе страх». Именно в этой автономности, самостоятельности и неуправляемости состоит проблема нашей зависимости от мира эмоций, в этом причина мимолётности и неуловимости счастья.
Источником и причиной запуска деятельности являются потребности: жажда, холод и др., они побуждают к поиску воды, тепла и т. д. Если воду удалось найти и жажда утолена, возникает эмоция удовлетворения. Она берет на себя управление поведением и рекомендует, например, лечь отдохнуть или вернуться к прежним занятиям. Если найти воду долго не удаётся, возникают эмоции беспокойства, тревоги, страха, и уже они начинают управлять нашим поведением.
Эмоции (обида, вина, стыд, зависть, отвращение, гнев, страх и др.), взяв на себя управление поведением, включают специфические, автоматические программы поведения, в том числе и нежелательные. В гневе человек совершает то, что не стал бы делать в обычном состоянии, так как он в это время «не в своём уме»: управление полностью взяла на себя эмоция. Сознание (ум) при этом отходит в сторону, сфера его ответственности сужается, и оно начинает подчиняться, служить управлению, осуществляемому эмоцией. Эмоция подчиняет себе интеллект, волю, и мы кричим от страха, бежим неизвестно куда, оскорбляем кого-то сверх всякой меры или рыдаем от обиды.
О поведении мы говорим «правильное» и «неправильное». Мыслительный процесс – это тоже своего рода поведение, только ума. Оно тоже бывает «правильным» и «неправильным», «хорошим» и «плохим», если оценивать его с точки зрения движения к состоянию удовлетворения, к счастью. Наша цель – научиться следить за ходом своих мыслей, изменять плохое поведение ума на хорошее, управлять им.
Алгоритмы управления
«Управлять» значит каким-то образом изменять ход и содержание процессов для достижения желательной эмоции. Мы более или менее хорошо представляем себе, что такое управление людьми в государстве, в организации, в компании друзей или в семье: ставится какая-то цель, продумывается последовательность действий, прогнозируются ожидаемые результаты и т. д., при этом применяется некий набор приёмов: убеждение, принуждение, воодушевление, манипулятивное воздействие и т. д. Почти всегда в управлении людьми присутствует то или иное сочетание кнута и пряника, наказания и поощрения, насильственного и ненасильственного воздействия.
Суть насильственного управления можно выразить формулой: если ты сделаешь не то, что надо, или не сделаешь то, что от тебя требуется, тебя ждут неприятности (неприятные эмоции), наказание. При ненасильственном управлении нас стимулируют, воодушевляют делать то, что от нас ожидают не из страха перед наказанием – его не будет, – а из стремления соответствовать ожиданиям. Наградой будет поощрение и приятные эмоции.
Теперь подумаем о том, как управлять самим собой и своими мыслями. В процессе управления есть руководитель и исполнитель. Когда мною кто-то управляет или я кем-то управляю, эти две роли очевидны. Если я управляю сам собой, то я играю обе эти роли одновременно. Чтобы контролировать процесс управления самим собой, надо научиться выявлять эти две роли в себе самом и в сложившейся ситуации. Надо распознать тех руководителей, которые во мне «пробудились» и стали управлять. Такими могут быть возникшие физиологические потребности (голод, жажда, ощущение холода и т. п.). социально обусловленные потребности, ставшие чертой характера или установками (стремление к успеху, власти), эмоции (страх, обида, вина и т. д.), некие черты личности, обусловленные культурой, традициями и т. п. Они могут конфликтовать друг с другом: воспитание предписывает не вставать во время концерта в зале филармонии, а физиология властно направляет в туалет. Если нам удаётся осознать элемент своего поведения как исполнение того, что было нами же задано, мы обретаем возможность эффективно управлять процессом. Когда мы это осознаем, нам надо будет выбирать способ управления: насильственное или ненасильственное. Оба подхода есть в нашем распоряжении.
Действуя насильственно, я формирую такой алгоритм: если ты не совершишь требуемого действия, то тебя охватит неприятная эмоция. При этом исполнительская часть реагирует соответственно: надо избежать неприятной эмоции, то есть подчиниться, но подчинение может породить (и нередко порождает) другую неприятную эмоцию. Действуя ненасильственно, я формирую другой алгоритм: если ты поступишь так, как я говорю, тебя ждёт позитивная эмоция. Отклик на это воздействие со стороны я-исполнителя: надо постараться поступить так, как требуется, и испытать приятную эмоцию. Как видим, различие между двумя методами не только в подходе, но и в последствиях. К сожалению, мы делаем этот выбор неосознанно и, чаще всего, выбираем насильственный метод, метод принуждения, потому что он нам гораздо лучше знаком. Цивилизационная культура, в которой мы существуем веками, нас подталкивает именно к этому – насильственному – методу управления.
Насильственный метод управления глубоко проник во все сферы нашей жизни. Угроза наказания лежит и в основе юридического права. Почти все вероучения основываются именно на страхе наказания. Общество, которое могло бы отказаться от такого подхода, пока никому построить не удалось. Страх до сих пор является основным и безотказным средством манипуляции общественным сознанием. Но в отношениях с самим собой мы можем это изменить! Метод насильственного управления приводит к патогенному, омрачающему жизнь мышлению, в то время как ненасильственный подход формирует оздоравливающее. Научившись управлять самим собой ненасильственно, мы начинаем все дела делать с удовольствием. Мы можем обрести позитивную мотивацию в самых скучных или неприятных делах, которые приходится делать каждому! Мы можем награждать себя собственным счастьем за правильное умственное поведение, за мастерство овладения своим эмоциональным миром.
Начислим
+26
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе