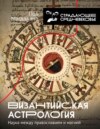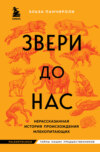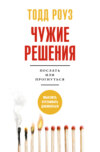Читать книгу: «Предназначение человека. От Книги Бытия до «Происхождения видов»», страница 2
И все же со временем ученые осознали, что природа человека сложна. Например, младенцы еще до того, как начать говорить, проявляют поразительную склонность помогать другим, даже незнакомым, людям. Десятки экспериментов говорят не только об удивительной склонности людей к альтруизму, но и о том, что именно благодаря эволюции мы считаем альтруизм благотворным28. Интересное наблюдение было сделано в ходе эксперимента с детьми, не достигшими двух лет: те из них, кто отдавал свою конфету другому, чувствовали себя счастливее, чем те, кто ее получал29. Откуда берется эта склонность к альтруизму? Как эволюция создает существ, предрасположенных к тому, чтобы отдавать и даже жертвовать собой в чрезвычайных обстоятельствах? Отвечая вкратце, можно сказать, что есть несколько эволюционных механизмов, сформировавших человеческую природу. Во многих случаях эти силы влекли нас в разные стороны, таким образом порождая в нас противоположные наклонности. Следовательно, хотя эгоизм остается неотъемлемой и плачевной частью природы человека, альтруизм также представляет собой врожденную и не менее мощную сторону, присутствующую в каждом из нас.
В последующих главах я надеюсь убедительно показать, что эволюция ответственна не только за темные наклонности человека – она также лежит в основе просоциального и морального поведения. Это поможет нам справиться со второй дилеммой и увидеть, что мы не окончательно – или, по крайней мере, не только – эгоистичны. Разрываясь между эгоизмом и альтруизмом, мы оказываемся вовлеченными в непрерывный конфликт, поэтому неудивительно, что в нашей жизни так много трудностей и надрыва.
В целом идея книги состоит в том, что именно при помощи эволюции Божественное существо создало жизнь на Земле, включая жизнь человека. Если это так, то при тщательном изучении и правильном понимании эволюции и человеческой природы мы сможем увидеть, в чем состоит цель нашего существования. Другими словами, то, как мы были сотворены, поможет нам понять, для чего мы были сотворены. Правильное представление о том, как это случилось, также поможет лучше разобраться в человеческой природе и узнать, как стать счастливее и сформировать общество, раскрывающее добрые гены нашей природы.
Принцип 1: эволюция не была случайной. Еще со времен Дарвина по умолчанию предполагалось, что эволюция была полностью случайным и бессистемным процессом. Другими словами, если бы вы могли отмотать время на несколько миллиардов лет назад и запустить процесс эволюции заново, природа явила бы совершенно иной результат. Однако недавние открытия побудили многих ученых пристальнее отнестись к этой точке зрения. Одной из главных причин для этого послужил биологический феномен, известный как конвергентная эволюция. Это процесс, в ходе которого неблизкородственные виды эволюционируют независимо друг от друга, но приобретают одну и ту же структуру или способность, позволяющие им справляться с одинаковыми проблемами – скажем, проблемой полета. Например, летучие мыши, птицы и бабочки имеют крылья и могут летать, но при этом у их общего предка не было ни крыльев, ни способности к полету. Значит, летучие мыши, птицы и бабочки научились этому независимо друг от друга. Эхолокация – способность перемещаться в пространстве, посылая вокальные сигналы и интерпретируя их паттерны в зависимости от того, как они отражаются от физических структур, – развилась независимо у летучих мышей, дельфинов и одной из разновидностей креветок. Следовательно, можно говорить, что практически любая биологическая черта или структура эволюционировала не единожды. Создается впечатление, что в этом процессе были задействованы принципы высшего порядка, задающие направление эволюции.
Хотелось бы пояснить: я не утверждаю, что эволюции не было. Но с учетом того, насколько поразительно сложна жизнь, нужно поставить под сомнение предположение о том, что этот процесс был совершенно случайным. С этим согласны даже самые упрямые дарвинисты. Вероятность того, что элемент случайности имел место, действительно велика, но поскольку в процессе эволюции раз за разом возникали одни и те же биологические формы, мы можем предположить, что она также была подчинена высшим химическим и физическим законам. Некоторые ученые даже говорят о «более глубоких организационных процессах, поддерживающих эволюцию»30, и признают, что даже если течение эволюции было случайным, это еще не значит, что таким же был и ее исход. Кажется, что все обстоит именно так, даже если мы не понимаем высших принципов, ответственных за эволюционный процесс. С учетом естественных законов, управляющих Вселенной, появление жизни в известном нам виде представляется неизбежным.
Принцип 2: по всей видимости, в ходе эволюции природа успела заложить в нас противоборствующие наклонности. Как было сказано выше, те выводы касательно человеческой природы, к которым подводит нас эволюционный процесс, представляют собой одну из ключевых причин, по которым нам до сих пор так тяжело смириться с идеей об эволюции. Легко вообразить мир, в котором выживают лишь агрессивные и жестокие эгоисты, и все же картина остается куда более сложной. Некоторые эволюционные механизмы, в том числе взаимный альтруизм, непрямая реципрокность, родственный, индивидуальный и, возможно, даже групповой отбор (подробнее о них будет сказано позже), влекут нас в разные стороны. В результате эгоизм, агрессия и жестокость стали нашими печальными спутниками – но ими же стали альтруизм, сотрудничество и доброта. Именно это явление я буду называть дуальным потенциалом человеческой природы. Следует отметить, что просоциальные наклонности человека, такие как любовь, альтруизм, сотрудничество и прочие, вероятно, сильнее всего проявлялись в отношении тех, с кем в процессе эволюции гоминин чаще всего делил свой генетический материал. Иными словами, положительные наклонности прочнее всего укреплялись среди членов первобытной семейной ячейки.
Принцип 3: свобода воли – ключевой аспект человеческой природы. Несмотря на значительный прогресс в области нейробиологии и понимании человеческой природы, свободу воли по-прежнему трудно рассматривать в качестве предмета научного исследования. И все же с точки зрения субъекта свобода воли неоспорима. Мы живем сознательной жизнью. Никто не думает о себе как о некой пассивной части мозга или тела. Мы все считаем себя, по крайней мере отчасти, «ответственными» за то, чтобы свободно направлять и контролировать свое внимание, мысли, речь и действия. И пусть даже ведомые благой целью ученые и философы высказываются против существования свободы воли, непрестанно возрастающая совокупность доказательств в ее пользу поддерживает представление о том, что мы ею обладаем. Как именно эволюция наделила нас свободой воли (и как эта воля развивается с младенчества до зрелости в отдельно взятой личности), все еще остается великой тайной. Более того, наличие свободы воли еще не означает, что ее не ограничивают факторы, связанные с биологией или окружающей средой, или что наши решения не подвержены в значительной степени влиянию культуры. В конечном итоге я склонен видеть в имеющихся у нас наблюдениях из области психологии доказательство, что на каком-то базовом уровне люди – это свободные, ответственные и агентные существа. Этот принцип жизненно важен для точного понимания природы человека и играет решающую роль в формировании цели нашего бытия.
Если задуматься о вышеописанных принципах, то может показаться, что цель нашей жизни (или, по крайней мере, одна из целей) – выбрать одну из соперничающих сторон: альтруизм или эгоизм, сотрудничество или агрессию, любовь или похоть. Если выразить эту же мысль в терминах, от которых мы по большей части уже отказались, то можно сказать, что основополагающая цель человеческого бытия в том, чтобы сделать выбор между добром и злом, присущими нам изначально. Жизнь – это экзамен.
Во второй половине книги я поделюсь системой взглядов на человеческую природу, в основу которой легли эти принципы. Эта система поможет понять, как выбрать нашу лучшую природу (и тем самым создать достойное общество), а также взойти на вершину индивидуального счастья и благополучия (и тем самым выбрать достойную жизнь).
Принцип 4: крепкие семейные отношения – ключ к достойной жизни. О человеческом счастье написано много книг, и хотя этих книг недостаточно, чтобы узнать о нем все, мы уже сейчас, благодаря огромному количеству психологических свидетельств, можем чрезвычайно отчетливо увидеть, что отношения с другими – это важнейший фактор нашей радости и удовольствия31. Я утверждаю, что причиной этого является эволюция. Прежде, когда запасы ресурсов были скудны, а бедствия – многочисленны и внезапны, наличие крепких отношений и сплоченного коллектива играло действительно важную роль в жизни человека – настолько важную, что в результате формирование и поддержание крепких взаимоотношений стало важнейшим фактором нашего эмоционального здоровья. Видимо, именно поэтому мы можем с уверенностью сказать, что отношения, наиболее значимые для эволюции (и самые значимые для нашего счастья), – это отношения с теми, с кем мы обмениваемся генетическим материалом: с нашей семьей. В качестве небольшого примера рассмотрим человеческое потомство. Поскольку новорожденные дети крайне хрупки, со временем они эволюционировали, приобретя способность вызывать в родителях глубокий эмоцинальный отклик, выражающийся в любви и заботе. Иначе они бы просто не выжили.
В действительности все обстоит именно так. Любой родитель расскажет вам о том глубоком чувстве любви, которое пробуждается в душе, когда вы впервые держите свое новорожденное дитя. Именно так сформировала нас эволюция. Ничто в нашей жизни не сможет оказать на нас столь положительное влияние, как формирование и поддержание хороших отношений с членами семьи. Именно так мы устроены. Именно такими сотворил нас Бог.
Принцип 5: крепкие семейные отношения – ключ к достойному обществу. С учетом дуального потенциала человеческой природы множество свидетельств говорит о том, что укрепление семейных отношений помогает людям выбирать свои лучшие стороны32. Это особенно справедливо в отношении мужчин (которые в целом в большей степени ответственны за насилие, преступления, убийства, жестокость и другие дефекты социального поведения). Когда мужчина оказывается активно вовлеченным в социальную роль отца, он раскрывает лучшие стороны своего характера. Важнейший вывод, сделанный социологами, состоит в том, что воспитание детей помогает нам стать менее эгоистичными и более законопослушными гражданами. Как заметил один автор: «Отцовство в большей степени, чем любое иное занятие, помогает мужчинам стать хорошими людьми: они становятся более склонными подчиняться закону, быть достойными гражданами и думать о нуждах окружающих. Если говорить более отвлеченно, то отцовство позволяет направить мужественность – в частности, мужскую агрессию – на полезные для общества цели»33. Так происходит, потому что сильнейшие формы альтруизма, любви и сотрудничества берут начало именно в семейных отношениях – в том виде, в котором сформировала их эволюция. Вовлеченность в обеспечение и воспитание наших детей – самый мощный способ, при помощи которого природа заставляет нас раскрыть свои лучшие стороны. Огромное множество социальных проблем, стоящих сегодня на повестке дня, можно связать с распадом семейных отношений, особенно между отцами и детьми. Кратко говоря, ключ к достойной жизни и достойному обществу в том, чтобы укреплять отношения между родителями и детьми, насколько хватит сил, ведь эти отношения – итог эволюционного пути, пройденного нашей природой.
Есть одна история – о человеке, который чинил крышу, но вдруг потерял равновесие и начал падать. В страхе за свою жизнь он воззвал к Богу: «Господи, помоги мне, и я покаюсь в грехах!» Как только человек произнес это, его штаны зацепились за гвоздь, торчащий из крыши, удерживая его от падения. Повиснув на гвозде, человек сказал: «Не обращай на меня внимания, Господи, штаны уже зацепились!» Эта история сообщает нам кое-что важное: мы часто думаем, что если Бог проявляет себя в нашей жизни, то происходит это каким-то непонятным для нас образом. Но я не считаю, что пути Господни всегда неисповедимы. Человек, падающий с крыши, был спасен благодаря торчащему из нее гвоздю; но как знать – может, это Бог использовал гвоздь, чтобы спасти человека?
Полагаю, со временем мы сможем понять и Его пути, и то, как именно Он сотворил нас. Вполне возможно, что для этого Он использовал принципы эволюции. В знаменитом эссе, написанном в 1973 году, эволюционный биолог Феодосий Добржанский писал: «Неправильно считать сотворение и эволюцию взаимоисключающими альтернативами. Я креационист и эволюционист. Для Бога, или Природы, эволюция – это способ творения»34.
И хотя одна из моих главных целей – показать, что наука и вера не пребывают в конфликте, я храню молчание о частных вопросах веры и, более того, часто обращаясь к науке, почти не затрагиваю теологию. Но это не значит, что я отказываюсь от идеи о Божественной силе, стоящей за сотворением человека. Я часто говорю о «природе» или «эволюции» как о силе, которая формирует и преображает наши психические способности. В таких пассажах вы вполне можете использовать эти термины вместо слова «Бог», если хотите. Для меня это не так важно. Как я намереваюсь показать в главе 2, эволюция не была случайной. Это был Божественный механизм творения.
Людям науки, посвятившим жизнь созданию системы представлений, основанной на естественных законах, иногда сложно согласиться с представлением о сверхъестественном Боге, описанном иудео-христианской традицией, поскольку им кажется, что чудеса, творимые этим Богом, противоречат законам природы. Я же полагаю, что это мнимое противоречие. В моем представлении часть Божественной силы опирается на абсолютное знание всех законов природы35. Бог действует не вопреки им, а в соответствии с ними – просто иногда мы, смертные, становимся слишком надменными и забываем, что далеко не все из них нам понятны. Думаю, это непонимание отношений между Богом и природой отчасти и является причиной предполагаемого конфликта между наукой и верой. Я согласен со словами нобелевского лауреата Чарльза Таунса:
«Наука пытается понять, на что похожа Вселенная и как она устроена, включая нас, являющихся ее частью. Религия же стремится постичь цель и смысл нашей Вселенной, а также цель и смысл нашей собственной жизни. Если у Вселенной есть цель или смысл, они должны отразиться в ее строении и поведении – и, следовательно, в науке»36.
Надеюсь, эта книга убедит читателей не только в том, что эволюция и религия не противоречат друг другу, но и в том, что путь, по которому эволюция вела нашу природу, отражает в себе цель и смысл нашей жизни. Итак, приступим.
Глава 2
Эволюция: случайность или направленный процесс?
Один раз – это случайность. Два – возможно, совпадение. Но три и более – уже закономерность37.
Еще со времен Дарвина некоторые биологи учат нас, что эволюция была совершенно случайным и бессистемным процессом. Некоторым из нас, особенно тем, кто верит в Бога, трудно принять это, ведь случайный процесс не согласовывается с представлениями о Творце, создавшем нас с определенной целью. В этом и состоит дилемма доктрины случайности. По своей сути традиционный подход к эволюции предполагает, что, если запустить ее заново, отмотав время на несколько миллиардов лет назад, природа породит нечто совершенно иное38. Но не так давно возникло еще одно мнение, согласно которому эволюция не полностью случайна и непредсказуема, и хотя начаться она может со случайных мутаций, к финальной точке ее, по всей видимости, направляют естественные законы и ограничения. Главной причиной возникновения этой (до сих пор дополняющейся) картины стал феномен, известный как конвергентная эволюция. Конечно, аргументы, приведенные в этой главе, не доказывают, что у нашего существования есть универсальная цель, и все же они дают этому предположению право на жизнь.
Дивергенция? Нет, конвергенция!
Один из краеугольных камней теории Дарвина состоит в убеждении, что все виды живых существ произошли от единого предка. С течением времени эти виды все больше отдалялись от первоисточника под влиянием различных сил, связанных с окружающей средой и выживанием. Так родилось великое разнообразие, которое столь радостно наблюдать сегодня. Изображения эволюционного древа жизни, подобные тому, что приведено на рис. 2.1, показывают, каким образом различные широкие группы животных произошли от общего предка. Например, млекопитающие, рептилии, рыбы и птицы известны как хордовые и являются частью широкой группы животных, именуемой Chordata phylum. Таким образом, предполагается, что все млекопитающие (включая нас с вами), а также рептилии, рыбы и птицы произошли от общего, более примитивного вида. Хордовые, в свою очередь, равно как и другие группы животных, вроде артроподов (крабов, лобстеров, насекомых) и моллюсков (осьминогов, улиток, кальмаров), являются частью еще более крупного царства животных и, следовательно, имеют общего, еще более древнего и примитивного предка.
Наконец, царство животных, а наряду с ним и другие царства (в число которых, среди прочего, входят растения, грибы, бактерии, слизевики и многие другие чудесные организмы) произошли от общей и единственной простой клетки39. Эта первая клетка появилась из первичного бульона, который, как говорят нам ученые, существовал на Земле четыре миллиарда лет назад.
По мере разветвления древа структуры видов начинают различаться все больше, их представители занимают разные экологические ниши и идут по разным эволюционным путям. Однако еще во времена Дарвина биологи подметили одну любопытную деталь: даже с учетом разветвления внутри разных видов часто можно наблюдать схожие структуры, позволяющие решать схожие проблемы. Другими словами, несмотря на различные отправные точки, эволюция подталкивает виды к развитию одних и тех же структур или функций40. Это называется конвергентной эволюцией. Прежде ученые считали, что примеры такой эволюции исключительны, сейчас же их признают чрезвычайно частыми.

Рис. 2.1. Картина эволюционного дерева
Обратите внимание на крылья птиц, летучих мышей и бабочек (рис. 2.2). Они довольно похожи по внешнему виду и функциям. Похоже и их строение: туго натянутая мембрана, прикрепленная к твердому каркасу. Общий предок этих крылатых созданий (живший примерно 550 млн лет назад) не летал, а значит, птицы, летучие мыши и бабочки отрастили крылья и научились летать независимо друг от друга. Другими словами, эти виды не унаследовали способность к полету от общего предка – все они развили ее независимо друг от друга41.

Рис. 2.2. Графическое представление конвергентной эволюции крыльев. Последний общий предок птиц, летучих мышей и бабочек не обладал крыльями и не умел летать. Крылья сформировались независимо друг от друга как минимум у трех видов (к ним по порядку ведут литеры А, Б и В)
Рассмотрим также пример дельфина и акулы. Дельфин – млекопитающее с костным скелетом, а акула – рыба с хрящевым скелетом. Последний их общий предок ничем не напоминал их сегодняшний облик, и все же современные акулы и дельфины чрезвычайно похожи друг на друга (рис. 2.3). Хотя акулы никогда не выходили из воды, а предки дельфинов обитали на суше, каким-то образом и у тех, и у других независимо друг от друга сформировалось тело обтекаемой формы, а также спинные и грудные плавники, позволяющие быстро плавать. Для многих типов акул, как и для дельфинов, также характерны темно-серый цвет спины и светлое подбрюшье. Благодаря такой защитной окраске их труднее заметить и сверху, и снизу, что помогает им незаметно приближаться к добыче или скрываться от хищников42.
Кроме того, некоторые животные обладают эхолокацией – способностью перемещаться в пространстве, ориентируясь на звук. Этот поразительный дар – еще один пример конвергентной эволюции, произошедшей у летучих мышей43, зубатых китов, дельфинов44, птиц45 и даже у некоторых видов креветок46. Эти животные могут посылать звуковые сигналы и интерпретировать их паттерны по мере того, как звуковые волны отражаются от физических структур, свойственных местной окружающей среде. Некоторые животные так хорошо овладели этой способностью, что могут с их помощью обнаруживать такие маленькие объекты, как москит, и такие тонкие, как человеческий волос.

Рис. 2.3. Конвергентная эволюция у дельфинов и акул
Представьте, как появляется шелковая нить. Ее производят несколько видов насекомых, в том числе пауки, определенные типы мотыльков и муравьи-портные. Поразительно и само вещество, и процесс его возникновения. Например, паучий шелк изначально представляет собой жидкую тягучую смазку. За то время, пока смазка выходит из тела паука, ее белки должны быстро перестроиться и трансформироваться в шелк, причем время, которое занимает процесс, выверено до невозможности точно: если бы смазка трансформировалась прежде, чем покинуть тело, паучьи железы оказались бы забиты шелком. При этом, если бы она трансформировалась хоть на мгновение позже, вместо шелковой нити паук бы выплевывал жидкость47. И все же биологи утверждают, что различные формы этого удивительно тонкого процесса развились независимо по крайней мере у двадцати трех разных типов животных48.
Возможно, самый удивительный и наиболее часто упоминаемый пример конвергентной эволюции – глаз камерного типа. Такой глаз – которым, среди прочих видов, обладаем и мы, – состоит из нескольких элементов: внешней прозрачной оболочки, способной отражать свет; линзы, способной к переменному фокусированию света; диафрагмы, диаметр которой подгоняется под уровень яркости, а также мышц, которые движутся в точной гармонии с мышцами другого глаза и мгновенно приспосабливаются к тонкой настройке гироскопа внутреннего уха. Ученые Пол Блум и Стивен Пинкер писали: «Чрезвычайно маловероятно, что материя может образовывать структуры, способные на то, на что способен глаз»49. И все же в результате эволюции глаз камерного типа развился у шести (если не больше) представителей различных видов, в том числе у группы морских животных, являющихся близкими родственниками дождевых червей50. У кальмара тоже есть камерный глаз, развившийся независимо и поразительно похожий на наш (рис. 2.4).
По утверждению ученых, последний общий предок людей и кальмаров жил приблизительно 500 миллионов лет назад. Именно тогда наши виды пошли разными путями, что, однако, не помешало глазам камерного типа развиться и у них, и у нас.
Конечно, есть и другие типы глаз. Фасеточные глаза также развились независимо у организмов, не связанных тесным родством; среди них – насекомые и один из видов креветок. В отличие от камерного, фасеточный глаз имеет множество линз, каждая из которых развивается почти поверх предыдущей. С эволюционной точки зрения фасеточным глазам сформироваться в какой-то мере легче, чем глазам камерного типа, и все же их строение остается невероятно сложным51.

Рис. 2.4. Конвергентные формы глаз у людей и кальмаров
В целом, согласно оценкам экспертов, в той или иной форме глаза независимо развились по крайней мере у сорока различных видов52. Каким-то образом они развиваются у сложных видов, живущих там, где есть свет. Вот что сказал об этом Ричард Докинз: «По-видимому, жизнь, по крайней мере в известном нам виде, до неприличия желает иметь глаза… Если она есть на других планетах нашей Вселенной, можно ручаться, что глаза появятся и там, и работать они будут по тем же оптическим принципам, что и здесь, на Земле. Существует не так много способов создать глаз, и вполне возможно, что жизнь в известном нам виде знает их все»53.
Конвергенцию можно наблюдать и на гораздо меньших уровнях. Существует множество примеров конвергентной эволюции, происходящей внутри клетки. Например, ее можно наблюдать в фотосинтезе – необычайном процессе, в ходе которого растения поглощают солнечную энергию и запасают ее в форме сахара. Сегодня ученые утверждают, что определенный тип фотосинтеза (C4-фотосинтез) развился независимо по меньшей мере у шестидесяти различных видов наземных растений54.
Конвергенция: правило, а не исключение
Биологи все отчетливей понимают, что конвергентная эволюция – это правило, а не исключение5556. Саймон Конвей Моррис, палеобиолог из Кембриджа, отмечает: «Конвергенция повсеместна. Я не могу представить ничего, что эволюционировало бы лишь раз – помимо очень, очень редких исключений»57. Похожим образом выражается и Ричард Докинз: «Необычайно сложно представить что-либо, эволюционировавшее лишь однажды». Докинз сделал на этой мысли особый акцент, попросив своего коллегу Джорджа Макгэвина назвать несколько эволюционных адаптаций, произошедших однократно, и Макгэвин смог перечислить не так уж много58.
Мы обнаруживаем все больше примеров конвергенции и постепенно понимаем, что эволюция – не случайный процесс. «Видимые результаты естественного отбора и других формообразующих процессов, – пишет Конни Барлоу, – ни в коем случае не следует воспринимать как случайный карнавал форм и функций»59. Исследуя повторение одних и тех же скелетных форм у представителей разных видов, биологи Роджер Томас и Вольф-Эрнст Райф приходят к выводу: «Хотя случайность играет исключительную роль в направлении течения эволюции, на ее исход она влияет в куда меньшей степени»60.
Обратим внимание на рис. 2.5. Предположим, нам нужно добраться из точки А в точку Б. Для этого есть четыре возможных пути, и чтобы выбрать из них один, нужно бросить игральный кубик. Таким образом, наш путь определит случайность, но независимо от пути исход будет одним и тем же: мы придем в точку Б. Данный пример хорошо описывает новое представление об эволюции, к которому за последние несколько десятилетий привела нас конвергенция. Некоторые ученые даже говорят о «глубинных организационных принципах, лежащих в основе эволюции»61, и признают, что даже если ее течение случайно, мы не можем сказать того же о ее результатах62.
В чем же причина столь широкой распространенности конвергенции, особенно с учетом предположения, что в основе эволюционных изменений лежат генетические мутации? Весьма вероятно – и это бросает вызов традиционному научному мышлению, – что не все мутации были случайны63. Столь смелое допущение в одном из основополагающих утверждений дарвинизма не опровергает теорию эволюции. Даже Ричард Докинз, сегодня являющийся одним из самых ревностных защитников теории Дарвина, признает это: «Для естественного отбора нет необходимости в том, чтобы мутация непременно была случайной. Отбор продолжает делать свою работу независимо от того, направлена мутация или нет»64.

Рис. 2.5. Четыре пути, сходящиеся в одной точке
Но давайте пока оставим в стороне возможность того, что Божественное участие направляло генетические мутации (посредством естественных законов и процессов), и согласимся с общепринятой наукой, предположив, что мутации были случайными. Если это действительно так, то почему конвергентная эволюция получила настолько широкое распространение? Хотя многое в данной области до сих остается неясным, можно предположить, что все дело в ограничениях, которые несет на себе эволюция. Существуют определенные законы и принципы, ограничивающие число возможных исходов, к которым она может привести. Поскольку естественный отбор проходит принужденно, количество вариантов исхода эволюции остается ограниченным. Следовательно, когда мы сталкиваемся с проблемами, которые ставит перед нами жизнь (как найти пищу, как передвигаться, как воспринимать окружающий мир, как сделать так, чтобы тебя не съели, и как воспроизвести себе подобных), эволюция неизменно предлагает одни и те же варианты решения.
Существует по меньшей мере две основные причины, ограничивающие количество направлений, в которых может двигаться эволюция. Во-первых, она не извлекает никакой пользы из умозрительных форм и структур – она «предпочитает» лишь те, которые дают ей какое-то преимущество. Во-вторых, многие ограничения, наложенные на эволюцию, связаны с законами физики и химии (например, геометрические и материальные аспекты, с которыми она сталкивается). Даже если какая-либо структура способна дать особи преимущество, строительные блоки, которыми располагает природа, просто не смогут сочетаться таким образом, чтобы ее создать65.
Музей всех возможных животных
Ричард Докинз описывает различные формы жизни, возникшие в результате эволюции, через метафору Музея всех возможных животных66. В нем все животные располагаются бок о бок, так что по мере нашего продвижения по одному из коридоров музея отдельно взятая структура разве что самую малость отличается от тех, что стоят рядом. Например, если пойти на восток, шеи животных будут становиться все длиннее, а если повернуться и пойти на запад – все короче. Представим, что мы решили двинуться в ином направлении: если идти на север, длина шеи остается прежней, но меняется нечто иное – скажем, удлиняются рога; если же мы развернемся и направимся на юг, рога, наоборот, будут становиться короче. Наконец, если мы воспользуемся лифтом и поднимемся на верхний этаж, рога и шея останутся прежними, но станут острее зубы. Путешествуя по такому музею, мы быстро понимаем, что каждый экспонат обладает намного бóльшим числом характеристик, чем длина шеи, длина рогов и острота зубов. По сути, в каждой форме есть тысячи деталей, способных незначительно меняться. Так мы приходим к отрезвляющему выводу, что пространства, ограниченного лишь тремя измерениями, никоим образом недостаточно, чтобы описать Музей всех возможных животных, и если мы хотим сделать это, нам понадобится пространство с десятками (или даже сотнями) тысяч измерений. Представить себе музей в таком виде уже невозможно (если вы, конечно, не математик и не физик). Нам также придется признать, что подобный музей должен быть неизмеримо велик. По сути, число находящихся в нем животных будет в разы превышать число атомов в нашей Вселенной.
Чтобы воспользоваться преимуществами этой картины, но сделать ее более легкой для понимания, представим Музей всех возможных раковин67. Раковины – это окаменевшие и затвердевшие наружные скелеты, дающие защиту и укрытие улиткам, моллюскам и другим подобным животным. Если мы немного все упростим и обратимся к работе биолога Дэвида Раупа68, написанной в 1960-х годах, то сможем воссоздать подобный музей с учетом трех факторов развития раковин: размера, спирализации и удлинения69. Из всех теоретически возможных раковин в природе встречается лишь очень малая их часть. Но если в теории возможно существование настолько огромного количества форм, то почему в действительности их оказывается так мало? Возможно, дело в том, что естественный отбор в них не нуждается – или же законы природы просто не дают их создать.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе