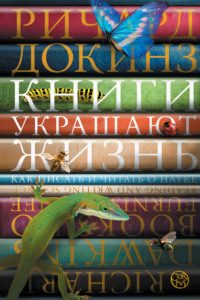Читать книгу: «Книги украшают жизнь. Как писать и читать о науке»
© 2021 by Richard Dawkins Ltd
All rights reserved
© М. Елифёрова, перевод на русский язык, 2025
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© ООО “Издательство АСТ”, 2025
Издательство CORPUS ®
* * *
Памяти Питера Медавара
Предисловие редактора к английскому изданию
Никогда популяризация науки не была столь важна, как сейчас. Если, как считал Фрэнсис Бэкон – человек эпохи Возрождения в прямом и в переносном смысле, – знание само по себе сила, то люди никогда еще не располагали такой силой, чтобы действовать в интересах будущего планеты, самой ее ткани и мириад ее обитателей, – и в то же время никогда, похоже, не проявляли больше политического безволия в деле проведения необходимых перемен.
Мы живем в эпоху, когда научное знание и технологический прогресс, похоже, далеко опережают волю использовать их с умом. Именно поэтому тяжелое бремя ложится на обладателей знания, на основе которого можно принимать решения, касающиеся всего спектра политической, социальной, образовательной и коммерческой деятельности, и на тех, кто хорошо владеет словом и способен привлекать внимание, притягивать, удивлять, а главное – убеждать. Люди, наделенные обоими этими дарами, могут и должны в наше время говорить правду власти – если, конечно, мы не хотим, чтобы человечество разбазарило свой потенциал, разбазаривая планету.
Пока я пишу эти строки, человечество слышит самый громкий сигнал к пробуждению, когда-либо звучавший за много последних лет: по планете распространяется пандемия COVID-19. Для борьбы с болезнью, ее причинами и следствиями потребовалось чрезвычайно много героических усилий, политической воли, народного энтузиазма и оперативных действий – и все это удалось мобилизовать за считаные месяцы. Цинику простительно будет отметить контраст с вялой, тянущейся десятилетиями реакцией на долгое медленное тление климатических изменений, – которые и сейчас, пока мы пытаемся спасти свои жизни и доходы, никуда не деваются. На обоих фронтах мы опираемся на науку, которая показывает нам, как справиться, как выжить, как улучшить свое положение; и мы рассчитываем, что ученые не просто будут выполнять свою сложную, кропотливую, трудоемкую работу, но и расскажут остальным, что и как они делают и каковы вероятные последствия их открытий.
Поэтому никогда еще популяризация науки не была столь важна, – но и никогда еще ее популяризаторы не испытывали такого давления. Мы живем среди множества медийных платформ, под обстрелом многосторонних дискуссий, сенсаций и споров, мы захлебываемся в потоках научных публикаций онлайн и оффлайн и наблюдаем непрерывную перепалку в социальных сетях (которые столь часто оказываются антисоциальными). Как же нам среди всей этой какофонии обрести доходчивые аргументы, неразрывно связанные со страстной вовлеченностью, как ощутить волнение открытия, базирующегося на четко выверенной постановке вопросов, – и все это во имя разума и науки, с огромным почтением и ответственностью перед Землей, на которой мы обитаем?
Для начала можно прочесть Ричарда Докинза. К счастью для нас, в мире много преданных своему делу людей – мыслителей, исследователей, лекторов, писателей, – которые одновременно занимаются наукой и популяризируют ее. Они работают поодиночке и в коллективах, стоя на плечах гигантов, протягивая руки своим современникам, стремясь просвещать и привлекать тех, кто находится вне их собственного круга. Один из самых выдающихся среди них – Ричард Докинз, человек, обладающий необычайной энергией и духовной щедростью, всегда готовый популяризировать труды своих коллег-ученых.
Поэтому представляю вам этот сборник коротких текстов признанного мастера искусства научной популяризации. Все они так или иначе связаны с книгами, в основном с научными, – с книгами, которые украшают жизнь Ричарда в науке. Перепечатанные здесь предисловия, послесловия, вступления, рецензии, эссе написаны ради того, чтобы поддержать, раскритиковать или попросту прокомментировать те или иные издания; ради того, чтобы не остаться в стороне от решения жизненно важной задачи: распространять то, что, как мы знаем благодаря научному методу, является истиной, и защищать эту истину от тех, кто отрицает, отвергает, искажает ее.
Разумеется, в книге, целиком посвященной задачам коммуникации, начинать каждый раздел лучше всего с беседы. Каждая из шести частей этого сборника предваряется опубликованной расшифровкой диалога Ричарда с каким-нибудь другим автором, где оба размышляют на темы данного раздела и соотносят их с насущными проблемами нашего времени. А сборник в целом открывается новым эссе, которое Ричард написал специально для этого издания и в котором он размышляет о “литературе науки”.
Работа по популяризации науки нескончаема. Мы все должны быть благодарны тем, кто посвятил этому свою жизнь, – не только за их занятия наукой, но и за слова, которые они пишут как в книгах, так и о книгах, что могут украсить нашу жизнь.
Джиллиан Сомерскейлс
Предисловие автора
Литература науки
Литература:
а…род письменных сочинений, которые ценятся за свойства их формы или эмоциональное воздействие.
б Корпус книг и статей по определенной теме.
(Краткий Оксфордский словарь английского языка)
Один из моих преподавателей в Оксфорде как-то встретил младшего коллегу в глубине научного отдела Бодлейской библиотеки и, склонившись, шепнул ему, поглощенному чтением, на ухо: “Вы, я вижу, голубчик, литературу смотрите. Не надо. Она вас только запутает”. На слове “смотреть” он спалился. Он употреблял слово “литература” в особом смысле, в котором его употребляют ученые – в соответствии с приведенным выше определением (б) из Оксфордского словаря. “Литература” для ученого означает все публикации, зачастую темно и невнятно написанные, относящиеся к определенной теме исследований. Джон Мейнард Смит однажды сказал: “Есть те, кто читает литературу. Я предпочитаю ее писать”. Это было с его стороны остроумно, но несправедливо по отношению к нему самому – он был добросовестным ученым, скрупулезно читавшим и учитывавшим работы других исследователей. Но его шутка опять же иллюстрирует два значения слова “литература”.
Под “литературой науки” в этом эссе я понимаю нечто, что ближе к словарному определению (а), приведенному выше. Я говорю о науке как литературе – об искусстве хорошо писать на тему науки. Это обычно подразумевает книги, а не научные журналы. Кстати, я считаю, что это прискорбно. Нет очевидных причин, почему бы научной статье не быть увлекательной и развлекательной. Нет причин, почему бы ученым не получать удовольствие от статей, чтение которых составляет их профессиональный долг. Во время своей работы редактором журнала Animal Behaviour я старался уговорить авторов избавиться не только от самоуничижительного страдательного залога, характерного для научного стиля (“Нами будет избран другой подход”), но также от традиционных унылых разделов “Введение, методы, результаты, выводы” – ради того, чтобы рассказать занимательную историю.
Однако перейдем к книгам.
Я сказал “хорошо писать на тему науки”, и это может создать неверное впечатление. Это не обязательно означает “изящную словесность” и, безусловно, не означает ее в том смысле, который передает (как это порой бывает) ощущение претенциозности, то есть belles lettres. Во второй половине эссе я перейду к Питеру Медавару, которому посвящена эта книга, потому что он, по моему мнению, был мастером научной литературы в том смысле, который подразумеваю я. По его словам, “пальцам ученого, в отличие от историка, никогда не следует увлекаться звучностью мелодии”. Ну, не то чтобы совсем никогда. Случайный орнаментальный пассаж оправдан романтикой науки – невообразимым масштабом расширяющейся Вселенной, величием и глубиной геологических эпох, сложностью живой клетки, кораллового рифа или тропического леса. Естественнонаучная поэзия в прозе Лорена Айзли или Льюиса Томаса, космические грезы Карла Сагана, пророческая мудрость Джейкоба Броновского? Медавар не стал бы – и ему, безусловно, не следовало бы – подвергать их цензуре.
Наука не нуждается в плетении словес, чтобы стать поэтической. Поэзия в самом ее предмете – в действительности. Необходимы лишь ясность и честность, чтобы донести эту поэзию до читателя и, приложив еще чуть-чуть усилий, вызвать те аутентичные мурашки по спине, которые порой считаются прерогативой искусства, музыки, поэзии, “великой” литературы в традиционном смысле слова. Это “чувство мурашек” знакомо жюри Нобелевской премии по литературе. И это объясняет, почему премия почти всегда достается романисту, поэту или драматургу, иногда философу, но пока ни разу не присуждалась настоящему ученому. Возможно, единственное исключение – Анри Бергсон, который, если только его вообще можно назвать ученым, создает отчетливо печальный прецедент. Я задаюсь вопросом: что если Нобелевскому комитету просто никогда не приходило в голову, что наука – поэзия действительности – это подходящий инструмент для великой литературы? В 1930 году Джеймс Джинс так писал в своей “Таинственной Вселенной” (The Mysterious Universe):
Стоя на своем микроскопическом обломке песчинки, мы пытаемся раскрыть природу и цель Вселенной, окружающей наш дом во времени и в пространстве. Наше первое впечатление сродни ужасу. Мы находим Вселенную ужасающей из-за ее огромных бессмысленных расстояний, из-за невообразимых глубин ее времен, на фоне которых история человечества – лишь мгновение ока, из-за нашего чрезвычайного одиночества и материальной незначительности нашего дома в космосе – миллионной доли песчинки среди всех песков мира. Но, ко всему прочему, мы находим Вселенную ужасающей еще и потому, что она кажется равнодушной к жизни наподобие нашей собственной; эмоции, амбиции и достижения, искусство и религия – все выглядит равно чуждым ее плану.
Позже нечто подобное скажет Карл Саган в своем знаменитом монологе из “Голубой точки”:
Посмотрите на это пятнышко. Вот здесь. Это наш дом. Это мы. Все, кого вы знаете, все, кого вы любите, все, о ком вы слышали, все люди, когда-либо существовавшие на свете, провели здесь свою жизнь. Сумма всех наших радостей и страданий, тысячи устоявшихся религий, идеологий и экономических доктрин, все охотники и собиратели, герои и трусы, созидатели и разрушители цивилизаций, все короли и крестьяне, влюбленные пары, матери и отцы, дети, полные надежд, изобретатели и исследователи, моральные авторитеты, беспринципные политики, все “суперзвезды” и “великие вожди”, все святые и грешники в истории нашего вида жили здесь – на пылинке, зависшей в луче света.
Земля – очень маленькая площадка на бескрайней космической арене. Вдумайтесь, какие реки крови пролили все эти генералы и императоры, чтобы (в триумфе и славе) на миг стать властелинами какой-то доли этого пятнышка. Подумайте о бесконечной жестокости, с которой обитатели одного уголка этой точки обрушивались на едва отличимых от них жителей другого уголка, как часто между ними возникало непонимание, с каким упоением они убивали друг друга, какой неистовой была их ненависть.
Эта голубая точка – вызов нашему позерству, нашей мнимой собственной важности, иллюзии, что мы занимаем некое привилегированное положение во Вселенной. Наша планета – одинокое пятнышко в великой всеобъемлющей космической тьме. Мы затеряны в этой огромной пустоте, и нет даже намека на то, что откуда-нибудь придет помощь и кто-то спасет нас от нас самих.
До сих пор Земля – единственный известный нам обитаемый мир. Мы больше не знаем ни единого места, куда мог бы переселиться наш вид – как минимум в ближайшем будущем. Наведаться – да. Закрепиться – пока нет. Нравится нам это или нет, в настоящее время только Земля может нас приютить.
Говорят, что занятие астрономией воспитывает смирение и характер. Вероятно, ничто так не демонстрирует бренность человеческих причуд, как это далекое изображение крошечного мира. По-моему, оно подчеркивает, какую ответственность мы несем за более гуманное отношение друг к другу, как мы должны хранить и оберегать это маленькое голубое пятнышко, единственный дом, который нам известен1.
В 2013 году Каролина Порко, которая, наряду с Нилом деГрассом Тайсоном, больше всего подходит на роль Карла Сагана наших дней, запустила прекрасный флешмоб его памяти, пригласив население всего мира посмотреть вверх и улыбнуться на камеру, когда ее группа обработки снимков зонда “Кассини” фотографировала нас с Сатурна, с расстояния в полтора миллиарда километров, что разделяют эту планету и нашу “Голубую точку”:
Посмотрите вверх, подумайте о нашем месте в космосе, подумайте о нашей планете – о том, насколько она необычна, о том, какая она цветущая и животворная, подумайте о вашем собственном существовании, подумайте о масштабах достижения, которые знаменует эта фотосессия. Наш космический аппарат долетел до Сатурна. Мы настоящие межпланетные путешественники. Подумайте обо всем этом и улыбнитесь.
Для меня Каролина уже заслужила свое место в галерее ученых-поэтов, когда она не преминула поместить прах своего любимого наставника Юджина Шумейкера, которому судьба при жизни отказала в возможности стать первым геологом на Луне, в отправлявшуюся туда ракету вместе с выбранными ею строчками из Шекспира:
Когда же он умрет, возьми его
И раздроби на маленькие звезды:
Украсит он тогда лицо небес,
Так что весь мир, влюбившись в ночь, не будет
Боготворить слепящий солнца свет2.
А Питер Аткинс, один из лучших англоязычных стилистов среди ныне живущих ученых, берет этот ужас перед пустотой и укрощает его с блаженной безмятежностью, которую иные осудят как сциентистскую, но я нахожу великолепной:
В начале было ничто. Абсолютное ничто, а не просто пустое пространство. Не было ни пространства, ни времени, ибо это было до начала времен. Вселенная была бесформенна и пуста.
Случайно в ней возникла флуктуация, и несколько точек, возникших из ниоткуда и обязанных своим существованием порядку, который они образовали, определили время. Случайное формирование порядка привело к рождению времени из слияния противоположностей, его появлению из ничего. Из абсолютного ничего, совершенно без вмешательства, явилось зачаточное существование. Зарождение пыли точек и их случайная организация во время стали стихийным, немотивированным актом, вызвавшим их к жизни. Противоположности, крайности простоты, возникли из ничего.
Сходную тему развивает и Лоренс Краусс во “Вселенной из ничего” (A Universe from Nothing), к которой я написал послесловие (см. сс. 409–413; в русском переводе “Все из ничего: Как возникла Вселенная”). Книга Аткинса, откуда я взял цитату – “Творение” (The Creation), – завершается гимном уверенности в могуществе науки:
Когда мы разберемся со значениями фундаментальных констант, убедимся, что они не могут быть иными, и отбросим их как не имеющие отношения к делу, мы добьемся полного понимания. Тогда фундаментальная наука сможет отдохнуть. Мы почти этого достигли. Полное знание – в пределах нашей досягаемости. Понимание распространяется по планете, как восход солнца.
Химика Питера Аткинса можно было бы по праву назвать поэтом в прозе, но он никогда не позволяет стилю возобладать над ясностью. А вот биолог, который видит мир глазами поэта, но тем не менее решительно научными глазами, – это Лорен Айзли:
С тех пор, как первый человеческий взгляд различил лист в девонском песчанике и озадаченный палец коснулся его, на сердце человека легла печаль. Эта тонкая нить живой протоплазмы, протянувшаяся назад во времени, навеки связывает нас с ушедшими в небытие берегами, чьи пески давно окаменели. Звезды, на которые обращали свой подслеповатый взгляд наши предки-амфибии, отдалились или исчезли со своих орбит, а эта голая, блестящая ниточка все еще вьется. Никто не знает тайны ее начала или ее конца. Ее формы призрачны. Реальна только нить; эта нить – жизнь3.
Ученый и врач Льюис Томас пишет о фактах реальности, а затем высекает искру воображения, которая преображает прозу в поэзию:
Мы живем в пляшущей матрице вирусов; они снуют, как пчелы, от организма к организму, от растения к насекомому, к млекопитающему, ко мне и обратно, и в море, таща за собой кусочки того генома, цепочки генов из этого, прививая черенки ДНК, раздавая наследственность, словно на большой вечеринке4.
Необязательно рассматривать вирусы в таком ключе. Голые факты допускают, но не диктуют, этот литературный образ. Однако стоит его добавить – и читателю становится яснее суть. А вот что Льюис Томас (тоже в “Жизнях клетки”) пишет о митохондриях:
Мы не состоим, как нам всегда казалось, из последовательно расширяющихся пакетов наших собственных частей. Нами совместно владеют, нас арендуют, оккупируют. Внутри наших клеток, служа их двигателем, обеспечивая окислительную энергию, которая дает нам силы сделать каждый сияющий день еще лучше, живут митохондрии, и в строгом смысле слова они не наши.
Мой бывший оксфордский коллега сэр Дэвид Смит нашел по аналогичному поводу уместную литературную аллюзию. Митохондрии настолько интегрировались в хозяйскую клетку, что их происхождение от проникших туда бактерий поняли лишь недавно.
В клеточной среде инвазивный организм может постепенно утрачивать части себя, медленно сливаясь с общим фоном, и его прошлое существование выдают лишь кое-какие пережитки. Пожалуй, это напоминает встречу Алисы в Стране чудес с Чеширским котом. У нее на глазах он “стал исчезать по частям, не спеша: сначала пропал кончик хвоста, а потом постепенно все остальное; наконец осталась только одна улыбка, – сам Кот исчез, а она еще держалась в воздухе”5.
Нобелевский лауреат Питер Медавар, зоолог и иммунолог, которому посвящена эта книга, был, я думаю, величайшим литературным стилистом среди ученых двадцатого века, и я использую его как пример в следующей части своего эссе. Он был безусловно самым остроумным ученым, которого я когда-либо встречал. И в самом деле, если бы меня спросили, что такое “остроумие” и чем оно отличается от простого острословия, я бы мог наглядно определить его как “примерно все, что Питер Медавар когда-либо писал для широкой публики”. Вслушайтесь хотя бы вот в эти слова, которыми открывалась его Роменсовская лекция 1968 года в Оксфорде по теме “Наука и литература”:
Надеюсь, меня не сочтут невежливым, если я скажу в начале, что ничто на свете не заставило бы меня посетить такую лекцию, какую, по вашему предположению, я собираюсь сейчас прочесть.
Эта чудесная медаваровская реплика подвигла одного литературоведа в своем критическом отклике заметить: “Этого лектора никогда в жизни не считали невежливым”.
Медавар мог быть резким, мог высмеять, он не терпел претенциозного жаргона. Но он никогда не опускался до вульгарного хамства. Его насмешки над тем, что можно назвать “франкофонством” (думаю, что Питеру понравилось бы это слово), были безжалостны: его остроумие – это невозмутимое патрицианское искусство – того рода, который при чтении заставляет вас выбежать на улицу, чтобы поделиться им с кем-то – хоть с первым встречным. Как истинный стилист, у которого стиль служил ясности, он расправлялся с высокомерными “интеллектуалами”, ставящими стиль выше содержания:
Стиль сделался предметом первостепенной важности, и какой это стиль! Для меня в нем есть нечто высокопарное, напыщенное, полное самодовольства; он, без сомнения, возвышенный, но на балетный манер – время от времени он замирает в заученных позах, словно ожидая бури аплодисментов. Он оказывает прискорбное влияние на качество современной мысли…
Возвращаясь, чтобы атаковать ту же мишень под другим углом, Медавар писал:
Я могу процитировать доказательства того, что начинается кампания по дискредитации пользы ясности. Автор, писавший о структурализме в Times Literary Supplement, предполагает, что мысли, запутанные и мудреные по причине их глубины, лучше всего выражать преднамеренно неясной прозой. Какая противоестественно глупая идея! Мне это напоминает дружинника противовоздушной обороны в Оксфорде военных лет, который, когда яркий лунный свет как будто одержал победу над духом затемнения, порекомендовал нам надеть темные очки. Он, правда, шутил.
Эту лекцию о науке и литературе Медавар завершил собственным категоричным заявлением:
Во всех областях мысли, на которые могут претендовать наука или философия, включая те, на которые также по праву претендует литература, ни один человек, которому есть что сказать оригинального или важного, не станет добровольно подвергать себя риску остаться непонятным; те, кто пишет темно, либо не умеют писать, либо замышляют пакость. Однако авторы, о которых я говорю, в чисто литературном смысле умеют писать замечательно.
Подобная темнота решительно напрашивается на сатирическое осмеяние, и физик Алан Сокал воспользовался случаем. Его “Нарушая границы: К трансформативной герменевтике квантовой гравитации” (Transgressing the boundaries: towards a transformative hermeneutics of quantum gravity) – изысканный шедевр: полная бессмыслица от начала и до конца, однако принятая к публикации в претенциозном журнале по литературной культуре, без сомнения, потому, что журнал и предназначался для публикации бессмысленной белиберды. В более недавнее время Питер Богоссян, Джеймс Линдси и Хелен Плакроуз одурачили редакторов журналов, протолкнув в печать ряд аналогичных пародий, – на этот раз пародировалось то, что они назвали “Исследованиями обид”: политически влиятельный жанр в духе жалости к себе (“Я больше жертва, чем ты”). Как бы понравились эти розыгрыши Питеру Медавару! Есть еще “Генератор постмодернизма”, компьютерная программа, придуманная для того, чтобы плодить бесконечное количество пародийных статей, неотличимых от бессмысленных реальных “постмодернистских” публикаций.
Если в этих цитатах непосредственно из Медавара ощущается нечто искренне антифранцузское, то ваши подозрения явно не развеет еще одна цитата, из его рецензии на “Феномен человека” Пьера Тейяра де Шардена – возможно, лучшей из всех когда-либо написанных отрицательных рецензий на книгу6. Но от него достается не только французским интеллектуалам и их попутчикам. Сравнение, которое Медавар проводит с некогда господствовавшей школой немецкой мысли – “этими трубными нотами из глубин Рейна” (какой образ, какой он изысканно “медаваровский!”), – показывает, что он не терпел никакой претенциозности:
“Феномен человека” всецело поддерживает традицию натурфилософии – философического кабинетного хобби немецкого происхождения, которое, кажется, даже случайно (при всем своем изобилии) не внесло никакой непреходящей ценности в сокровищницу человеческой мысли. Французский язык по своей природе не особенно подходит для туманных и громоздких выражений натурфилософии, и потому Тейяр прибегает к использованию той пьяной, эйфорической поэзии в прозе, которая составляет одно из самых утомительных проявлений французского духа.
Доброжелательный юмор притупляет стрелы иронии, так что вряд ли на это можно обидеться. Снова – “Этого лектора никогда в жизни не считали невежливым”. И в то же время эти стрелы, хотя на первый взгляд и притупившиеся, каким-то образом умудряются оставаться острыми и разящими. Какой контраст с Сэмюелом Джонсоном, который, по великолепному замечанию Питера, “по обыкновению потрясает рукоятью пистолета”!
В конце рецензии на Тейяра достается не только самому Тейяру, но и всему темному миру (мы скоро убедимся, что он выбрал это выражение не просто так) литературной культуры недоучек:
Почему люди ведутся на “Феномен человека”? Не следует недооценивать объем рынка подобной литературы – философически-художественной. Подобно тому, как обязательное начальное образование создало рынок для дешевых газет и журналов, так и распространение среднего, а с недавних пор и высшего образования создало большую популяцию людей, часто с хорошо развитыми литературными и научными вкусами, образованность которых существенно превышает их способность к аналитическому мышлению. Именно их глазами мы должны попытаться разглядеть, чем привлекателен Тейяр.
“Образованность которых существенно превышает их способность к аналитическому мышлению”. Несказанно восхитительно, ведь правда?
Может быть, иногда Питер заходил слишком далеко? Мои друзья женского пола обижаются на его объяснение заглавия одной из его книг, “Республика Плутона”:
Много лет назад знакомое мне лицо, пол которого рыцарственность не позволяет мне упоминать, воскликнуло, узнав, что я интересуюсь философией: “Вы ведь любите «Республику» Плутона?”
У него, несомненно, было развитое чувство озорства. Когда, в необычно молодом возрасте и еще малоизвестным, его избрали Джодрелловским профессором Университетского колледжа в Лондоне, Джон Мейнард Смит спросил Джона Холдейна, что за человек этот Медавар. Холдейн кратко перефразировал Шекспира: “Живет с улыбкой, и при этом подлец7”. Быть может, мы сами скрываем виноватое, компенсаторное озорство, когда радостно обнимаемся над строками рецензии Медавара на “Двойную спираль” Джеймса Уотсона “Счастливчик Джим”8:
Так уж вышло, что в 1950-е гг., в первую великую эру молекулярной биологии, английские школы Оксфорда и в особенности Кембриджа породили десятки выпускников с выдающимися способностями – куда более одаренных, изобретательных, ясно мыслящих и диалектически грамотных, чем большинство молодых ученых; того же класса, что Джим Уотсон. Но у Уотсона оказалось одно колоссальное преимущество над всеми ними: помимо того, что он был крайне умен, у него был важный повод проявить свой ум9.
Думаю, определенные обиды из-за этого действительно возникли, за что Питер, любезный, как всегда, предложил полуизвинения. И у него оказалось огромное преимущество в том, что он был – на уровне, вероятно, беспрецедентном в истории нобелиатов – глубоко начитан и разбирался в литературе. Настоящий человек Возрождения – если использовать это затасканное выражение в его истинном смысле, – который мог соперничать с учеными практически в любой области, а не только в своей собственной.
Его универсализм напоминает его же великодушный и прекрасно написанный литературный портрет настоящего героя – Дарси Томпсона10:
…аристократ учености, чьи интеллектуальные дарования вряд ли когда-нибудь вновь соединятся в одном человеке. Он был достаточно крупным специалистом по античности, чтобы стать президентом Ассоциаций классиков Англии, Шотландии и Уэльса; достаточно хорошим математиком, чтобы его чисто математическую статью приняло к печати Королевское общество; и натуралистом, занимавшим важные должности на протяжении шестидесяти четырех лет… Он был знаменитым собеседником и лектором (считается, что эти два таланта сопутствуют друг другу, но на самом деле это бывает редко) и автором произведения, которое, если рассматривать его как литературу, может сравняться с любом текстом Пейтера или Логана Пирсолла Смита в своем абсолютном владении стилем бельканто. Добавьте к этому то, что он был свыше шести футов ростом, обладал сложением и статью викинга и гордостью осанки, свойственной тем, кто знает, что красив.
Понимал ли Питер, как много его собственных черт в этом описании? Сомневаюсь. Если меня попросят назвать одного ученого, которого я рассматриваю как ролевую модель, и в особенности одного автора, чей стиль письма вдохновлял меня больше других, я назову другого аристократа учености – Питера Медавара.
Не принадлежа к классу Медавара, ученый может глубоко любить литературу – и многие ее действительно любят. Книги всегда были важной составляющей моей жизни. В отличие от целого ряда биологов, я шел к своему предмету не через любовь к птичкам или историю дикой природы (это придет позже), а через книги и увлечение глубокими философскими вопросами бытия. Мое детское восхищение доктором Дулитлом способствовало моей любви к животным и моей моральной озабоченности их благополучием. В книге “Наука души” (Science in the Soul) я даже сравнил протагониста Хью Лофтинга с моим собственным кротким героем – Чарльзом Дарвином, молодым “философом” с “Бигля”.
Когда я подрос, то перешел на журнал комиксов Eagle и на “Дана Дейра, пилота будущего”. Меня захватывала романтика космических путешествий, пусть даже наука там и была чересчур халтурной (нельзя попросту ухватить джойстик и полететь куда-то в направлении Венеры; приходится рассчитывать орбиты, планировать гравитационные маневры и использовать рассчитанную силу притяжения). Позже романы Артура Кларка просветили меня насчет подобных ляпов и привили мне любовь к научной фантастике.
Мы со школьными друзьями, живо обсудив моральные и политические выводы, вытекающие из “Дивного нового мира”, перешли к другим романам Олдоса Хаксли, которые, не будучи сами по себе фантастикой, явно написаны человеком, глубоко начитанным в научной литературе и способным понять мысли и чувства ученых. Ученые, такие как мечтательный лорд Тэнтемаунт в “Контрапункте”, – одни из самых симпатичных персонажей Хаксли. На “И после многих весен”11 безусловно повлияло его научное чтение, в том числе опыты его брата Джулиана на аксолотлях с впрыскиванием им гормона щитовидной железы и превращением их в невиданных прежде саламандр12. Мы – неотенические обезьяны, и если проживем двести лет, то не превратимся ли в волосатых четвероруких, как вымышленный граф Гонистер у Хаксли?
Часть своих научных познаний я приобрел благодаря чтению научной фантастики (см., например, мое предисловие к “Черному облаку” Фреда Хойла на с. 98), и это заставляет меня задаваться вот каким вопросом: почему, чтобы усвоить тот или иной урок, нам иногда нужна художественная литература? Почему нам нравится вымысел? В чем притягательность историй о несуществующих людях и никогда не происходивших событиях, и почему мы используем их в качестве легкого развлечения после того, как прочли о действительности? Не очень подходящий пример “легкого развлечения”, но все же – почему Уильям Голдинг написал “Повелителя мух” в художественной форме, хотя мог сотворить пророческий трактат о человеческой психологии с серьезными прогнозами того, что произойдет, если группа школьников окажется заброшенной на остров без взрослых? Герберт Уэллс писал и то и другое: пророческую художественную литературу и нехудожественные размышления в своих знаменательных (а для современных читателей местами удручающих) “Предвидениях о воздействии прогресса механики и науки на человеческую жизнь и мысль”. Но что делает вымысел столь приятным? Думаю, я смутно понимаю ответ, но я не литературовед, и с моей стороны было бы самонадеянно вламываться туда, где ступали Генри Джеймс, Э. М. Форстер и Милан Кундера.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе