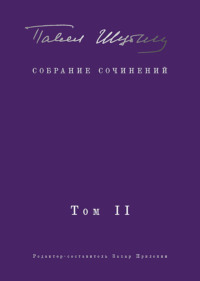Читать книгу: «Собрание сочинений. Том II. Стихотворения, напечатанные в периодике и найденные в архивах; заметки, статьи», страница 2
«…В Артурской кровавой купели была наша месть крещена»
На сопках Маньчжурии – сорок лет спустя
Дальше была война, которая для военкора Шубина не закончилась 9 мая. Попав на 1-й Дальневосточный фронт, он демобилизовался только в конце 1945 года.
Советский Союз вступил в войну с Японией по соглашению с союзниками 9 августа 1945 года. В разгроме Квантунской группировки, стоявшей в Маньчжурии, участвовали три фронта – 1-й и 2-й Дальневосточные и Забайкальский, вошедшие в Китай с разных сторон. Только на суше театр военных действий этой трёхнедельной кампании с долгой предысторией и далеко идущими последствиями занял полтора миллиона квадратных километров – больше, чем площадь Германии, Италии и Японии вместе взятых. Протяжённость границы, вдоль которой развёртывались советские войска, составляла 5000 километров. Не имели прецедентов скрытая переброска войск из Европы, марш Забайкальского фронта через пустыню Гоби и хребет Большой Хинган, прорыв 1-го Дальневосточного через мощнейшие укрепрайоны.
Павел Шубин – один из немногих литераторов, описавших эту войну. В том же ряду – военкор Георгий Марков, который работал в газете «На боевом посту» Забайкальского фронта и написал повесть «Орлы над Хинганом» (впоследствии стал дважды Героем Соцтруда, возглавил Союз писателей СССР). Принял участие в разгроме японцев в Маньчжурии поэт Юрий Левитанский. Также среди ветеранов восточной кампании 1945 года – смершевцы Владимир Богомолов (он коснулся этой темы в романе «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…») и Михаил Анчаров, автор повести «Этот синий апрель…». Сценарист, первый советский бард Анчаров служил в военной контрразведке переводчиком-китаистом там же, где Шубин, – на 1-м Дальневосточном, наступавшем со стороны Приморья.
Похоже, Шубин попал именно на этот фронт не случайно. Ранее он служил на Волховском фронте, которым командовал генерал Кирилл Мерецков, а членом Военного совета состоял генерал Терентий Штыков. Именно Мерецков и Штыков подписали приказ о награждении Шубина орденом Отечественной войны (тем же приказом ордена Красной Звезды удостоен коллега Шубина – спецкор «Фронтовой правды» майор Александр Чаковский, будущий редактор «Иностранной литературы» и «Литературной газеты», Герой Соцтруда). Впоследствии Мерецков, уже маршал, возглавил 1-й Дальневосточный фронт, членом Военного совета был опять же Штыков (после войны он станет первым послом СССР в КНДР, де-факто – архитектором северокорейской государственности). Их фамилии значатся и под приказом о награждении Шубина – уже за маньчжурскую кампанию – орденом Красной Звезды. Мерецков и Штыков ценили фронтового поэта и потому взяли его с собой в Маньчжурию? Или же, скорее, тут постарался генерал Константин Калашников, возглавлявший политуправления Волховского, Карельского, а впоследствии 1-го Дальневосточного фронтов, много внимания уделявший печати, привлекавший к работе ярких журналистов и литераторов?
Из характеристики, подписанной заместителем редактора газеты «Сталинский воин» майором Александром Литвиновым 20 ноября 1945 года: «Весной 1945 г. т. ШУБИН был переведён в газету I-го Дальневосточного фронта Сталинский воин, где работал до момента демобилизации в должности фронтового поэта. С самого начала войны против Японии тов. ШУБИН находился в действующих частях и участвовал в боях с японцами под Хобеем, Муданьцзяном, Дуннином и Харбином… Поэт ШУБИН – исключительно добросовестный и талантливый работник, весьма оперативный и трудолюбивый; исполнительный и смелый солдат».
В «Песне 1-го Дальневосточного фронта» Шубин приводит ряд топонимов, очевидно соответствующих боевому пути соединения:
…Мы в огне, в дыму сердитом
Бились насмерть в темноте
На Верблюде знаменитом,
На Горбатой высоте.
Наша русская лавина
Шла средь сопок и долин
От Мулина до Харбина,
От Хобея на Гирин.
Сопки Верблюд и Горбатую японцы превратили в узлы обороны, их брали с боем. Уезд Мулин ныне входит в городской округ Муданьцзян. Гирин – город в одноимённой китайской провинции, сейчас его чаще называют Цзилинь.
В стихотворениях «Солдат» (1945) и «Надпись на книге» (1946) Шубин рисует гигантскую карту сражений Второй мировой войны – от норвежского Киркенеса до китайского Харбина, куда поэт входил с бойцами 1-го Дальневосточного.
Харбин был восточным центром русской белой эмиграции. Его и основали в 1898 году русские как столицу строившейся КВЖД – Китайско-Восточной железной дороги, связавшей Забайкалье и Приморье напрямую. Здесь и до, и после революции выходили русские журналы, действовали православные храмы, русские гимназии. Харбин даже в 1945 году напоминал дореволюционный русский город. «По улицам катили пролётки с извозчиками в поддёвках и высоких цилиндрах, пробегали стайки девочек-гимназисток, степенно шагали бородатые студенты в мундирах и фуражках со значками политехнического института», – таким город запомнил генерал Афанасий Белобородов. Вторая жена Шубина Галина Аграновская вспоминала: из Харбина он привёз книги Гумилёва, Ходасевича, Белого. Торговый дом Ивана Чурина, штамп которого стоял на шубинском экземпляре сборника Гумилёва, существует до сих пор – теперь это универмаг «Чулинь». В 1945 году в Харбине за сотрудничество с Японской военной миссией и членство во Всероссийской фашистской партии арестовали бывшего колчаковского офицера поэта Арсения Несмелова; в декабре того же года он умер в приморском Гродеково в пересыльной тюрьме.
Судя по подписям под разными стихотворениями, Шубин в 1945 году также побывал в Порт-Артуре, Владивостоке, Ворошилове (Уссурийске), приморской Покровке.
Одна из загадок шубинской биографии заключается в том, почему и как он из офицера превратился в солдата. Согласно размещённым на сайте «Подвиг народа» приказам о награждениях, в 1943 году Шубин – интендант 2-го ранга (соответствует майору), в 1944-м – майор административной службы. В 1945 году в Маньчжурии он вдруг становится красноармейцем, то есть рядовым, что подтверждается приказом о награждении (другие военкоры, указанные в нём, носят офицерские звания), цитировавшейся характеристикой и снимком, где Шубин запечатлён у строения китайского вида в солдатских погонах.
Тогда же, в 1945 году, политуправление 1-го Дальневосточного фронта выпустило сборник Шубина «Герои нашего фронта». В него вошли стихи, написанные с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Из предисловия: «…В дни нашего наступления стихотворения Шубина о героях печатались в газете “Сталинский воин” и с большим интересом читались в частях и подразделениях нашего фронта. Призывное слово поэта глубоко волновало наших бойцов, звало их на новые ратные подвиги».
По итогам войны с Японией 1904–1905 годов Россия потеряла южный Сахалин, Порт-Артур, Дальний. В 1918–1922 годах Япония держала на Дальнем Востоке войска, не скрывая планов отторжения этой земли от ввергнутой в смуту России. Затем были Хасан, Халхин-Гол и, наконец, – маньчжурский блицкриг маршала Василевского, свидетелем и участником которого стал Павел Шубин. Не случайно в стихах 1945 года он называет Сергея Лазо – бессарабского дворянина, вождя приморских партизан, которого в 1920 году схватили японцы и передали белым, а те сожгли Лазо и его соратников – большевиков Алексея Луцкого и Всеволода Сибирцева (кузена Александра Фадеева) – в паровозной топке. Поэт вновь вспоминает Хасан – бои за сопку Заозёрную:
…Расстрелов свинцовые зёрна
Не сгибли в горячей пыли,
На жёсткой земле Заозёрной
Победой они проросли…
В 1945 году Сталин не просто сокрушил японскую армию как союзницу гитлеровской, оказав помощь американским союзникам и вступившись за истекающий кровью Китай. Он осознанно брал реванш за Цусиму, «Варяг», Мукден и Порт-Артур, куда 40 лет спустя снова пришёл русский солдат – пусть всего на десятилетие (в 1955-м Порт-Артур передали уже красному и ещё дружественному Китаю). Вот и Шубин прямо соотносит 1905 и 1945 годы, рассматривая царскую Россию и СССР, беды и победы своей Родины в едином контексте, утверждая преемственность красноармейцев и краснофлотцев по отношению к солдатам и матросам Русской императорской армии. Словно обозревая всю дискретную полувековую войну между Японией и Россией, поэт констатирует:
…В артурской кровавой купели
Была наша месть крещена.
И вот уже восстают из мёртвых матросы Цусимы, а Лазо «горит, не сгорая» – и встречает победный день…
В те же дни Шубин написал текст к знаменитому вальсу капельмейстера 214-го резервного Мокшанского пехотного полка Ильи Шатрова «На сопках Маньчжурии»:
Меркнет костёр,
Сопки покрыл туман.
Нежные звуки старого вальса
Нежно ведёт баян…
В начале 1905 года 214-й полк попал в окружение между Мукденом и Ляояном. Командир – полковник Пётр Побыванец – дал приказ на прорыв: «Знамя и оркестр – вперёд!» Шатров приказал играть марш и повёл оркестр за знаменем… Из 4000 человек в живых после прорыва осталось 700, погиб командир, из оркестра уцелели семеро музыкантов. Вскоре Шатров, награждённый орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами, написал вальс «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии». Его впервые исполнил духовой оркестр в Самаре в 1908 году. Есть несколько текстов на музыку Шатрова, первый принадлежит поэту Скитальцу (Степану Петрову); сочинив свой вариант, Шубин вновь закольцевал трагедию Цусимы и Мукдена с военным и политическим триумфом Советского Союза в Маньчжурии. «В Харбине выступал наш фронтовой ансамбль песни и пляски… Зрители вставали, бурно аплодировали, у многих на глазах были слезы. Немало номеров вызывали на бис, особенно песни “Священная война”, “Гибель «Варяга»”, “Плещут холодные волны…”. Очень хорошо приняли песню, написанную нашим поэтом Павлом Шубиным на мотив старого вальса “На сопках Маньчжурии”», – вспоминал Константин Калашников.
Стихи Шубина 1945 года насыщены подлинными фамилиями и событиями. По существу, это поэтическая хроника дальневосточной войны. Так, «Песнь о мужестве» поэт посвятил памяти троих бойцов, повторивших подвиг Матросова. Георгий Попов воевал ещё на Гражданской – у Будённого, в первый же день войны против Японии закрыл амбразуру дота своим телом. В тот же день подвиг повторил сапёр Василий Колесник (ему Шубин посвятил ещё одно стихотворение – «Слово о Василии Колеснике»). Пулемётчик Александр Фирсов бросился на дот двумя днями позже – 11 августа в бою за Дуннин. Всем троим посмертно присвоены звания Героев Советского Союза.
Заглавный герой стихотворения «Старшина Гершинович» – уроженец Забайкалья разведчик Наум Гершенович (1918–2013). Он принял боевое крещение в 1941 году под Москвой, был трижды ранен, награждён шестью орденами. За действия в Маньчжурии представлялся к званию Героя, но в итоге получил седьмой орден – Красного Знамени. В том же стихотворении упомянут Герой Советского Союза Дмитрий Москалёв (1918–2001), рота которого одной из первых пересекла границу Маньчжоу-го. Герой «Пути солдата» – рядовой Кирилл Поливода. Он участвовал в Гражданской, потом разводил в Приморье пчёл. 13 августа 1945 года в рукопашной схватке 45-летний богатырь уничтожил 13 японцев, награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. Заглавный герой стихотворения «Стрельбу ведёт полковник Реутов» – Владимир Реутов, командовавший при прорыве японских укрепрайонов гаубичной бригадой. Упомянут и Басан Городовиков (племянник Оки Городовикова, командовавшего 2-й Конной армией на Гражданской) – командир стрелковой дивизии, освобождавшей Ванцин и Гирин, впоследствии – глава советской Калмыкии. Вероятно, и другие фамилии в маньчжурских стихах Шубина – подлинные: наводчики-«громовержцы» Маташкин и Батов, боевой повар Чернобривченко, бывший кемеровский шахтёр Александр Морозов, подполковник Муртазин… Всем им Павел Шубин дал новую жизнь, «прописав» в отечественной словесности.
О чём нам говорят архивы?
Олег Демидов
С чем мы работали?
Архив Павла Шубина сосредоточен в Российском государственном архиве литературы и искусства, РГАЛИ (ф. 2162). Там хранятся рукописи и машинописи поэзии, прозы, переводов, скомпонованных книг, документы о представлении к военным наградам, трудовые характеристики, деловые письма, фотографии, записные книжки и пр. Всё это, казалось бы, должно существенно упрощать исследовательскую работу, однако мы столкнулись с одной важной проблемой.
Прижизненные сборники «Ветер в лицо» (1937), «Парус» (1940), «Во имя жизни» (1943), «Люди боя» (1944), «Герои нашего фронта» (1945), «Моя звезда» (1947), «Солдаты» (1948), «Дороги, годы, города» (1949) – единственное, на что мы можем ориентироваться. Поэтому, сопоставляя тексты из этих книг с теми же текстами, но в другой редакции – из нескольких томов «Избранного», выходивших в разные годы, мы отдаём предпочтение первым.
Перебирая рукописи и машинописи, вряд ли возможно определить, с чем мы имеем дело – с черновиком или «беловиком». Окончательный вариант – опубликован в книге, а тексты, которые мы печатаем впервые, – ориентированы на сопоставление всех возможных вариантов; разночтения же указываются в комментариях.
При этом спешим отметить, что перед вами не полное собрание сочинений, так как есть некоторая часть текстов, в силу особенностей почерка Павла Шубина, не поддающихся расшифровке. С ними не смогли справиться ни Александр Павлович Шубин (сын поэта) и Александр Григорьевич Коган (литературовед, исследователь жизни и творчества поэта), ни наш коллектив. Может быть, повезёт другим исследователям.
Также, возможно, существуют тексты в различной периодике, до которой не добрались ни Леонид Александрович Заманский, составитель библиографии1, ни наш коллектив. Шубин за всю его недолгую жизнь написал огромное количество стихотворений и многие из них успел опубликовать. Надо сказать, что разыскания Заманского мы проштудировали и основательно дополнили начатый им труд. Будущим исследователям, конечно, останется работа, но уже не в таком объёме.
Однако надо предупредить: некоторые тексты, например из газеты «Фронтовая правда», выявленные к 1970 году, невозможно найти в наши дни: подшивки газет в Российской государственной библиотеке (РГБ) или в других библиотеках и архивах не располагают нужными номерами.
Ещё мы взяли на себя смелость внести в основной корпус ряд текстов из папки «Черновые наброски и разрозненные листы» (РГАЛИ, ф. 2162, оп. 1, ед. хр. 26), потому что посчитали их законченными, и из записных книжек разных лет (РГАЛИ, ф. 2162, оп. 1, ед. хр. 45–53).
Цензура
Помимо этого, мы заметили цензурную переработку текстов. Она касается в первую очередь имён Ленина и Сталина, вымарываемых из стихотворений, публикующихся после смерти автора. Или, если не цензурная переработка, то простое исключение стихотворений с упоминанием Ленина и Сталина из корпуса томов «Избранного» тоже имело место быть, и это надо учитывать. Всё это, с одной стороны, вполне укладывается в дух той эпохи (от оттепели до перестройки); а с другой стороны, странно и дико, если знать биографию поэта: слесарь на заводе «Сталинец», автор десятков стихов с обращением к Ленину, Сталину, газете «Правда», Жданову и пр.
Приведём один характерный пример. Есть у Павла Шубина «Песнь о мужестве» (1945) – большое стихотворение о бойцах, которые в битве с японцами повторили подвиг Александра Матросова. Заканчивается оно так:
Шёлк и бархат боевого стяга
Мы склоняем над могилой их.
Пусть рыдают траурные трубы,
Мужеству
Иная жизнь дана —
Родины обветренные губы
Шепчут дорогие имена.
<…>
Пусть
Полёт часов
Незрим и старящ,
Но, минуя смерти рубежи,
С нами вместе им идти, товарищ,
В вечную, сияющую жизнь.
В томиках «Избранного» стихотворение даётся в таком виде. А его первоисточник – газета «Сталинский воин» (1945) и книга «Герои нашего фронта» (1945). Так вот там есть шесть строчек, которые впоследствии были вычеркнуты:
Станут достояньем поколений
Храбрые
Средь храбрых без похвал,
О таких
В подполье думал Ленин,
Братьями их Сталин называл.
Возникает вопрос: сам ли Шубин вносил эти правки? Или сын Александр совместно с критиком Коганом? Рукописи и машинописи, хранящиеся в РГАЛИ, дают однозначный ответ: поэт этого не делал. Однако надо учитывать, что, помимо Российского государственного архива, документы могут быть разбросаны по неизвестным нам домашним архивам, частным коллекциям, музейным собраниям.
Работая над данным изданием, мы не только посетили РГАЛИ, но и обращались к Алексею Анатольевичу Аграновскому (сыну второй жены Павла Шубина – Галины Аграновской) и к сотрудникам Чернавской библиотеки им. П. Н. Шубина (филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека им. В. А. Дрокиной Измалковского муниципального района Липецкой области») и Орловского объединённого государственного литературного музея И. С. Тургенева. И в предоставленных документах не обнаружили авторской правки.
Вполне может быть, что мы что-то упустили. Однако на данный момент можно утверждать, что цензурная переработка была выполнена не Шубиным.
Существует и ещё один вид цензуры. Или не цензуры, а опять-таки проявления духа эпохи: у Павла Шубина возникают такие именования, как немцы, германцы, фрицы, а в посмертных публикациях – сплошь фашисты. Надо-де различать: не все немцы были фашистами. Надо-то надо, тут нельзя не согласиться. Но почему же, печатая томики «Избранного», не поместить эти правки в комментарии?
И последнее: в массовом сознании советская поэзия и советская песня лишены деталей войны – жестоких, шокирующих и пр. Весь культурный пласт написан не о войне, а войной. Существенная разница! Но, обращаясь к прижизненным публикациям Шубина, обнаруживаешь именно что жестокие, шокирующие детали в стихах (в томиках «Избранного» всё это по большей части НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ).
Вот, например, отрывок из стихотворения «Смелее, товарищ!» (1942):
Отметим, товарищ, атаками день годовщины,
Телами бандитов устелем леса и лощины!
Пусть немки не молятся: к ним не вернутся мужчины, —
Их горе сгорбатит, и слёзы им выжгут морщины!
Товарищ! Пусть будут сердца наши к жалости тупы.
Запомни по сёлам печей обнажённые трубы,
С друзьями твоими спалённые немцами срубы,
На Псковском шоссе обгорелые детские трупы.
Запомни, товарищ, – ты плакать над ними не в силах, —
Растерзанных женщин, старух измождённых и хилых,
Задушенных в петлях на ржавых балконных перилах,
Живьём похороненных в мёрзлых суровых могилах…
Так пусть же везде будет враг наш настигнут и найден,
Пусть гнев наш карающий будет, как штык, беспощаден,
Бесславна кончина отмеченных свастикой гадин,
И хрип их предсмертный для нашего сердца отраден!
Чтобы не было непонимания, каждый момент правки и первой публикации мы стараемся отражать в комментариях.
Поэтика
Творческий путь Павла Шубина можно разбить на несколько периодов.
1929–1932 годы – начальный этап, когда молодой человек выбирается из своей деревни Чернава в Ленинград (живёт в семье своей старшей сестры), устраивается слесарем на завод «Сталинец» и погружается в городскую культуру: парки, кинотеатры, кафе, институты, разнообразный культурный и не очень досуг. В это время пробуждается в нём тяга к стихосложению. Он описывает то, что видит вокруг; то, о чём читает; то, что хранится в памяти. У него ещё много поэтизмов. Будучи юношей не то что начитанным, но любящим читать, он знает, как надо писать. И ещё не догадывается, как можно.
1933–1940 годы – этап становления, когда Шубин поступает на филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена и с радостью и превеликим воодушевлением погружается в литературную среду: газеты, журналы, литературные объединения, Союз писателей, различные издательства, первые знакомства не только со сверстниками, но и с мэтрами советской литературы (тут надо упомянуть в первую очередь Николая Тихонова, Дмитрия Кедрина, Анатолия Тарасенкова).
К этому времени уже формируется узнаваемый почерк. Превалирующие деревенская тематика и тематика нескончаемых путешествий во все концы страны накладываются на традиционный вдохновенный галоп от строки к строке, от строфы к строфе, от стихотворения к стихотворению. Шубин нанизывает один диковинный образ на другой – получается звонко и хлёстко.
Вышедший из пролетарской группы «Резец», он всё-таки тяготеет к иной поэтической генеалогии. У него легко обнаруживаются «родственные» связи с Павлом Васильевым и Иваном Приблудным, Борисом Корниловым и Ярославом Смеляковым – всё это есенинская линия, лихо осваивающая и имажинистские наработки, и сокровищницу новокрестьянской купницы.
И здесь сразу следует сказать о синтаксисе Павла Шубина. Пересмотрев архивные документы, мы можем сказать, что поэт часто правил свои тексты: где-то поменяет только первую строчку (потому что она должна быть ударной и задавать тон всему стихотворению); где-то скрупулёзно пройдётся по слабым местам и выявит отдельные слова, которые не звучат; а где-то, переписывая по памяти стихотворение (современники Шубина заверяют, что тот мог цитировать и свои, и чужие тексты бесконечно), расставит знаки препинания по-новому.
Учитывая последнюю особенность, мы не стали акцентировать внимание на том, где автор заменил запятую на тире, решил сделать парцелляцию, отойти от традиционного четверостишия к «лесенке» Маяковского (или наоборот) или поменять организацию строфики. По большому счёту, чтобы утверждать, какой вариант окончательный, надо знать последнюю волю автора. За неимением оной мы ориентируемся на тот вариант текста, который опубликован в прижизненных изданиях, или на тот, который видели собственными глазами.
1941–1945 годы – период Великой Отечественной войны. Павел Шубин не только выполняет работу военного корреспондента (пишет стихи, частушки, заметки и даже один рассказ), но и принимает активнейшее участие в сражениях. Окружающие его люди – солдаты разных военных специальностей, санитары, старшее военное командование, сотрудник «Фронтовой правды» и других газет – нуждаются в художественной фиксации. Что написано пером, не вырубить топором: реальность, попавшая в художественное произведение, гарантирует себе бессмертие до тех пор, пока жив язык описания.
Это во многом обуславливает переход к более традиционной поэтике и постоянному поиску нарратива. Кажется, не осталось ни одного рода войск, о котором бы не написал Павел Шубин. Он хотя бы и в паре строк, но старается захватить всех. Эпическое время рождает эпический размах. И одновременно с этим – как ни странно, большое внимание к деталям. Такого въедливого описания военного быта, пожалуй, не сыскать больше ни у одного фронтового поэта.
Отдельно надо сказать о лирическом цикле, обращённом к первой жене, Елене Лунц, – это единственные тексты, в которых Шубин позволяет себе вернуться к прежней поэтике, полной удивительных метафор и ураганного полёта мысли. К сожалению, поводом для них послужил, судя по всему, разрыв отношений.
Обратим ещё внимание на то, что во время корреспондентской работы во «Фронтовой правде» Павел Шубин, во-первых, пересекался (или, по крайней мере, должен был пересекаться) с другими видными писателями – Юрием Нагибиным и Давидом Самойловым; а во-вторых, публиковался так часто, что мог скрываться за какими-то псевдонимами. Или иные его материалы могли выходить без подписи.
Так, в его архиве, хранящемся в РГАЛИ, есть безымянная вырезка из «Фронтовой правды» – в череде других его машинописей и рукописей: автор рисунка – Ярослав Викторович Титов (1906–2000), а стихотворение написано Павлом Шубиным. Это наводит на мысль, что иные карикатуры и стихотворные фельетоны за подписью «Братья Фрицеловы» (то есть те, кто ловит фрицев) могли быть выполнены Шубиным и Титовым. Но это только гипотеза. Для её подтверждения необходимы какие-либо серьёзные аргументы. За неимением оных остановимся только на проговаривании этой гипотезы.
1946–1951 годы – последний период творчества. Выходящие в этот период книги – «Моя звезда» (1947), «Солдаты» (1948), «Дороги, годы, города» (1949) – большей частью наполнены стихотворениями, написанными в период Великой Отечественной войны. Новые же тексты появляются крайне редко. Поэт с головой погружается в переводы практически со всех языков народов СССР (это помогает обеспечить себя и новую семью: Шубин женится на юной Галине Каманиной (1928–2015)). И соответственно – всё меньше уделяет внимание собственным стихам. С каждым годом они пишутся всё реже. А их поэтика не то что ещё больше упрощается, но, скажем так, не стремится к дополнительной усложнённости.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе