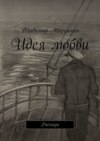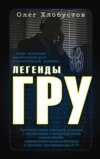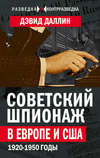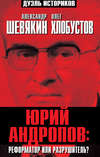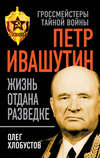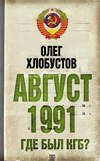Читать книгу: «КГБ СССР. 1954–1991», страница 3
Подчеркнем, что образование КГБ при СМ СССР знаменовало собой действительно серьезный шаг по утверждению законности в нашей стране, хотя сам принцип законности неотделим от существующей системы права, имеющегося законодательства. А последнее, и прежде всего уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, также претерпело существенные изменения в конце 50-х годов, на чем мы подробнее остановимся далее.
На момент образования КГБ его органы должны были руководствоваться уголовные кодексами Союзных республик СССР 1920-х годов. Так, например, Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) был принят еще 5 марта 1926 г. Непосредственно органы госбезопасности должны были руководствоваться диспозициями составов «контрреволюционных преступлений», предусмотренных печально известной статьей 58, имевшей 18 частей – различных составов преступлений: от измены Родине, шпионажа, диверсий, вредительства, террора (терроризма) до антисоветской агитации и пропаганды (статья 58.10).
Представляется также необходимым отметить, что и поныне многие публицисты и исследователи ошибочно или сознательно, отождествляют КГБ с его оставившими по себе недобрую память историческими предшественниками – НКВД – НКГБ и МГБ.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему укреплению социалистической законности и усилению прокурорского надзора» от 19 января 1955 г. было разработано Положение о прокурорском надзоре в СССР (утверждено указом Президиума Верховного Совета СССР 24 мая 1955 г.). Для осуществления надзора за следствием в органах КГБ в Прокуратуре СССР был создан специальный отдел.
С момента образования КГБ при СМ СССР контроль за его деятельностью осуществлялся также ЦК КПСС, в частности, отделом административных органов. Именно в него поступали все жалобы и заявления граждан в отношении действий сотрудников КГБ, адресованные в партийные инстанции, и который организовывал их проверку и рассмотрение; Советом министров и Генеральной прокуратурой СССР, а также некоторыми другими государственными органами, например Министерством финансов.
В этой связи однозначно недопустимо отождествлять КГБ СССР с его историческими предшественниками НКВД – НКГБ и МГБ. В то же время деятельность органов КГБ в 1950—1960-е годы не была свободна от волюнтаризма их руководства, хотя именно в этот период утверждается в полной мере партийно-государственный и прокурорский контроль за их работой.
Следует подчеркнуть, что одним из подлинных создателей КГБ при СМ СССР был Петр Иванович Ивашутин, хотя отдельные его предложения и наработки не встречали немедленной поддержки и реализации, поскольку они опережали свое время, уровень постижения руководством КГБ СССР и страны в целом подлинной сути разворачивавшихся в мире глобальных процессов геополитического соперничества.
Принципиально новым направлением деятельности КГБ СССР явилось налаживание сотрудничества с органами госбезопасности социалистических государств, которое, естественно, шло в общем русле внешней политики СССР.
Исполнявший с мая 1955 г. обязанности начальника ПГУ КГБ генерал-майор А.М. Сахаровский отмечал, что представительская работа командированных в социалистические страны сотрудников разведки – сложное специфическое направление деятельности, требующее такта, выдержки, политической зрелости и оперативного чутья.
В 1950–1954 гг. западные спецслужбы предпринимали активные попытки заброски в СССР своих агентов морским, воздушным и сухопутным путями. Так, только на территорию Краснодарского края в мае 1950 г., 2 мая 1952 г., 4 сентября 1953 г. и 9 мая 1954 г. было заброшено 5 групп агентов (10 человек). Иностранные агенты также арестовывались на Украине47, в Хабаровском крае и Мурманской области. А всего к 1958 г. органами госбезопасности СССР были арестованы 158 агентов иностранных спецслужб, заброшенных различными способами из-за рубежа.
Разумеется, сказывались на эффективности деятельности органов государственной безопасности и отдельные трудности объективного и субъективного порядка, ошибки, трагедии и даже предательства.
Следует подчеркнуть, что образование КГБ при СМ СССР сопровождалось тяжелой «родовой травмой» – раскрытием многочисленных нарушений законности, вершившихся его историческими предшественниками – НКВД, НКГБ и МГБ в 1930-е – начале 1950-х годов. Отметить эти обстоятельства необходимо еще и потому, что П.И. Ивашутину приходилось непосредственно организовывать работу вверенных ему подразделений, в том числе – военной контрразведки по пересмотру уголовных дел еще задолго до известного «секретного» доклада Н.С. Хрущева делегатам ХХ съезда КПСС.
Известно, что Н.С. Хрущев неоднократно официально заявлял, что «органы госбезопасности вышли из-под контроля партии и поставили себя над партией», что не в полной мере соответствует исторической правде. Эти его заявления сначала использовались для очередной мифологизации истории органов госбезопасности, а впоследствии – также и для демонизации всей советской истории.
Воспоминания Серова подтверждают хорошо известный историкам факт, что органы КГБ постоянно информировали ЦК КПСС о своей работе. В частности, Серов нередко докладывал лично Хрущеву по различным вопросам, хотя нередко получал в ответ «Не суйтесь не в свои дела!»48.
Следует особо подчеркнуть, что КГБ учреждался в годы холодной войны, когда Соединенные Штаты Америки небезосновательно видели в лице Советского Союза главного геополитического конкурента, выдвигавшего альтернативную концепцию цивилизационного развития. А в области внешней политики США откровенно руководствовались доктриной «отбрасывания коммунизма» (официально она была провозглашена президентом Д. Эйзенхауэром 14 февраля 1953 г.).
Понятно, что «тон» в международном разведывательном сообществе, противостоявшем СССР, задавали спецслужбы ведущей западной сверхдержавы – Соединенных Штатов Америки, имевшие как собственную агрессивно-наступательную внешнеполитическую и разведывательную доктрину, так и астрономические государственные ассигнования на проведение тайных зарубежных операций.
Разведывательные возможности США в 1952 г. были значительно увеличены за счет создания Агентства национальной безопасности (АНБ), ответственного за ведение радиотехнической разведки. США развернули сеть военных баз у границ Советского Союза, с позиций которых проводилась непрерывная техническая, авиационная и агентурная разведка территории СССР и его союзников.
В конце 1950-х годов в посольстве США в Москве создается полноценная разведывательная резидентура ЦРУ. Американское справочно-информационное издание «Центральное разведывательное управление» (1986 г.) так раскрывало содержание и назначение деятельности этих подразделений разведки: «Резидентура – это подразделение ЦРУ в столице иностранного государства. Резидент – глава резидентуры, кадровый сотрудник ЦРУ, работает под прикрытием в американском посольстве. Он руководит работой оперативных работников, аналитиков и оперативно-технического персонала. Кроме того, резидент осуществляет контроль за выполнением заданий Центра и за своевременной отчетностью.
Главная задача его руководства состоит в том, чтобы уметь вдохновить людей на выполнение опасных и трудных задач, требующих от каждого нечеловеческих усилий, другими словами, возглавить работу по выявлению наиболее засекреченных и тщательно охраняемых государственных тайн страны пребывания, а также сведений, которые нельзя получить с помощью подслушивающей аппаратуры или во время официальных дипломатических приемов, в библиотеке или с помощью прессы и которые можно добыть только через завербованных, идейно преданных источников или посредством различных технических методов получения информации.
Основная деятельность резидента ЦРУ заключается в сборе и анализе информации, свидетельствующей о намерениях той или иной страны причинить ущерб либо каким-либо другим образом отрицательно сказаться на наших интересах в важных районах, либо даже угрожать безопасности США.
Доступ к такой информации имеет ограниченный круг лиц, и, следовательно, если секретные сведения и фиксируются на бумаге или на магнитной ленте, то они хранятся в наиболее скрытых и тщательно охраняемых тайниках противника. Поэтому резидент должен всегда идти на риск. Это требует постоянной, иногда сверхчеловеческой бдительности…
Лучшие резиденты ЦРУ имеют многолетний опыт оперативной работы».
Для сотрудников ЦРУ работа в резидентуре в Москве считалась не только наиболее ответственной, требовавшей самого высокого уровня подготовки и оперативного мастерства, но и наиболее сложной и опасной вследствие эффективной работы советской контрразведки.
Следует отметить, что еще в 1955 г. авторы Большой советской энциклопедии в статье «Агентурная разведка» подчеркивали: «Наряду со шпионажем А[гентурная]р[азведка] капиталистических государств занимается также экономической, политической и идеологической диверсией» (Т. 1. С. 291–292).
Только за 1954 год и первую половину 1956 года среди американских, английских и французских граждан, посещавших СССР в качестве туристов и участников разного рода делегаций, было выявлено более 40 представителей разведывательных служб указанных государств49.
Подчеркнем в этой связи, что если в 1959 г. СССР посетили 34 тысячи иностранных туристов, то в 1967 г. – 130 тысяч, в 1969 г. – 273, в 1971 г. – 471 тысяча. А в 1970-е годы ежегодное количество иностранных туристов, посещавших нашу страну, превышало 500 тысяч человек.
Возвращаясь непосредственно к предмету нашего рассмотрения, следует сказать, что, конечно, были в работе КГБ, и прежде всего разведки, наряду с очевидными, но не афишировавшимися достижениями, также и провалы. К их числу относятся и побеги на Запад разведчиков.
Ведь резкое изменение общественно-политической ситуации в Советском Союзе после смерти И.В. Сталина не могло не сказаться и на морально-психологическом состоянии лиц, работавших за рубежом.
Да и утвержденный Сенатом 26 февраля 1953 г. директором ЦРУ Аллен Даллес ответил на сообщение о смерти председателя Совета министров СССР 13 марта представлением Совету по психологической стратегии50 согласованного с Государственным департаментом и Министерством обороны «Плана психологической эксплуатации смерти Сталина»51.
Так, в феврале 1954 г. в посольстве США в Вене попросил политического убежища сотрудник резидентруры МВД СССР П. Дерябин52.
В апреле 1954 г. на Запад дезертировали Н.В. Хохлов53 в Германии, супруги Петровы в Австралии. Эти побеги привели как к усложнению условий деятельности советских разведчиков за рубежом, так и к раскрытию ряда ценных советских источников информации в этих странах.
Некоторые перебежчики из СССР в последующие годы – А. Голицын, О. Гордиевский, В. Резун, О. Калугин – активно использовались спецсужбами зарубежных государств для попыток дискредитации органов госбезопасности СССР.
О них и им подобных Аллен Даллес писал: «Я не утверждаю, что все так называемые дезертиры (dezerters) бежали на Запад по идеологическим мотивам. Некоторые стали на этот путь потому, что их постигла неудача в работе, другие поступили так из опасения, что при очередной перетряске государственного аппарата они могут быть понижены или могут иметь еще худшие неприятности; были и такие, кого привлекли физические соблазны жизни на Западе – как моральные, так и материальные… Часть дезертиров со стороны коммунистов оказывается совсем не тем, за кого их можно принять.
Некоторые, например, в течение долгого времени работали за железным занавесом в качестве наших агентов «на месте» и перебежали на Запад лишь после того, как они (или мы) пришли к выводу, что дальше оставаться им в стране стало слишком опасно… США всегда будут приветствовать тех, кто не хочет больше работать на Кремль».
Поясним, что неудачи и провалы в деятельности разведки и контрразведки – это следствие того объективного обстоятельства, что они действуют в условиях непрерывного конфликтного противоборства с реальным противником, стремящимся как скрыть, замаскировать свои подлинные цели и намерения, так и проводящим специальные дезинформационные и отвлекающие кампании, активные мероприятия.
Сопутствуют этому и те субъективные обстоятельства, что в последние годы получили наименование «человеческого фактора». При этом речь идет как о неосознаваемых просчетах и ошибках, так и о целенаправленном предательстве.
О масштабах урона, наносимого предательством интересов безопасности государства, органов госбезопасности, свидетельствует тот лишь факт, что измена только одного В. Ветрова привела в 1981 г. к раскрытию имен около 70 информаторов в 15 странах и 450 действующих сотрудников советской разведки54.
Предательство не может иметь никакого оправдания. И поэтому вполне уместно недоумение по поводу того факта, что некоторые отечественные СМИ пытаются «ваять благородные» образы дезертиров-перебежчиков типа В. Резуна, укрывшегося под псевдонимом «Виктор Суворов», и подобных ему других предателей из числа советских и российских граждан.
Но «подлинные мотивы предательства раскрываются постепенно. Их никогда нельзя услышать от самого изменника. Ведь даже самому подлому существу хочется выглядеть в чужих, да и в своих глазах благородным и страдающим человеком», – писал о них Л.В. Шебаршин55.
Автор ряда книг по истории отечественной разведки Д.П. Прохоров приводит фамилии 155 человек, предавших советскую разведку с 1920-х годов56. Для получения более объективного представления об этом явлении применительно к органам КГБ СССР (1954–1991 гг.), следует учитывать следующие обстоятельства.
Во-первых, из представленного Д.П. Прохоровым списка, а он является наиболее полным на настоящее время, следует исключить перебежчиков в противоположный лагерь из числа агентов органов госбезопасности СССР.
Во-вторых, из него следует также исключить сотрудников военной разведки (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил СССР.
С учетом этих поправок получается, что за время существования КГБ, с марта 1954 по октябрь 1991 г., совершили измену 52 его сотрудника, в том числе 37 сотрудников внешней разведки.
В отличие от разведки, стремящейся к проникновению в секреты разведываемых государств и объектов, деятельность контрразведывательных подразделений направлена на борьбу с разведывательно-подрывной деятельностью спецслужб иностранных государств. Главными целями любой контрразведки являются обнаружение действий противника, его идентификация и обезвреживание, нейтрализация его разведывательно-подрывных мероприятий.
Хотя в Отчетном докладе ЦК КПСС Внеочередному ХХI съезду партии (27 января – 5 февраля 1959 г.) указывалось, что «надо укреплять органы госбезопасности, острие которых, прежде всего, направлено против агентуры, замыслов империалистических государств»57.
Однако вряд ли сегодня можно говорить о том, что степень масштабности и реальности угрозы разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб были адекватно восприняты и оценены тогдашним руководством Советского Союза и его органов госбезопасности. Объективности ради нельзя, однако, также не сказать и о том, что нечто похожее в нашей стране повторилось и на рубеже 90-х годов прошлого века, горькие плоды чего мы пожинаем и поныне.
Разведывательно-подрывная деятельность иностранных государств включает в себя проведение их специально-уполномоченными государственными органами гласных и негласных операций и акций как по добыче информации о других государствах, так и по оказанию скрытого воздействия на их позиции и политику по тем или иным вопросам, в тех или иных географических зонах и регионах планеты.
В целом система разведывательно-подрывной деятельности иностранных государств, с которой призваны бороться органы контрразведки, включает в себя: внешнеполитические установки правительств иностранных государств, структуру их специальных служб (разведывательных, контрразведывательных, диверсионно-террористических и т. д.), их силы и средства, формы и методы, приемы и «фирменный стиль» их деятельности, конкретные операции и мероприятия, их исполнителей.
С середины 50-х годов, вследствие официально принятой администрацией Д. Эйзенхауэра «доктрины освобождения», роль и значение разведки в реализации внешней политики США последовательно возрастали, что не могло не сказываться на масштабах и интенсивности ее деятельности в отношении СССР и что не могло не влиять на деятельность советских органов безопасности.
Следует также коснуться и деятельности 4-го управления КГБ, призванного вести борьбу с антисоветским подпольем, националистическими бандитско-повстанческими формированиями и попытками иностранных спецслужб использовать их в своих целях.
Как известно, в ряде западных регионов СССР – на Украине, в Белоруссии и прибалтийских республиках в послевоенные годы продолжали существовать вооруженные антисоветские сепаратистские группирования, подчас достаточно многочисленные, борьба с которыми носила жестокий, бескомпромиссный, а подчас и кровавый характер. Произошедшая в марте 1954 г. широкомасштабная реорганизация работы органов безопасности, однако, не повлияла на эффективность повседневной оперативной работы чекистов.
Так, уже 11 мая 1954 г. на территории Эстонской ССР были задержаны сброшенные на парашютах с целью создания нелегальной резидентуры агенты ЦРУ Тоомма и Кукк, а на территории Латвии был арестован десантировавшийся с того же самолета бывший преподаватель американской разведшколы в г. Кемптен (ФРГ) Бромбергс (оперативный псевдоним Энди).
Чуть позже, в ходе завязавшейся после ареста указанных агентов оперативной игры, у берегов Литвы был захвачен быстроходный катер, доставивший очередную партию военного груза для «лесных братьев» – отдельные бандитско-повстанческие группы продолжали существовать до конца 50-х годов58.
На Украине 23 мая 1954 г. был задержан «главнокомандующий» Украинской повстанческой армией (УПА) В. Кук, что явилось завершением одной из масштабных операций по ликвидации националистического подполья на Украине59.
Важнейшими политическими вехами руководства Серовым органами госбезопасности, бесспорно, являются начало процессов их очищения от лиц, виновных в нарушениях законности, а также реабилитация необоснованно репрессированных граждан.
На этих направлениях деятельности органов КГБ мы остановимся подробнее, учитывая как то, что они до сей поры мало известны нашим согражданам, и, с другой стороны, представляют далеко не только исторический интерес.
Отягощенное наследие госбезопасности
Процесс образования КГБ при СМ СССР сопровождался тяжелой «родовой травмой» – вскрытием в 1951–1954 гг. многочисленных фактов нарушений социалистической законности, вершившихся в НКВД, НКГБ и МГБ в 1930-е – начале 1950-х годов, задолго до известного «секретного» доклада Н.С. Хрущева делегатам ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 г.
После сообщения в печать об аресте Л.П. Берии как «врага народа» в органы прокуратуры и ЦК КПСС стали поступать многочисленные заявления и жалобы осужденных и их родственников о пересмотре уголовных дел, а также сообщавшие о применении незаконных методов в процессе ведения следствия.
В записке в Президиум ЦК КПСС Прокурора СССР Р.А. Руденко и министра внутренних дел С.Н. Круглова от 19 марта 1954 г. отмечалось, что с августа 1953 г. по 1 марта 1954 г. в органы прокуратуры поступило 78 982 обращения граждан с ходатайствами о пересмотре их уголовных дел, в связи с чем предлагалось создать специальную комиссию по пересмотру дел осужденных, в том числе и за «контрреволюционные» преступления.
В этой записке также сообщалось, что в лагерях, колониях и тюрьмах содержалось 467 946 осужденных за «контрреволюционные преступления», немалую долю среди которых составляли предатели, каратели и пособники немецко-фашистских оккупантов, выявленные агенты иностранных спецслужб. И, помимо этого, еще находятся в ссылке после отбытия основного наказания за контрреволюционные преступления 62 462 человека.
По делам органов ВЧК – ОГПУ за 1921–1929 годы


ЦК КПСС информировался и о том, что в «особом порядке» – Особым совещанием (ОСО) при наркоме/министре внутренних дел и госбезопасности в 1934–1953 гг. было осуждено 442 531 человек, большинство из которых были осуждены по «политическим обвинениям» за контрреволюционные преступления. (Эти лица были включены в ранее указанное общее число осужденных, но данное обстоятельство специально выделяется нами именно в связи с особыми условиями вынесения «приговоров» в «несудебном порядке», в нарушение Конституции СССР 1936 г.) В 1941–1944 гг. ОСО рассматривались также дела на разоблаченных агентов германских спецслужб, фашистских карателей и пособников оккупантов. Из этого общего числа осужденных ОСО за 19 лет его существования (оно было ликвидировано 1 сентября 1953 г.) к высшей мере наказания были приговорены 10 101 человек, к лишению свободы на различные сроки – 360 921, к ссылке и высылке – 67 539 человек60.
По запросу Президиума ЦК КПСС Министерством внутренних дел были представлены полные статистические сведения об общем количестве лиц, осужденных по материалам органов госбезопасности СССР в 1921–1953 годах.
Статистические данные о количестве арестованных и осужденных по материалам органов ВЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ СССР в 1921–1953 гг.
По делам органов ОГПУ – НКВД за 1930–1936 годы

По делам органов НКВД за 1937–1938 годы

По делам органов НКВД – НКГБ – МГБ за 1939–1953 годы


** Имеются в виду «контрреволюционные преступления» – ст. 58 УК РСФСР 1926 г. и аналогичные статьи уголовных кодексов союзных республик. Антисоветская агитация и пропаганда – статья 58–10 УК РСФСР.
** ВМН – высшая мера наказания (расстрел).
Всего же, согласно записке «Об антиконституционной практике 30—40-х и начала 50-х гг. было подвергнуто репрессиям 3 778 234 человека, в том числе 786 098 человек были приговорены к расстрелу. При этом в отношении некоторых из осужденных лиц подобные судебные и несудебные61 решения принимались неоднократно, в связи с чем реальное число осужденных несколько меньше суммы вынесенных приговоров.
Из общего числа 1 115 427 осужденных за контрреволюционные преступления в период 1939-й – первая половина 1953 г. на годы Великой Отечественной войны приходятся 476 617 осужденных62.
Помимо этого, по постановлениям Государственного комитета обороны (ГКО) в 1941–1944 гг. были депортированы из мест постоянного проживания поляки, украинцы, немцы Поволжья, ингуши, чеченцы, карачаевцы, турки-месхитинцы, калмыки и представители некоторых иных национальностей – около 2300 тысяч человек63.
19 апреля 1954 г. Президиум ЦК КПСС принял постановление «Об освобождении из ссылки на поселение ранее осужденных за антисоветскую деятельность» лиц, осужденных на срок до 5 лет.
3 августа 1954 г. постановлением Совета министров СССР были сняты административные ограничения со спецпоселенцев-кулаков. Президиумом Верховного Совета СССР принимались и иные указы, отменявшие различного рода репрессивно-дискриминационные меры в отношении отдельных категорий советских граждан64.
В ознаменование десятилетия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 17 сентября 1955 г. был принят указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны», в соответствии с которым подлежали освобождению от наказания военнослужащие РККА и ВМФ, осужденные за сдачу в плен.
29 октября 1955 г., через месяц после установления дипломатических отношений с Федеративной Республикой Германией, в порядке «жеста доброй воли» Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О досрочном освобождении и репатриации немецких военнопленных, осужденных за военные преступления».
На основании предложения Прокурора СССР Р.А. Руденко и министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова Президиум ЦК КПСС в мае 1954 г. принимает решение об образовании центральной и республиканских, областных комиссий по рассмотрению жалоб и ходатайств граждан, осужденных за «контрреволюционные» преступления (статья 58 УК РСФСР 1926 г. и аналогичные статьи уголовных кодексов других союзных республик). Эти комиссии были наделены правом пересмотра «приговоров» Коллегии ОГПУ, «троек», а также Особого совещания НКВД – МГБ СССР.
Помимо этого были образованы выездные комиссии Президиума Верховного Совета СССР (всего их было образовано 97), наделенные правом объявления амнистии в отношении осужденных рядовых граждан и коммунистов, но не номенклатурных партийных работников.
На основании выявленных Центральной комиссией многочисленных фактов нарушения принципов и норм ведения следствия в КГБ СССР, КГБ союзных и автономных республик, управлениях КГБ по краям и областям были образованы аналогичные комиссии с участием работников Прокуратуры СССР для пересмотра следственных и уголовных дел, наделенные правом пересмотра решений несудебных «двоек» и «троек», действовавших в 1937–1938 гг. В результате работы этих комиссий вскрывались многочисленные факты нарушения законности в ходе следствия и необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан, что влекло пересмотр их дел, снятие обвинений либо смягчение формулировок обвинения с досрочным освобождением осужденных.
В Москве такая комиссия для пересмотра уголовных дел в отношении лиц, осужденных за контрреволюционные преступления и содержащихся в лагерях, тюрьмах и колониях МВД СССР, находящихся в ссылке и на поселении, под председательством и.о. прокурора области П.И. Маркова была образована 29 мая 1954 г. Рабочий аппарат комиссии насчитывал 120 сотрудников: 98 человек – работники судов, следователи прокуратуры, в том числе 40 следователей и оперативных сотрудников УКГБ по гор. Москве и Московской области; и 22 технических работника, в том числе 10 из них от УКГБ.
Как сообщалось 28 декабря 1955 г. секретарю Московского областного комитета КПСС И.В. Капитонову в итоговом докладе о результатах работы комиссии, с июня предыдущего года было рассмотрено 4365 следственных дел на 5039 осужденных. По итогам их пересмотра по 1767 делам на 1960 человек были приняты решения об изменении ранее вынесенных приговоров: в связи с амнистией, уголовно-правовой переквалификацией составов преступлений, сокращением сроков наказания, частичной или полной реабилитацией. При этом 352 бывших осужденных были реабилитированы полностью.
Однако работа по пересмотру архивных следственных дел сотрудниками УКГБ по Москве и Московской области продолжалась и в последующие годы. Например, в отчете в МГК КПСС о результатах работы управления № 11/67 от 31 января 1958 г. сообщалось, что «закончена проверка по 1332 делам на 1887 человек», по итогам которой было принято решение о прекращении дел на 803 обвиняемых, находились в стадии проверки на 1 января еще 90 архивных следственных дел на 136 человек.
Как докладывал Президиуму ЦК КПСС 29 апреля 1955 г. Прокурор СССР Р.А. Руденко, по результатам проведенной комиссиями работы были пересмотрены уголовные дела на 237 412 осужденных (более половины из них), при этом было отказано в смягчении наказания 125 202 осужденным.
В то же время были отменены приговоры или прекращены уголовные дела в отношении 8973 человек, что означало их реабилитацию, были освобождены из мест лишения свободы 21 797 человек, отменена ссылка 1371 осужденному. Помимо этого были сокращены сроки наказания 76 344 осужденным и в отношении 2891 из них были переквалифицированы обвинения на менее тяжкие составы преступлений65.
Подчеркнем и следующие важные обстоятельства: по вскрывавшимся в процессе пересмотра уголовных дел фактам, а также по результатам следствия в отношении высокопоставленных работников органов госбезопасности, началось выявление и привлечение к ответственности лиц, непосредственно виновных в грубых нарушениях социалистической законности66.
В связи с выявленными в процессе пересмотра уголовных дел многочисленными фактами нарушений социалистической законности, в конце 1955 г. была образована Комиссия Президиума ЦК КПСС во главе с секретарями ЦК П.Н. Поспеловым и А.Б. Аристовым для изучения и оценки деятельности органов НКВД – НКГБ – МГБ – МВД СССР в 1930—1950-е годы67. Результаты работы и выводы доклада этой комиссии и стали основой для подготовки Н.С. Хрущевым доклада о культе личности Сталина и его последствиях делегатам ХХ съезда КПСС.
В этой связи не следует воспринимать на веру утверждение А.Е. Хинштейна о том, что «доклад Хрущева (о последствиях культа личности И.В. Сталина делегатам ХХ съезда КПСС. – О.Х.) в действительности готовился на Лубянке», поскольку его текст действительно писался первым секретарем ЦК КПСС68.
Необходимо подчеркнуть, что критика деятельности органов госбезопасности в 1930—1950-е годы, начатая в июне 1953 г. и продолженная в феврале 1956 г. на ХХ съезде КПСС, оказала самое непосредственное воздействие на формирование, комплектование и деятельность органов КГБ в последующие годы.
На основании указа об амнистии в июне 1992 г. Хохлов посетил Москву и… бывшее КГБ. «Маразм дошел до того, – писал бывший разведчик полковник И.А. Дамаскин, – что предателю жали руки ответственные сотрудники КГБ, водили его по зданию с посещением кабинета Андропова. Хорошо, что хоть руководитель Службы внешней разведки Е.М. Примаков не участвовал в этом спектакле». Дамаскин И.А. Вожди и разведка. От Ленина до Путина. М., 2008. С. 331–332.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе