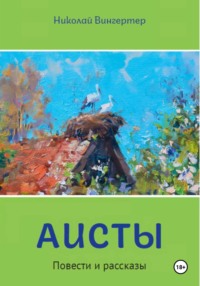Читать книгу: «Аисты», страница 4
Частые для этого времени года – после Ильина дня – грозы полыхали лишь на далёких черно-синих горизонтах, обрушиваясь изредка и на Подъёлки вспышками молний, громом и сильным проливным дождем.
Среди недели Мокшину понадобилось поехать в город за строительным материалом. Он долго задержался по складам и магазинам и, возвращаясь домой, сильно из-за этого нервничал, мучаясь тем, что надолго оставил Басю и ягнят. Заехав во двор, Мокшин, у которого никак не могло улечься волнение, которое он не мог понять, вошё в дом, взял, как обычно, хлеб, воду, и пошел в поле.
Было очень тихо. Воздух словно застыл в ожидании очередного ненастья, которое вызревало в сгущающихся лиловых тучах далеко на западе, и там были видны уже рассекающие небо электрические разряды. И сами Подъёлки тоже будто замерли в ожидании грозы; по селу не было слышно ни собак, не видно никого из людей.
Мокшин направился к месту, где утром навязал овцу. Но на подходе не увидел её, как обычно, издали. Сердце у него учащенно забилось, он побежал, расплескивая воду в ведёрке. Наконец, за кустом боярышника увидел ягнят, как-то необычно жавшихся друг к дружке, и Яшку. Овцы не было. Мокшин обернулся вокруг, и вдруг заметил свою веревку. Была она обрезана. Он машинально прошёл ещё несколько шагов и остолбенел. В траве, сильно вытоптанной и забрызганной кровью, успевшей загустеть и почернеть, лежала серая овечья шкура, и в спешке кем-то выпростанные из туши и брошенные внутренности, которые уже облепили мухи… Мокшин уронил и ведерко, и хлеб… Обернулся назад и уставился вопросительным взглядом на Яшку, словно ожидая от него какого-то ответа. Но тот молчал и смотрел на человека своими козлиными, не моргающими глазами.
– Кто?! – сиплым голосом прохрипел Мокшин. – Его всегда красное лицо теперь было бело, как мел. Под кожей скул нервно перекатывались желваки, плотно сжатые губы сжались в одну скорбную полоску, даже был слышен скрежет зубов из-за сильно сдавленной челюсти.
Человек и козел ещё какое-то мгновение смотрели друг на друга. Яшка продолжал молчать, но в его взгляде Мокшину показался немой укор. Мокшин не выдержал и с криком бросился назад в село. Ситцевая рубашка от бега на нём надувалась парусом, но он не чувствовал ни тяжести бега, ни одышки, которые у него обычно возникали при быстром беге. Он и не видел перед собой, и не слышал ничего три сотни метров, что оделяли жуткое место от его дома в Подъёлках. С помутненным взором он остановился только тогда, когда его неожиданно окликнула Сирота, шедшая домой из Красного. Мокшин резко остановился, хотел ответить, но у него так перехватило дыхание, что из груди вырывались только сиплые звуки, и не было возможности разобрать слов. Наконец, он чуть отдышался и рассказал ей об овце. Сирота отступилась от него на шаг и несколько раз перекрестилась, тараща на Мокшина наполненные страхом глаза, и бормоча о какой-то «божьей воле».
– Кто бы это мог сделать? – спросил Мокшин. – Ты была сегодня дома, видела кого постороннего в селе?
– С утра была дома. Потом пошла мыть полы в приход. Вот возвращаюсь. Никого не видела чужих. И грибников сегодня не было.
Мокшин неожиданно сказал:
– А Мишки Урбана в селе не было?
– Был, – ответила она, – но он же свой, не чужой.
Мокшин её уже не слушал. Он не пошёл домой, развернулся и снова побежал, теперь в Красное.
На бег сил не хватало, тогда он переходил на быстрый шаг, сильно и нервно размахивая руками, которые у него, как и ноги, налились железной тяжестью. Он превозмогал её, стараясь, наоборот, еще крепче сжимать кулаки – так было легче, и всё также сдавливать челюсти. Он не смотрел по сторонам, не видел вокруг бескрайнее поле пшеницы, не чувствовал внезапно пронесшегося волной по колосьям сильного ветра, и не ощутил начавшие сильно и резко падать крупные и холодные капли дождя. Его воображение занимала только картина недавно виденного на выгоне. Все остальное сознание, как и окружающая его теперь местность, словно потонуло в сумерках. Временами появлялись какие-то проблески света. Ему даже слышалось блеяние Баси, и он резко оборачивался, но не было никого вокруг. И только уже разошедшийся во всю дождь, промочивший всю одежду, продолжал хлестать Мокшина по лицу, и сильные вспышки молнии освещали ярким светом дорогу, и дрожал вокруг воздух, сотрясаемый резкими и раскатистыми ударами грома. Но его это не пугало, как теперь уже ничего не могло испугать. И даже когда в метре от него в землю ударил разряд молнии, так что вскипела вода в лужице, он лишь запнулся на ходу, и резко остановился, и поднял лицо к небу; хотел машинально перекреститься, поддаваясь, как любой человек, первобытному животному страху то ли перед богом, то ли неизвестностью, царящей в природе, но не смог, так как не был верующим, и получилось, что как-то неуклюже осенил всё же себя кулаком по лбу. В его глазах тут же вспыхнула досада за сделанную глупость. Но Мокшин опять посмотрел вверх будто в последней надежде увидеть там нечто, или услышать что-то вразумительное или успокаивающее, хотя знал, что ничего не увидит и не услышит. И он не увидел ничего, кроме стремительно продолжавших нестись очень низко тяжелых туч. Но из их бездонной прорвы ему вдруг почудился голос, твердивший, как и все жители в Подъёлках, что на всё на этом свете «воля божья». Он даже улыбнулся чуть-чуть по поводу этого, и сказал вслух: «Оказывается, всё так просто. На всё есть «воля божья»! – И он стал думать о том, что и он тоже теперь бежит в Красное по «воле божьей», она его туда ведёт, и там должно что-то свершиться по «воле божьей», – и это придавало ему необыкновенную силу.
Мокшин подошел к церковной ограде, когда дождь уже переставал. У ворот встретил лысого и рыжебородого попа, который, видимо, только вышел на улицу подышать свежим воздухом и прогуляться. Был он в рясе, поверх которой одета толстая вязаная кофта, застегнутая на все пуговицы.
– Где Урбан? – коротко и резко спросил Мокшин.
– Зачем он вам? – ответил поп, с подозрением оглядевший Мокшина.
– Раз спрашиваю, значит надо! – сказал Мокшин, наступая на него. Тот отошел и показал рукой в сторону приземистой постройки в дальнем углу ограды.
– Там у нас котельная, в ней и находится сторож-истопник. Он, кажется, готовит ужин.
Только после этих слов Мокшин действительно почувствовал разлитый в сыром воздухе печной запах и увидел дымок над трубой постройки. Он решительно шагнул в её сторону. Когда Мокшин потянул на себя дверь – первое, что ощутил – сладкий запах мясного варева. Потом увидел стоящего к нему спиной у плиты Урбана. Вид Мокшина был так страшен, что у обернувшегося к нему Урбана мгновенно подкосились коленки. Однако испуг, пробежавший по лицу Урбана мелким и частым миганием век, дрожью в лице, быстро прошёл, как у всякой натворившей дел твари, которая понимает, что нужно отвечать, и что лучше всего не бежать, потому что и некуда, а самому первому нападать, руководствуясь этим девизом на самом деле слабых и трусливых, а не сильных людей, вроде уличной шпаны. Привыкший жить своими практическими интересами, холодный в своей жестокости, Урбан, стараясь придать голосу безразличный тон, сказал:
– Знаю, зачем пришёл. Я бы завтра сам к тебе явился и всё объяснил. Понимаешь, у попов сейчас какой-то пост, и я уже устал за этот месяц от их яблок, каш, меда и прочей ерунды. Так уж получилось, что пошёл я с утра по грибы, и увидел овцу… Захотелось мясца… Поначалу даже не знал, что твоя. Потом только до меня дошло, что больше никто в Подъёлках такую живность не держит. Извини. Как говорится, «на все воля божья». Можно было взять ягненка, да какой с него толк, а Яшка, сам знаешь, старый козел. В общем, я к тебе завтра зайду и заплачу, узнаю только, почем теперь баранина.
Мокшин его слушал молча, но не слышал, что ему сказал и продолжает говорить этот человек. Он не думал и о том, насколько продолжает быть циничен и нагл Урбан в своих словах. Перед ним лишь был по-прежнему образ потерянного безвозвратно любимого существа, которое доставило ему так немного счастья в последнее время; Мокшин видел перед собой притягательные в своей доверчивости и покое глаза любимой овцы. И он никак в этот миг не мог поверить, и ему было чудовищно, дико и нереально понимать, что в огромной кастрюле, стоящей на плите, сейчас то, что осталось от его нежной и ласковой Баси.
– Да ты меня даже не слушаешь! – возмутился Урбан. – Тогда это твои дела. Придёшь в другой раз и поговорим. – Он направился к двери.
– Нет, постой! Какими она на тебя смотрела глазами? – отрешенно и с сильной грустью в голосе спросил неожиданно Мокшин.
– Да ты что, дурак, что ли? Какими на меня могла смотреть глазами овца! Бараньими, известное дело! И что, кроме глупости могло быть в её глазах. Ну, само собой, что не были они веселы, чуяла, думаю, что настал конец, и пастись ей теперь на райских лугах, а не в Подъёлках.
Он не успел договорить. Мокшин, захватил Убрана обеими руками в охапку, и потащил на улицу. Урбан пытался вырваться, но его держали словно стальные прутья. На улице Мокшин бросил Урбана навзничь на каменную мостовую, сел сверху и схватил за шею.
– Да ты, т-ты же так убьешь человека! – кричал подбежавший к ним и суетившийся вокруг поп. Мокшин отпустил шею жертвы. Его помраченное сознание стало проясняться; казалось, что он встанет и опомнится, потому что повернулся к попу и четко, и ясно сказал:
– Уйди прочь! Не за человека сейчас просишь… Ты же сам говоришь всегда: «на всё воля божья!» И это верно! И я её слышал. – С этими словами он приподнял за плечи пытавшегося высвободиться Урбана, и со всего маху затылком ударил его о булыжник мостовой, так что захрустели кости черепа.
ОБМАН
(рассказ)
1.
Люди хотят быть счастливыми, – это так естественно, как хотеть есть или пить. Белкина Галина тоже не могла не желать себе счастья, обыкновенного женского счастья. Другое дело, что не всё в жизни складывается, как хочется. Легко ей ничего не давалось: ни уютная квартирка на последнем этаже девятиэтажного дома, ни мебель – хотя и не слишком дорогая, но модная; ни даже флакончик любимых французских духов. Но всё это давно стало привычным, и когда она иной раз думала о том, что приобретение таких обыденных вещей стоило ей десяти лучших лет жизни, куда-то уходило чувство удовлетворения и становилось страшно. В долгой погоне за положением в обществе и материальным благополучием выделялись чёткие, как на размеченной вешками дороге, временные промежутки, и измерялись они приобретениями каких-то предметов быта, стараниями на работе, а между ними, словно завтраки наспех, любовь. За многие годы она устала быть женщиной с твердым характером, как отмечалось в её характеристиках; ей казалось, что она сама придумала этот образ, похожий на искусственную и фальшивую, как всё в кинофильмах, роль. Выражаясь языком философов, в ней заговорил некий нравственный императив, а толчком к перерождению послужила, как нередко бывает, случайность.
Однажды, спеша по делам, чуть не сбила с ног двухлетнего малыша. Он стоял на краю небольшой лужи и увлеченно в неё заглядывал. Белкина резко остановилась и тоже посмотрела. В лужице, как в зеркале, отражались голые ветки деревьев, кусок многоэтажки, а между ними – плывущие в ярко-синем небе облака. Они покачивались ватными боками, и от этого картина казалась живой. Малыш был восхищен открытием мира не на экране телевизора, а на улице, и всё его личико сияло большой радостной улыбкой. Настроение ребенка передалось Галине, она тоже улыбнулась, и ей даже показалось, будто шевельнулось в душе смутное воспоминание, что когда-то точно так же, маленькой, наблюдала и она купающиеся в воде облака. И, как по телеграфному проводу, из далёкого прошлого передалось ей состояние благостного покоя, и напрочь забыла она о суетности мира и проблемах. Над ними на мокрую ветку уселся грач, несколько капель воды упало вниз, лужа подернулась рябью. Малыш посмотрел на Белкину, замахал ручонками и начал что-то у неё спрашивать на своём, понятном ему одному языке. Он явно хотел выяснить, отчего испортился «экран», его захлестывали эмоции. А Галина, такая большая, растерялась от неожиданности, ничего не смогла ответить и только подумала, что, наверное, она так же спрашивала и у своей матери. И, должно быть, мать, как теперь она, не могла ничего понять. «А может, все-таки могла? – осеклась её мысль. – Да, мать понимала…» И у неё вдруг сильно защемило в груди, стало трудно дышать из-за сознания того, что она не мать, поэтому не понимает малыша, что у неё нет никого, кто бы через много лет вспомнил о ней… И так ясно и понятно стало в этот миг, что без ребёнка она не может быть счастливым человеком, что только дитя придаёт настоящий смысл жизни, и очень-очень захотелось ей быть счастливой – матерью. И точно пелена упала с глаз, внезапно пришло прозрение, что её жизнь – не настоящая, что она не может и не хочет больше жить, постоянно поддаваясь чудовищному утилитаризму своего времени.
В том, что «человек – кузнец своего счастья», Белкина была уверена на собственном опыте. Поэтому воспринимала не только, как некую догму, этот лозунг социалистов всех мастей, но даже его саркастическую копию-подделку писателя-сатирика: «Хочешь быть счастливым – будь им», – вовсе не считала смешной иронией. «Если не я сама, кто обеспечит мне счастливую жизнь? – думала Белкина. – Полагаться следует только на себя».
Помощь мамы она принимала время от времени лишь пока училась, а после окончания института уже выживала самостоятельно. Заработная плата в школе, где она преподавала английский язык, была очень мала, но Галина имела много частных уроков. И, как всякий думающий о завтрашнем дне человек, со временем даже начала копить деньги, открыв счет в коммерческом банке. Галина испытывала некую гордость за себя от того, что уже на протяжении многих лет регулярно покупает и откладывает по пятьдесят долларов в месяц. Почти удовольствием было для неё и посещение банка, который она долго выбирала среди множества других, сделав свой выбор. Банк мало чем отличался от других, но ей очень нравился твёрдый знак в конце слова «банкъ». Казалось, что от старомодного употребления буквы «еръ» в конце слова веет каким-то серьезным отношением к делу и тягой к забытым традициям предприимчивых, но честных людей. В банке встречали её пусть и немного дежурными, но неизменными улыбками, которые так редко можно увидеть на улице. Доверчивая, как люди, которым очень хочется, чтобы свершилось поскорее задуманное, она с чувством удовлетворения отдавала заработанные репетиторством вечерами и в выходные деньги, подшучивала над собой, называя себя Гобсеком. И ещё в банке порой забавлялась важными и подчёркнуто вежливыми служащими или их руководителями. Они уже научились самому примитивному: модно и стильно одеваться; но пока не отличались хорошим вкусом к вещам, которые формируются не одним днем, а годами. Поэтому по стенам банка довольно нелепо смотрелись картины в рамах из очень дорогого, массивного и в позолоте багета, но не под стать таким рамам в них была скучная графика, оформленная под паспарту.
«Как же кстати оказались теперь мои деньги, накопила больше семи тысяч долларов, почти на машину, – думала она. – Их, наверное, будет достаточно на первое время после рождения ребёнка, так как полтора-два года придётся сидеть дома, пока снова смогу работать». Она в который раз принялась подсчитывать расходы, прикидывая свои возможности, зная, что неоткуда будет ждать помощи. И всё неплохо сходилось, – она укладывалась в свои сбережения. Решение было таким неожиданным и стремительным, что она не вполне верила в реальность своего счастья, всё ещё казавшегося несбыточной мечтой. Но это было возможно, и несказанная радость охватила её: хотелось жить и дать жизнь новому человеку и знать, что ты нужна кому-то не на час, не на месяц, а навсегда. Дело оставалось за малым.
Она уступила упорным ухаживаниям своего коллеги, который не вызывал у неё ответных чувств, состоял в браке, отличался скупостью и уже имел двоих детей, но многими был замечен в жажде любовных утех.
Потом настала весна, уже тридцать третья в её жизни, но ей больше не казалось, что это повод для грусти, наоборот, всё было чудесно, она считала, что теперь только начнет по-настоящему жить. Она похорошела, и постороннему было сложно определить её возраст, который одинаково соответствовал и молодой женщине, и уже зрелой, но уставшей от жизни девушке. У неё был правильный овал лица и совсем не было морщин, а стоило ей заговорить, обнажив ровный ряд белых зубов, как немного угрюмые складки возле губ тотчас разглаживались, а прищуренные из-за близорукости глаза, казалось, смеялись, излучая ум и жизненный опыт.
Скоро у неё случилась задержка, но если раньше это её пугало, то теперь стало долгожданным подарком. А ещё через месяц она ощутила полноту, необычную тяжесть грудей и присущий женщинам в «интересном» положении дискомфорт в животе. Но её уже не могли из-за этого пугать неприятные хлопоты, как если бы такое случилось с нею год или два тому назад; теперь она только чувствовала с каждым днем всё больше и больше, что наполняется новой жизнью, но это было пока ещё совсем незаметно окружающим. Однако это стало её огромной тайной, о которой она молчала, но не потому что верила в какие-то приметы, – она просто наслаждалась своими радостью и счастьем, не желая до поры ими с кем-то делиться. Она не знала: мальчик у неё или девочка, и не знала, кого больше хочет, но понимала, что ребенок – часть её самой, ее продолжение, что ветвь жизни на ней не пресечётся, а потому придет время, и кто-то будет, как тот малыш, смотреться в лужу и спрашивать у неё, куда же в воде плывут облака…
Как хорошо жить в ожидании громадного счастья, которое вот-вот, уже «не за горами»! Тогда и мир вокруг кажется розово-голубым, и нет в нём, как в мифическом Эдеме, мрачных красок. Стояло лето, было очень тепло, природа располагала к отдыху; ученики разъехались на каникулы, и она млела на солнышке, лениво созерцая сиреневую мглу, в которую на далёком горизонте соединялись море и небо. Мир с его проблемами, казалось, куда-то исчез, оставив её одну с приятными мыслями и мечтами. Её даже не огорчило заявление бухгалтерии, сообщившей, что денег пока нет и заработную плату с отпускными ей выплатят позже.
Так прошла еще неделя, и однажды, продолжая оставаться в прекрасном расположении духа, практичная Белкина всё же посчитала, что хватит расслабляться, пора вернуться к реальной жизни. Она, не дожидаясь денег в школе, решила снять в банке причитающиеся ей проценты для текущих расходов, а заодно сделать кое-какие необходимые приобретения, чтобы потом, когда будет на сносях, не обременять себя лишними проблемами.
В банке кассир, взяв её документы, попросила написать заявление о снятии со счета денег, и подойти снова через три дня, пояснив, что у них в настоящее время какие-то технические трудности. Белкина удивилась, но заявление написала. Когда она в строго указанное время снова пришла в банк, ей сказали, что временно денег нет, и посоветовали прийти на следующей неделе. Время тянулось, как в скучном телесериале, но она дождалась окончания недели и в пятницу пошла в банк. На это раз он был закрыт, перед входом топтались люди, которые друг на друга недоверчиво поглядывали. Вскоре дверь открылась, все вошли в знакомый вестибюль с картинами, где их встретил служащий банка – мужчина лет сорока с зачесанными назад и напомаженными волосами. Он был очень краток, голосом, похожим на треск ломаемых сучьев, сказал, что им не следует сильно волноваться, что банк имеет трудности временные, но в ближайшие дни их пригласят для дополнительной информации.
Она ничего не понимала в происходящем. Ей хотелось кое-что спросить, чтобы разобраться, но она никак не могла сформулировать свой вопрос, боясь выглядеть смешной, но в то же время и не могла взять в толк, что значит «сильно не волноваться», когда речь шла о её деньгах.
Прошла ещё неделя, никаких сообщений так и не было, и она сама опять пошла в банк, однако её не впустили; охранник, сослался на какое-то распоряжение руководства. Она, полностью обескураженная, направилась в юридическую консультацию.
Адвокат выслушал её сбивчивый рассказ и сказал:
– Должен вам честно заявить, что, к сожалению, вряд ли смогу помочь, я имею в виду реальное вернуть ваши деньги. Мы, конечно, составим исковое заявление, подадим его в суд, и суд, не сомневаюсь, решит дело в вашу пользу, но денег вы всё равно не получите. – Он покопался в своих бумагах и медленно добавил: – Да, так и есть, по вашему банку уже как два месяца начата процедура банкротства.
– Как же? Я вносила им деньги, у меня есть документы, и потом – это мои деньги. Куда они дели мои деньги?!
– Видите ли, в нашем государстве, как во всяком другом, считающим себя современным и цивилизованным, есть, разумеется, законы, которые обязывают в случаях, подобных вашему, вернуть деньги вкладчику. На самом деле весь правовой механизм, то есть всё устроено так, что с большей долей вероятности никогда их назад не получите. Иначе какой смысл было брать у вас деньги, чтобы потом снова возвращать. Вы только вдумайтесь! Такое редко случается. В вашем банке денег уже нет, а с учредителей этого банка, – ими являются, как правило, физические лица, – тем более ничего не получите, в «долговую яму» или «зиндон», как её называли на Востоке, никто должника не посадит, чтобы его родные или кто иной рассчитались с вами за него. Это было бы средневековьем, – таким образом поступить с хозяевами банка. Так, по крайней мере, говорит современное государство. А если говорить о деньгах, вы со школы знаете, что ничто и никуда не исчезает, а лишь переходит из одного состояния и качества в другое, – адвокат решил, видимо, блеснуть знаниями из курса политэкономии: – Так вот, ваши деньги стали для кого-то новой машиной, украшением на шее, ну, и прочее.
– Но это обман и воровство!
– Это на языке нормальных людей. На языке других воровство только тогда, когда у вас из кошелька вытащат деньги. К несчастью, в этом и заключается вся фарисейская мораль современного мира и законов её обслуживающих. А для успокоения общественного мнения есть известная фраза: «К сожалению, имеется пробел в законодательстве, над этим работают…» Я считаю – это хорошо продуманная система отобрания у населения накоплений. Мы перед нею бессильны.
Белкина не совсем понимала вдруг разоткровенничавшегося адвоката. Её ум подсказывал, что он прав, что она обычная жертва узаконенного жульничества, а сердце не соглашалось с этим и требовало какой-то высшей справедливости, заставляло её волноваться и страдать в лихорадочной попытке как-то разрешить ситуацию, вернуть деньги и удержать ускользающее от неё, как рыба из рук, – она это почувствовала, – такое долгожданное счастье. Но она была маленькой песчинкой в море людского песка, придавленного чей-то чужой и злой волей, а вокруг была тишина и никаких предвестников бури, которая всколыхнула бы этот залежалый песок, чтобы он задвигался, закружился в неудержимом вихре, смел и уничтожил даже саму память о чьей-то злой воле и тех, по чьей вине ей приходится страдать.
Её душа больше не знала покоя, и только внутри неё неведомый кто-то жил своей и одновременно её жизнью, полной внезапно навалившихся проблем и волнений. Она знала, точно знала, что уже не одна, что этот неведомый, как и она, переживает вместе с нею горечь жизни. Ей было плохо от того, что и он вместе с нею мучается и думает, как сложится его дальнейшее существование. Она была почти уверена, что это так, что он уже может думать; ей давно казалось, что они вместе, не зря она раньше, лежа в постели и поглаживая живот, разговаривала с ним, рассуждая о том, как им будет хорошо, рассказывала, как замечательно жить на белом свете, и какими он – её сыночек, или доченька – будут для всех долгожданными. Теперь она не могла сказать, что всё прекрасно в этом мире, – для кого-то их появление и вовсе безразлично, – что их ждут и будут им радоваться. Её состояние прежнего сильного душевного подъема, сменилось подавленностью, хотелось кричать, взывать о помощи, но кругом было равнодушие, и глухая стена.
Отпуск подходил к концу, через неделю нужно было выходить на работу. Полученные небольшие деньги заканчивались. Как она ни старалась их экономить, – они таяли быстрее весеннего снега. Занимать она не любила, потому что всё равно следовало отдавать. За небольшую сумму сдала в ломбард пару серёжек и кольцо. Такого с нею ещё никогда не было. В один из дней она обнаружила, что в ящичках и шкафах на кухне не осталось ничего из съестных, длительного хранения, припасов. Нашла только банку с остатками кофе, сварила его. Потом достала спрятанную с глаз ещё с начала беременности пачку сигарет и машинально закурила, как раньше, когда из-за чего-нибудь переживала. Тут же поймала себя на мысли, что, наверное, это неспроста после долгого запрета на кофе и сигареты. Включила телевизор. Гламурная ведущая из блока экономических новостей взахлеб рассказывала о каких-то новых достижениях в стране и грандиозных планах страны на будущее. Белкина подумала, что она, видимо, даже не знает, что говорит, повторяет, что ей написали, – до того всё это телевизионное действо выглядело лживо и хвастливо, как и раньше, когда такие же ведущие говорили то же самое, ещё на черно-белых экранах. Она выключила телевизор, прилегла и уснула. А когда проснулась, удивилась, что проспала совсем немного, на дворе только стемнело, но уже так и не смогла долго заснуть, думая о том, как ей быть, как дальше жить. И с этими мыслями тяжелый, трудный сон к ней пришел снова только к утру, и проспала она, как ни разу в жизни, почти до полудня. Так повторялось с нею ещё день, и ещё день, который у нее начинался, как у нелюдей, с закатом солнца и бессонницей, а с восходом заканчивался глубоким сонным забытьем. Она была беременна, но ей совсем не хотелось есть, думала о том, что один вид еды у неё тотчас вызовет отвращение. Она понимала, что поступает неправильно, но не могла себя взять в руки: из головы не выходила одна-единственная, тягучая, как жвачка, мысль, что будет, если родит. Как ни просчитывала, получалось, что она не сможет содержать ни себя, ни ребенка даже первый год после родов. Деньги, на которые рассчитывала, украли, доход учителя не мог обеспечить даже самое жалкое существование её и ребенка, а надеяться на частные уроки с грудничком на руках было глупо. Её недолгое счастье осталось в мечтах. Но она больше никого не хотела винить в случившемся, кроме себя, считая, что оказалась слишком наивной и самонадеянной в своих лучших чувствах, с которыми, похоже, нельзя жить. Она мучилась совестью ещё несколько дней, и, как ни гнала прочь плохие и грешные думы, снова и снова в ней брал верх холодный расчет человека, соизмеряющего свои возможности с реальностью.
Придя на работу, она сослалась на недомогание. Вскоре шла вдоль неподвижного зеркала пруда, в котором почему-то не отражались ни серое низкое небо, готовое вот-вот, как и сама Белкина, заплакать еле сдерживаемыми слезами, ни растущие на берегу деревья. В воздухе уже чувствовалась осень, и первые желтые листья лежали на черном асфальте дорожки, ведущей к больнице. Здание еще не отапливали, было промозгло и неуютно, и она ежилась от холода и набегающего волнами ужаса из-за принятого ею накануне решения. На некоторое время она даже остановилась в большом вестибюле, и подумала не повернуть ли ей назад. Потом, сжав до белизны кулаки, со свойственной ей решительностью толкнула дверь в кабинет абортов.
РЫЖАЯ
(рассказ)
Дворняжка, клички которой никто не знал, – из-за огненного окраса её называли просто "Рыжей", – лежала под заброшенным навесом городского рынка, в самом дальнем углу, заросшем репейником и крапивой. Днем сюда не приходил никто, а вечером появлялся коренастый, с широким, как у монгола, лицом, дворник, который приносил собаке из мясных рядов сор, остающийся после рубки туш. При его появлении она радостно тявкала, преданно выгибалась перед ним и неистово колотила по земле пушистым, как у лисицы, хвостом.
Две недели назад она впервые ощенилась, и теперь вся её жизнь замкнулась на двух крохотных живых комочках, копошившихся у её розового живота. Материнское чувство захлестнуло её волной забот, о которых она и не подозревала. Страшнее всего было оставлять, даже ненадолго, этих постоянно требующих есть существ. Выходя по надобности из картонного ящика, приспособленного дворником под конуру, она бегом возвращалась назад, так как ей казалось, что без неё они не могут прожить и минуты. Она сворачивалась клубком, за загривки подтаскивала щенков, а сверху накрывала их хвостом. И ей нравилось так подолгу лежать, урчать им свои собачьи колыбельные и ощущать, как приятно облегчаются полные молока сосцы.
Но вот уже несколько дней старик почему-то перестал приходить и приносить еду. Щенки получали молока меньше и стали очень капризными, а она не могла накормить их досыта и виновато отворачивалась. Её бока заметно ввалились, морда вытянулась, а вся Рыжая, имевшая в холке всего-то тридцать сантиметров, стала ещё меньше.
Щенки, расталкивая друг друга, старались схватить сосок, на котором выступила желтая капелька молока. Но ни один из них не мог дотянуться, отталкиваемый всякий раз соседом. Потом палый с белой шалкой смахнул каплю ворсинками уха, и как ни старались они дальше тянуть мать – молока не было. Щенки обиженно заскулили. Она стала их унимать, вылизывая спинки, но они не затихали, а ещё сильнее скулили и мучили её. Вдруг один сильно защемил сосок, она взвизгнула и резко вскочила. Потом вышла из-под навеса и стала смотреть в сторону рынка.
День обещал быть жарким, и с утра на рынке толпилось много людей. Она пристально всматривалась в толпу, надеясь заметить старика. Но с тех пор как несколько дней назад издали видела, что его отнесли на носилках к машине люди в белых халатах, он не появлялся.
Рыжая оглянулась на уставших скулить щенков и покрутила головой, принюхиваясь к воздуху, в надежде, что поблизости есть съестное. Однако ничего не почуяла, а дразнящие запахи долетали только с рынка. Она беспокойно потопталась на месте, ещё раз глянула на голодных щенков и пошла.
Солнце успело подняться высоко и нагрело бетонные плиты, которыми была вымощена территория рынка. Идти по ним легко и приятно. Люди беспорядочно сновали вокруг, что-то кричали друг другу, сталкивались лбами, отдавливали друг другу ноги, ругались, извинялись и спешили дальше. Рыжая давно не была здесь, и после полумрака конуры яркое солнце и суета рынка ошеломили её, как и внезапно обрушившаяся из динамика на столбе оглушительная музыка; она поначалу даже съежилась с испугу и едва успевала увертываться от наступавших на неё со всех сторон башмаков. Возле небольшого киоска, где продавали сладкое, она остановилась. Большой белобрысый парень, зажав в пятерне кулек с мелкими пряниками, другой рукой бросал их, как орешки, в рот и глотал, почти не разжевывая. Как завороженная следила Рыжая за ним, ожидая, когда бросит и ей пряник, а может быть, случайно уронит. Но он не замечал её, и пряники не ронялись. А здоровяк, подбросив вверх последний пряник, ловко его поймал, смял кулек и швырнул его в сторону рыжей дворняжки, которая едва увернулась и отбежала в сторону. Но не было у неё обиды на этого человека, она вообще на людей не обижалась, мало среди них было таких как её дворник, они, в основном, унижают и давят слабых.
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе