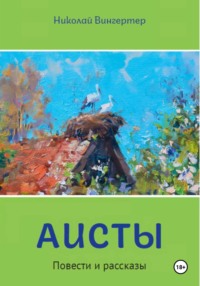Читать книгу: «Аисты», страница 3
– Верно, – сказал Новиков, – даже лекторам ставят стакан с водой. Глянь, какая! – он кивнул в сторону большой бутылки-графина с водкой, и было видно, что он уже давно смотрит и думает только о ней. – Такой никогда не пробовал.
– Чем рад, – сказал Мокшин. – Стал сам обносить гостей бутылкой, и никто, кроме вдовы, попросившей вина, не отказался.
– Она хотя бы и горькая, но не травит, как вино, – сказал тракторист, опуская на столешницу гранённый стаканчик. – Взять к примеру мой трактор,– продолжал он, – влей в него плохую или разбавленную водой солярку, разумеется, не пойдет, ему нужна энергия. Так и человеку… – многозначительно закончил он.
– Но в вине, я слушал однажды передачу, говорили, что есть витамины, – поддержал тему ветеринар.
– Именно, говорили! – передразнил его старик. – Ты сиди больше при своем телевизоре, – совсем оглупеешь! Вот Василич, сразу видно, бывалый человек, поставил пол-литра красненькой, зато сразу и полтора белой. Давай ка, Василич, теперь за тех, кто на суше…
Мокшин снова всех обнёс. Стопки он выставил граненые, на сто грамм, наливал их до верху. Выпили сразу, и между сидевшими за столом вскоре появилась почти осязаемое единение, которое словно невидимой нитью связало их, сделало откровенными, будто они на самом деле в этом временном сближении за спиртным пытаются доискаться до какой-то истины. Гости застучали вилками, кто-то ножами, предупредительно разложенными Мокшиным у приборов. Приготовленные им нехитрые закуски из нарезки сыра и колбас, мясных и овощных салатов, какими не часто баловались жители Подъёлок, стали тоже общей для всех темой. Соседи не скрывали восторгов и благодарности хозяину за угощение. Возник даже небольшой спор, когда к Сироте под руку засунула морду пришедшая вслед за нею из дому собака. Сидевшая рядом вдова больно ткнула собаку в бок и сказала:
– Ещё чего! Тебя только не хватало?
Собака взвизгнула, отбежала в сторону и, тяжело вздохнув, легла, опустив голову на накрест сложенные лапы, уставившись на подвыпивших людей трезвыми глазами.
Мокшин взял кружок колбасы, подозвал её к себе. Та подошла и ловко сняла с его большой ладони колбасу, дружелюбно завиляла хвостом.
– Лады Василич, – сказал старик Новиков. – Она хотя бы и сука, а видишь – ласковая! Тоже любит уважение.
– Как же ей не ластиться, если колбасой кормят, – вставила сердито вдова. – Небось сроду колбасы не видела…
– А ты не обобщай, – обиженно сказала Вера Сирота. – Больно твоя псина что-то видит…
– Колбасы на всех хватит, – дружелюбно улыбнулся Мокшин, – ещё есть, нарежу. А вот скажите, кроме собак и кошек, я другой живности не видел.
– Держали в своё время и скотинку, – сказала старуха Новикова. – Коровка была, и свиньи, даже лошадь. А теперь сил нет, да как-то и ни к чему. К примеру, мы с дедом молоко не пьем, как выпьешь, почему-то понос, есть мясо нет зубов… Старость, думаю. – Она посмотрела в сторону мужа, добавила улыбнувшись: – А у деда моего есть петух. Все хочу его на бульон пустить, не разрешает.
Старик, сгорбившийся за столом, услышав про петуха, сам, как птица, проснувшаяся на насесте, резко приподнялся и обвел всех горделивым взглядом.
– И не дам, он заслуженный!
– Это чем же? – спросил Мокшин.
– До тебя здесь жил Урбан Мишка, – сказала старуха. – Лихой человек. Вот и твою квартиру, почитай, пропил да промотал невесть как. Не сказать, что так уж сильно пьёт, не больше других, но весь с какой-то гнильцой в душе, главное, нечист на руки. Но, леший, никогда ведь не попадался. А тут случилась такая история два года назад, осенью. Петух, как любая птица, любил не просто пить из ведра, которое я всегда ставила курам у ледника, в конце сада, а вскакивать на край; случалось не раз, что ведро бывало пустым, опрокидывалось и его накрывало, а всё одно глупый, али любопытный, вскакивает на край ведра, чтобы заглянуть в него. Так, видимо, было и в то утро. В вечера ведро забыла наполнить, лёгкое, оно опрокинулось и накрыло птицу. А в это время в ледник, который мы не всегда закрываем, залез Урбан. Набрал в мешок банок с моими заготовками, и шёл, конечно же, осторожно, крадясь. В тот момент у него на пути и зашевелись ведро… Урбан с испугу так сиганул в сторону, что упал и сломал ногу. Его старик и застал стонущим среди разбросанных банок… Наш участковый благодарил потом нас, а Урбана даже судили, но не посадили, отделался штрафом… Теперь вроде как поумнел, говорят, дома у него нет больше, живет и работает при церкви в Красном.
– Его и наш батюшка, отец Серафим даже уважает, – сказала Вера Сирота. – Кто же не знает, что к Мише Урбану снисходила особая благодать… Вы об этом слышали? – обратилась к Мокшину. – Даже по телевизору показывали, что у его курицы были особые, небесного цвета яйца.
– Не слышал, – сказал Мокшин.
– Ну как же! Прошлой осенью курица, что жила в сторожке Урбана, вдруг снесла голубое яйцо. Батюшка сказал, что это особый знак. Яйцо всем показывали, приезжали с телевидения, снимали специальное кино про курочку и её голубые яйца. Красивая была курочка.
– Почему была?
– Отчего-то померла через месяц, но снесла она примерно с десяток таких яиц. Из города приезжали богатые люди, Урбан им продавал каждое по тысяче рублей. Сама видела, когда приходила мыть полы при церкви, я там тоже работаю, прибираюсь. Люди говорили потом, что яйца те целебные, от самых тяжелых хворей излечивали.
Гости снова выпили. Водка уже действовала на людей, они становились всё веселей и разговорчивее.
– Тетя Катя, – повернулся Сирота к старухе Новиковой, – вы тут всё про петуха так хорошо сказали, а ведь у нас с Верой тоже есть какая-никакая живность – Яков, забыли, что ль?
– Это кто? – спросил Мокшин.
– Козел. – ответил Сирота.
– Здорово! – сказал Мокшин.
– И коза у вас есть?
– А пошто ему жена! – засмеялся Сирота. – Козел он и есть козел, к тому же выложенный.
– Как это? – переспросил Мокшин.
– Сразу видно, городской ты человек. Это означает, что кастрированный. Мне этим козликом вместо денег за распашку огорода было дело расплатились. Решили с Верой, что подержим козлика на мясо, поэтому Сторожев и выложил ему, значит, все, козлятина после этого нежнее и вкуснее бывает. Сначала дети Яшкой забавлялись, вырос он, считай, вместе с младшенькой, стал у нас вроде члена семьи. Как после этого его забивать? Так и живет у нас уже четыре года. А хошь, приведу его прямо сейчас?
Не дождавшись ответа Мокшина, Сирота встал и неровной походкой пошел в сторону своего дома. Не прошло и пяти минут, как он привел на верёвке упиравшегося, напуганного большим количеством народа, козла. Сирота сел на край лавки, поставил рядом козла, продолжая держать веревку.
– Вот Василич, ещё тебе гость! – он погладил свободной рукой козла. – Добрейший, скажу тебе, козёл. Правда, Яша?
– Животина серо-белой масти с сильно загнутыми, но небольшими рогами, в ответ промолчала, облизнув сиреневым языком тонкие козлиные губы, и настороженно взирала выпученными глазами на пьяных людей.
Мокшин с любопытством разглядывал Яшку, который одним своим присутствием забавлял толпу, и спросил:
– Чем его можно угостить?
– Разумеется ста граммами, – сказал Сирота. Засмеялся. – Угостить можно всегда. Кто не любит угощения?
– Конфетой?
– Да что ты, Василий Васильевич, – сказала Новикова. – Он же не собака. Самое любимое у коз и овец – кусочек хлеба, ещё лучше, если хлебушек потерт солью.
Мокшин взял кусок ржаного хлеба, посыпал соли и протянул козлу. Тот сначала отвернулся, потом резко вырвал у него из рук хлеб и стал жевать, медленно двигая челюстями.
– Подумать только! – сказал Мокшин. – Какое приятное создание. Вот спасибо, – он обратился к Сироте, – вы сильно, скажу вам, подняли мне настроение. Если можно, я буду иногда кормить Яшку хлебом.
– Отчего нет. Он будет всегда рад.
– А сейчас, дорогие соседи, – сказал Мокшин, – от меня небольшие подарки. Они незамысловатые, но всегда сгодятся. – С этими словами он ушел в дом и скоро вышел, неся большую картонную коробку. Поставил её на стол и вытащил из неё две стопки: вафельные белые полотенца и тельняшки с трусами.
– По паре полотенец для женщин, а по тельняшке с трусами мужчинам. – Он заулыбался, видя удивленные лица соседей. – Трусы, сами понимаете, – усмехнулся, – не простые, а военно-морские, таких сейчас ни в одном магазине не купить… А если серьезно, добра у меня этого не мало. Мне вовек не сносить. Но всё получено по закону, этим добром со мной расплатились вместо денежного довольствия, когда увольнялся. Так что пользуйтесь на здоровье.
Люди, мало видящие радости в своей нелегкой сельской жизни, растроганные таким вниманием чужого человека, жали Мокшину по очереди руку, старик Новиков его даже обнял, а вдова прослезилась… Для них всех продолжался ставший неожиданно таким приятным обычный апрельский день.
Через месяц, на майских праздниках, Мокшин копал грядки за домом. Густо проросшая кореньями пырея, дикого клевера и одуванчика земля, давно не поднимавшаяся под лопату, давалась с трудом. Непривычный к такой работе, он даже немного устал и собирался пойти в дом отдохнуть и попить чаю, как его окликнули: «Хозяин!»
Мокшин обернулся. За штакетником забора стоял высокий, с болезненной худобой мужчина. Неестественным на фоне этой худобы выглядело его полное из-за отечности и пастозное, как у алкоголиков, лицо.
– Слушаю, – сказал Мокшин, и подошел к незнакомому человеку.
– Я Урбан Михаил, – представился незнакомец. – Раньше здесь жил.
Мокшин тоже назвался и пригласил Урбана войти. Тот зашагал прихрамывающей походкой. На вопросительный взгляд Мокшина, махнул рукой и сказал, что травма давнишняя, связана со спортом, лыжами, которыми когда-то занимался. «Наслышан, что за лыжи», – подумал Мокшин. Урбан, войдя в дом, усевшись на свободный стул, жадно осмотрелся, обнаруживая живой интерес к когда-то собственным стенам. В его глазах было видно удивление от увиденного, но он старался его скрыть и с подчеркнутым великодушием, стремясь одновременно угодить, сказал:
– Видно хозяина! Но, скажу тебе, благодаря и мне, моим большим трудам многие годы, – он поднял правую руку и многозначительно покачал указательным пальцем, – у тебя теперь всё это есть!
– Спасибо, – вежливо ответил Мокшин. – Я что-то, может быть, должен?
– Ну, нет! Это я так, между прочим, – но Урбан тут же задумался. – Хотя, если серьезно, конечно, я бы свою половину продал дороже тех денег, что получил в банке с кредита. Жулики! Вот кто они. Обобрали честного человека… Бог им судья… Но тебя это не касается… Ты, Василий, как хороший человек, о тебе отзываются у нас очень положительно, – если бы немного заплатил мне, я был бы не против. Сам понимаешь, жизнь стала очень трудная, лишней копейка не бывает. Опять же, между прочим, там за сараем гора дорожного булыжника. Хватит на основание всего забора, если захочешь новый поставить. А этот камень, между прочим, в стоимость дома не входил. Его я добывал вот этими трудовыми руками, – он протянул вперед руки, худые – кожа да кости – с тонкими, в подагрических узлах, пальцами, совсем не похожими на рабочие. – Урбан закашлялся и закончил: – Давай три тысячи и все лады!
В разговоре Урбан, при своей велеречивости, ни разу прямо не посмотрел на Мокшина; прятал взгляд, устремляя его куда-то в сторону, словно боялся, что тот через глаза увидит его чёрную душу человека мелочного, жадного и нечистого на руки.
Мокшин не стал возражать, допуская, что Урбан по-своему прав, когда считал себя потерпевшим; его было даже немного жаль, к тому же булыжник на самом деле не значился в договоре купли дома у банка. Он молча в присутствии Урбана подошел к старенькому – не раз подправленному лаком для придания свежести – комоду, и из верхнего ящика достал шесть пятисотенных купюр, отдал деньги. Урбан взял их осторожно, засунул в боковой, засаленный карман куртки.
– Сильно благодарен. Ты знаешь, работы нормальной нет, сейчас сижу сторожем при церкви в Красном. Денег платят мало, считай больше за кормежку тружусь, и та в основном постная. Но с попами сильно не поспоришь. «Такова воля божья!» – обычно только и слышу по десять раз на день по каждому поводу-случаю… Но ты, Василий Васильевич, молодец. Сегодня хороша «божья воля», сам Бог меня к тебе привёл… Не грех бы и отметить, – он забегал глазами по сторонам. – Жаль магазин далеко…
– Хочешь выпить? – сказал Мокшин. – Могу организовать по рюмке.
С этими словами он вышел на кухню, вернулся через пять минут с нераспечатанным шкаликом водки и тарелкой с нарезанным крупными ломтями розовым салом и черным хлебом.
– Михаил, а что, действительно у тебя была курица, несшая голубые яйца?
Урбан первый раз за всё время, но хитро, посмотрел на собеседника, и сказал:
– И ты поверил? Ты же бывалый моряк, или тоже такой же простак, как Сирота. Ей то простительно – тёмная, как погреб. Ох, будь он не ладен. – Урбан помял больную ногу. – Но ты, должен знать, что чудеса бывают только в сказках, да поповских баснях.
– Но как же, Вера Сирота рассказывала, и все видели.
– Ладно, наливай, так уж и быть, тебе скажу правду. Когда нет денег, что не удумаешь. Вот и придумал. Купил хорошую несушку. Стал ей в комбикорм примешивать медный купорос с мелом, любит, известное дело, птица известняк Вначале яйца были как бы слегка с голубизной, а потом сильнее. Как появилось хорошо поголубевшее яйцо, я его и понёс попу Серафиму. А тому, видимо, только того и надо было. Историю о чуде разнесли корреспонденты с телевидения, которые, сам знаешь, до сенсаций также падки, как мухи до говна… Но мне то, что? И мне этого только и надо было, как попу, только у него одно на уме, а у меня другое, чтобы те же яйца покупали дураки. Их хоть пруд пруди: народ не умнеет ничуть, всё продолжает верить в чудеса… Так продолжалось пока не сдохла моя курочка… И как тут не сдохнуть, – столько отравы, корма с медным купоросом, склевать, медные пятаки нести начнешь не только голубые яйца… А что делать? Не обманешь – не проживёшь. Это ведь лозунг не только торгашей, но теперь всей нашей жизни.
Мокшин смотрел на него очумелыми от удивления глазами. Он первый раз видел перед собой мошенника, который не стесняясь, за одну только веру обирал людей, рассказывая об этом ещё и гордился каким-то особенным цинизмом.
Они посидели ещё с полчаса, которые больше говорил Урбан, не забывавший быстро поедать сытную закуску, и разошлись.
2.
К середине мая, который благоприятствовал погодой, Мокшин закончил основные огородные работы. А вскоре ведро сменилось ненастьем: зарядил скучный дождь; моросящая серая влага затянула не только небо, но все горизонты, давая ощущение нескончаемых сумерек. Мокшин по утрам, после крепкого чая, выходил на крылечко с навесом и, сидя на скамейке, курил папиросу, скучал, и вместе с табачным дымом вдыхал сырой, но теплый и очень вкусный деревенский воздух. В одну из таких минут к нему подсел Новиков, на котором была подаренная тельняшка, а поверх безрукавка из грубо выделанной овчины.
– Ясное дело, что нечего делать, – невольно скаламбурил он.
– И я о том же, – ответил Мокшин. – Хотя бы какую живность что ли завести: кошку или собаку, всё будет в доме веселей.
– Это всё не то, – сказал Новиков. – Ещё мой дед говаривал: «В квартирах собак и кошек держат либо дураки, либо лодыри…» Собака должна охранять и жить во дворе, а кошка ловить мышей в хлеву. Ты заведи себе что-то, может быть, и хлопотное, зато полезное.
– Например?
– А хотя бы ту же овцу для начала. Поговори со Сторожевым, он тебе присмотрит. Главное – начать, там, глядишь, и стадом обзаведешься, а это и мясо, и шерсть, и шкура, – Новиков демонстративно подергал себя за полы безрукавки.
Мокшин после этого разговора целый день думал о предложении соседа. Оно ему казалось поначалу даже не столько нереальным, как смешным, потому что никогда не имел дело со скотиной, и совершенно себе не представлял, как ходить за животными. Потом решил, что живёт в деревне, как сам и хотел, и отчего бы не завести именно овцу. Он на следующий день сходил к Сторожеву, рассказал о своем деле. Тот его поддержал, даже похвалил, и обещал на днях помочь.
Была суббота, мелкий дождь прекратился, небо ещё оставалось в низких облаках, но сквозь них уже светило солнце, и в воздухе высоко летали ласточки и стрижи, предвещая хорошую погоду.
У дома Мокшина остановился грузовой микроавтобус, из него вышли Сторожев и водитель. Последний открыл заднюю дверцу, Сторожев аккуратно, на обе руки, взял забившуюся в угол кузова овцу с веревкой на шее, выставил её на землю. Из дому вышел Мокшин, подошли старики Новиковы. Овца, увидев сразу столько народу, с испугу даже не дернулась, не заблеяла, а присела на зад, уставившись на людей недоверчивыми овечьими глазами, полными первобытного страха перед человеком.
Сторожев передал конец веревки Мокшину.
– Держи! Хороша овечка, молоденькая, приобрел для тебя на одном хуторе, там давно разводят эту красивую романовскую породу. А вот ещё погляди, овечка то стельная, – он погладил слегка надутые бока овцы. – Совсем уже скоро ягнится. С тебя и только для тебя по очень малой цене – пятьсот рублей.
Мокшин продолжал в растерянности держать веревку. На просьбу ветеринара машинально двинулся домой за деньгами, потащил за собой овцу. Та рванула в сторону, упала, уперлась копытцами в землю, и протяжно и громко заблеяла. У него веревку перехватила старуха Новикова и сказала, что подержит овцу, всё ему популярно объяснит, что делать, чем кормить, поить и как ухаживать. Мокшин, взволнованный, пошёл в дом за деньгами. Он выдвинул из комода верхний ящик и взял в руки стопку денег. Это была его пенсия, которую неделю назад приносила почтальон. Всего было восемь тысяч рублей купюрами по пятьсот. Он отложил в сторону пятисотенную купюру и как-то машинально пересчитал остальные деньги. Сумма не сошлась. За это время три тысячи отдал Урбану, пятьсот потратил на продукты, с расходами за овцу должно было оставаться четыре тысячи рублей, то есть восемь купюр. Было их почему-то шесть. Он снова проверил деньги. Сомнений не было: оставалось их три тысячи вместо четырех. Мокшин задумался, что, может быть, недодала местная почтальонша? Он ведь никогда не пересчитывал, по своей доброте и простоте, привык доверять людям… Вдруг его прошиб холодный пот… Он даже вытер ладони о штанины… Мокшина осенило: две купюры по пятьсот рублей украл Урбан, когда он выходил, чтобы гостю принести угощение… На улицу Мокшин вышел с заметно побледневшим лицом. На короткое замечание Новиковой, объяснявшей его волнение по-своему: не надо так волноваться за овечку, все будет хорошо, – попытался улыбнуться и ответил, что это, наверное, давление.
Мокшин рассчитался со Сторожевым, потом пошел вслед за Новиковой и овцой в сарай за домом. Новикова по ходу стала ему объяснять нехитрые правила по уходу за животным.
Когда Новикова ушла, Мокшин всё никак не мог справиться с волнением из-за пропажи денег. За его непростую жизнь с ним такое случилось впервые. Он не знал, что делать в такой ситуации, но житейская мудрость подсказывала, что ничего и не сделает: «не пойманный – не вор». Чтобы отвлечься от назойливых мыслей, стал из жердей городить для овцы в сарае отдельный загон и в нём даже устроил подобие яслей для хранения сена, которое ещё нужно было накосить. Овца, привязанная к столбу, стояла не шелохнувшись, наблюдая за приготовлениями человека. Наконец, Мокшин словно вспомнил о ней, ушёл в дом и вернулся с пластмассовым ведерком воды, захотел поставить его ближе к животному, но овца, дернувшись в испуге, наступила ногой в ведро, перевернула его, и забилась подальше от Мокшина в дальний угол.
– Что за трусиха такая? – сказал он. Взял ведро, снова сходил в дом и теперь поставил его в стороне. Сам опять ушел.
Вернулся Мокшин с несколькими кусками хлеба, натертыми солью. Когда открыл дверь в сарай, увидел, что овца пьет, но та, услышав его, побежала в свой угол, остановилась и стала выжидающе смотреть на Мокшина.
– Это другое дело! – сказал он громко. – Ты, моя хорошая! Не стесняйся, пей, ешь, теперь я буду о тебе заботиться. Понимаешь?! – Он подошел ближе к овце и протянул ей кусок хлеба. Она уже не убегала, видимо, впрямь понимая, что теперь полностью зависит от этого человека; оставалась не месте. – Да ешь же! Ешь! Небось с утра никто тебя не кормил, – повторил несколько раз Мокшин. – Овца, и впрямь голодная, долго не заставила себя уговаривать, осторожно потянулась к его руке и взяла хлеб, сжевала его, и приняла и другой, и третий куски.
– Умница, – сказал Мокшин. – Будем дружить. Как же тебя называть? – Он задумался. Ни прежний опыт жизни, ни теперешнее положение сельского жителя, – ничего ему не подсказывало, какую кличку дать животному. В голову приходили одни человеческие имена. Он вспомнил, что старуха Новикова говорила, что призывать овец надо каким-то замысловатым словом или звуком «бась-бась». Мокшин произнес это вслух. Овца неожиданно встрепенулась и внимательно уставилась на Мокшина.
– О-о! Да никак в самом деле «бась-бась» что-то значит на твоем бараньем языке? А ты знаешь, я тебя так и буду окликать – Бася.
Овца, похоже, с ним согласилась.
Так у Мокшина, помимо работ по саду и огороде, домашних хлопот, капитального ремонта жилья, который он наметил на предстоящее лето, появилась ещё одна забота – овца Бася. И, пожалуй, из всех занятий он все больше и больше любил именно ходить за этим безобидным и тихим животным.
Утром рано Мокшин баловал овцу куском хлеба, потом поил, и уводил по выгону между домами в поле, ближе к подлеску. Там, выбирая каждый раз место с травой получше, навязывал её, забивая в землю стальной прут с ушком, и овца, оставаясь на длинной веревке, была предоставлена сама себе. Мокшин возвращался в сарай, убирал в загоне ночной помет, стелил свежую солому, и шёл работать по дому. Он еле дожидался обеденного времени, чтобы пойти к овце. Нес ей ведерко со свежей водой, кусочек хлеба. Это были минуты невозможной, кажется, сентиментальности. Ещё очень крепкий и сильный мужчина, которому за долгую жизнь не удалось излить кому-либо из людей накопившиеся нежность и ласку, которые посторонним было трудно разглядеть за его грубоватой наружностью, теперь трогательно и умилительно, как за малым ребенком, ухаживал за овцой. Пока она жевала хлеб, он осторожно перебирал и разглаживал её мелкие серые кольца шерсти, вытаскивая из них иногда колючки репейника; заглядывал в её влажные, кроткие и большие глаза, в которых отражались полевые цветы, облака, сам Мокшин. И в эти минуты он совсем не хотел ни о чем думать или что-то вспоминать, например, о прошлом, которое казалось ему далеким и каким-то не совсем его. Потом овца, насытившись, отходила в сторону, ложилась, поджав ноги; ей уже было тяжело из-за ещё больше округлившихся боков, дышала она всё труднее и чаще. Мокшин смотрел на неё заботливым взглядом и который раз про себя повторял когда-то услышанное: «шуба овечья, а душа человечья», замечая, как это правильно кем-то сказано, – в точности про его Басю.
Мокшин расстилал на траве принесенный с собой груботканый половичок и ложился на него навзничь, потягиваясь с хрустом в костях, и жмуря от удовольствия и солнца глаза. Он за всю жизнь столько не бывал на природе, не лежал на траве; и он наслаждался царившим вокруг покоем, и ему казалось, что именно так, наверное, должно быть в раю, если он в самом деле есть. И Мокшин временами даже засыпал в таком благостном состоянии и под стрекот кузнечиков, шум ветра в ближних осинах и березках, и очень-очень далекий, похожий на полет зеленой мушки, звук проходящего высоко в небе самолета.
В августе Бася окотилась двумя ягнятами. Детки были все в неё, такие же серые, с черными чулками повыше копытец и такими же черными хвостиками. Первые дни ягнята с овцой оставались в сарае. Забот прибавилось и у Мокшина, но это его ничуть не расстраивало, наоборот, он был с раннего утра до темноты, которая летом наступает поздно, весь в занятиях; два раза на день он успевал ещё и подкашивать для овцы свежей травы, которую приносил ей прямо в загон; увеличил овце и пайку хлеба, переживая: хватит ли у неё, такой молоденькой, сил выкармливать ягнят, которые, как ему казалось, просто приросли, как пиявки, не давая ей ни отдыху, ни продыху, жадно опустошая её маленькое бархатное вымя. Но уже через неделю овечья семья по настоянию Новиковой отправилась в поле. И, удивительное дело, вслед за ними стал ходить и пастись рядом, до этого бесцельно слонявшийся по Подъёлкам козел Яшка. Никто не знает и не скажет, что думает, способно ли вообще думать это копытное, отличающееся особой строптивостью и своенравностью. Но, видимо, ему тоже надоела одинокая жизнь. Если овца по-прежнему оставалась на привязи, то козел был свободен от ошейника, однако никуда не уходил, бродя или отлеживаясь неподалеку от овцы и ягнят. А когда в их сторону направлялась какая-то из местных собак, козел вскакивал, как на пружине, бодливо опускал рога и бросался отчаянно на незваных пришельцев, гоня прочь от этого места.
– Стадность это у них, как у людей потребность в семье! – сказал по этому поводу ветеринар Сторожев, сидя субботним днем в гостях у Мокшина, который его пригласил осмотреть ягнят и овцу, которыми остался очень доволен.
Мокшин, накрывший на радостях гостеприимно стол, и оказавшийся тут же неизменный сосед Новиков, сидели за «беленькой».
– Какая семья? – Сторожева решил поправить Новиков. – Яшка то, сам знаешь… даже как козел неполноценный.
На что ветеринар ответил:
– Ну и что? У тебя, конечно, есть старуха, ты уже привык, что у тебя она есть, не одинок. А я вот знаю, и Василий знает, как трудно быть всегда одному. Взять опять же меня. Нет у меня семьи, но через стенку живет вдова Мишина, думаю, что самая скверная по характеру на свете женщина. А мне всё равно легче от того уже, что она тоже живая душа, и поговорить с нею могу, даже по-соседски поругаться… – Он задумался, налил себе полстаканчика и выпил. – Ты, старик, знаешь, были такие люди – евнухи. Это были тоже очень одинокие люди, как и наш козел Яшка, но не было более преданных и заботливых слуг, чем они… Поэтому могу ещё раз утвердительно сказать, что есть у всякого одинокого живого существа, даже у такого скота, как Яшка, потребность – быть не одному.
Мокшин, тоже захмелевший, внимательно слушал Сторожева, не перебивал. Ему казалось в этот момент, что он, хотя бы не знает ни овечьего, ни козьего языка, но тоже очень хорошо понимает настроение, которое было – он это видел и наблюдал – у несчастного Яшки, так привязавшегося к Басе и её деткам.
Сторожев налил себе и другим ещё.
– Впрочем, из тех людей, кого знаю, есть всё-таки один человек, которому, похоже, нравится быть одному. Но он и не человек, он вор, потому что только вору не нужен никто.
Мокшин, несмотря на то, что захмелел, насторожился.
Ветеринар выпил после других свой стаканчик:
– Был бы сейчас трезвый, наверное, не стал об этом вспоминать и говорить. Но, знаете, на той неделе со мною был случай, который не дает покоя…
Сторожев посмотрел на Мокшина и Новикова жалостливыми глазами: – Вы уж не рассказывайте, пожалуйста, никому, стыдно, что такое произошло. Хотя верно говорят: «если знает петух или курица, узнает и вся улица…»
– Ну что у тебя за манера, Сторожев, тянуть резинку от трусов, – сказал нетерпеливо Новиков. – Начал говорить, договаривай.
Я не схватил вора за руку, но вор был. Это Мишка Урбан… На той неделе у себя в конторе я получил зарплату. Все деньги, – он, демонстрируя, сунул правую ладонь во внутренний карман пиджака, – положил сюда и даже застегнул пуговицу. Отделил только сотенку в боковой карман. Складчина получилась неплохая, поэтому и выпили хорошо. Так говорю потому, что не помню, как шёл потом домой, но провожал меня Урбан. Он, ты, старик, знаешь, всегда приходит к конторе, когда дают зарплату. Знает, что и ему дармовщина перепадет. Так было и в тот день. Наутро я из зарплаты не досчитался тысячи рублей. В тот же день обошел всех ребят, расспрашивал их, думал, что сам и выложил по пьянке, но ребята сказали, что сдал в складчину только ту самую сотенную. Потерять их не мог, потому что внутренний карман утром так и оставался застегнутым. Вот и думаю теперь, что всё же это дело рук Урбана. Но, говорят – «Не пойман – не вор» – закончил Сторожев.
Мокшин после его слов заметно побледнел, заходили желваки на его скулах, и он неожиданно так сжал в руках свой стаканчик, что тот с треском лопнул.
Новиков и Сторожев уставились на него испуганно- вопросительно.
– Не обращайте внимания, – сказал Мокшин, – такое бывает со мной, когда переживаю, а твой рассказ, Сторожев, меня сильно взволновал.
– Как тут не поволнуешься, – подтвердил Новиков. Зарплата не так уж велика, знаю. И потом, как жить, если нет тех денег… – Он в сердцах тоже стукнул кулаком по столу. – Вы ведь знаете мою историю с петухом… Конечно, его рук дело… Вот сволочь!.. Крыса!.. У своих же, рядом, ворует. А ты, Сторожев, с ним говорил?
– Да, спросил и его на следующий день, может что знает?
– И что ответил? – спросил Новиков.
– Сказал, не знает, что и думать, может я потерял их… Потом добавил как-то даже красиво, по-книжному: «Не огорчайся, Сторожев, стало быть, на всё «воля божья», так и должно было случиться».
– Что верно, то верно, – сказал Новиков. – На все воля божья.
Мокшина после последних слов словно взорвало:
– Что у вас в Подъёлках за манера по каждому случаю ссылаться на «волю божью»! Слышу по нескольку раз на день, как от попугаев. Хреновая то воля, раз случаются такие злодейства, а вы и миритесь с ними. Нет здесь никакой «воли божьей»! Урбан обыкновенный вор и плут, которого нужно остановить.
Сторожев и Новиков снова уставились на него удивленными глазами, ожидая, что Мокшин, как новый человек, в самом деле предложит им что-то неожиданное. Но Мокшин точно также внезапно замолчал. Ему нечего было сказать.
Возникла длинная пауза, после которой гости пошли домой, а Мокшин к своим овцам.
Прошел ещё месяц, лето шло на убыль. У Мокшина дела шли хорошо; подрастали ягнята, Бася стала совсем ручной, и вся овечья семья так прочно вошла в быт и жизнь Мокшина, что он себе теперь свою жизнь иначе и не представлял. Для Мокшина было совершенно очевидно, что овца Бася или её ягнята никогда не окажутся на его столе, он даже не допускал такой мысли. В нём за несколько месяцев, прожитых в деревне, ещё не вызрело привычное для крестьянина восприятие любой имеющейся на подворье живности, как средству для его существования. Он просто любил свою овцу Басю и ее ягнят. И ничто Мокшину не предвещало чего-то грозного и страшного, что могло произойти в его судьбе.
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе