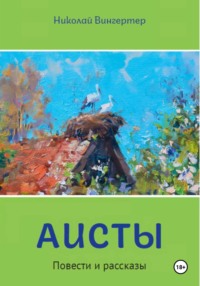Читать книгу: «Аисты», страница 2
– Скоро настанет пора прощаться. Очень хлопотно собираться в дальнюю дорогу, а сколько не собирайся – всего не предусмотришь. Совсем не хочется улетать, ведь у вас было так прекрасно, мы были счастливы. Обязательно будем снова вместе в следующем году. Желаем и вам счастья, пусть сбудутся все ваши мечты!
Но и аисты, оказывается, не всё знают наперед, всей семьёй им улететь не удалось. Случилась беда. В тот погожий августовский день Иван ремонтировал комбайн, как вдруг к нему во двор на велосипеде влетел местный паренёк и сбивчиво, очень эмоционально стал что-то рассказывать, размахивая руками, показывая в сторону реки, упоминая аистов. Викулов его остановил и попросил сказать спокойно. Оказалось, что мальчишки рыбачили и стали очевидцами необычной сцены, которая случилась у них на виду. Несколько поодаль от них паслись аисты, – все село уже знало, что это аисты, живущие у Викуловых. Неожиданно послышался сильный шум, птицы заметались, появился протяжный то ли свист, то ли крик, похожий скорее на писк. Когда туда прибежали рыбаки, увидели, что один из аистов лежит в крови, другие, увидев приближающихся людей, отлетели в сторону. И мальчишка повёл Викулова к месту происшествия. Иван сразу узнал Глашу. У нее была кровоточащая рана плечевой кости правого крыла, им она не могла двигать, и перекушены перепонки и пальцы ноги. Птица полулежала на траве, завидев его, пыталась подскочить, чтобы взлететь, но у неё не получалось, она падала, как подкошенная. Иван попросил мальчишку съездить снова в село и привезти старую простыню или покрывало, сам осмотрелся вокруг. У него не было сомнения, что на аиста напала крупная выдра. Многим сельчанам (рыбаки постоянно находили остовы объеденных рыб, или характерный помет этого животного) было известно, что в этом месте реки было логовище выдры. Аисты, очевидно, слишком близко подошли к пологому берегу речки, где в это время выдра выгуливала своих детёнышей, опасаясь за них, и напала на Глашу. Метила выдра, очевидно прокусить шею, так как хорошо известен этот её главный приём на охоте, – прокусывая голову или шею жертвы, она тем самым стремилась как можно скорее обездвижить её. Птица, напуганная нападением зверя, и на людей смотрела как-то боком, вполоборота головы, вздрагивая время от времени всем телом, и прикрывая веком красный глаз; но потихоньку, от усталости ли большой, или безысходности и обреченности своего положения, стала успокаиваться и, наконец-то, доверилась человеку. Иван уложил её на простыню и под восторженные взгляды мальчишек, которых просил не шуметь и не разговаривать, понёс Глашу домой.
И начались для перелётной, дикой птицы дни необычные в её жизни. Лететь в Африку по заключению Марты она, чтобы проделать тысячи километров, не могла. Марта наложила ей лангету на крыло и ногу, и посадила в закрытый вольер, в котором держали кур и цесарок. Домашняя птица поначалу к новой гостье, гораздо их крупнее, имевшей к тому же огромный клюв, относились с осторожностью и даже страхом, сторонясь и обходя стороной. Потом, всегда суетливый и многоголосый курятник, привык ко всегда молчавшей новенькой, которая подолгу стояла в углу на одной, здоровой ноге. Да и Глаша никак не находила общего языка с обитателями вольера. Кур, хотя они и были почти такие же, как она, белые (привезены из инкубатора), считала слишком наглыми и совершенно безмозглыми, а цесарок, очень красивых в их ярком оперении, наоборот, находила скучными и заносчивыми, и те, и другие были весь день заняты одним – бесконечными разборками между собой и вознёй в земле. Глаша и ела отдельно, не из общих кормушек с комбикормами и зерном, люди её кормили совсем другим, в её «меню» не было, правда, привычных мышей, червей или лягушек, но всегда рыбья мелочь, которую стали постоянно приносить местные рыбаки, корки хлеба, а ещё очень полюбившиеся Глаше сосиски. И специально для неё стояло ведро воды, тогда как куры и цесарки пили из низеньких жестяных корыт. Не привыкшая к неволе, Глаша с тоской смотрела сквозь металлическую сетку вольера на улицу, наблюдая как происходит смена времени года. Она не знала и не видела, как собрались в далёкий путь её сородичи, как их стая долго кружилась, прощаясь, над селом. Её такое же врождённое состояние необходимости перелета в края тёплые сталкивалось с действительностью, в которой оказалась, птицу это делало понурой; а когда стало становиться всё холоднее, серое небо посылало вперемешку с ледяными дождями и первые снежинки, птица стала и мерзнуть; перестал быть ярким даже её морковный клюв, и потускнели и без того грустные глаза. Люди, подзабывшие, что аист не курица, которая может переносить и небольшие морозы, что аист может простыть и заболеть, вовремя спохватились, перевели Глашу и весь птичий двор раньше обычного на «зимнюю квартиру», в закрытый и теплый сарай. Но время делало своё дело, птица постепенно не только освоилась с чуждыми для неё домашними пернатыми, задавая им время от времени трёпку, если мешали хоть в чём-то, и совсем перестала сторониться человека; заживали и физические раны. Марта в один из дней, когда Глаша стала к ней подходить сама, брать из рук сосиску, сняла с птицы гипсовые повязки. И Глаша почувствовала долгожданную свободу в движении, размахнулась по-настоящему сильными крыльями, вдруг запрокинула голову и впервые устроила трескотню клювом, что от неожиданности по сараю в испуге заметались куры и цесарки. Марта нежно провела ладонью по шее Глаши, погладила её ещё раз, – птица не сопротивлялась, – тогда Марта осторожно стала перебирать пальцами маховые перья, счищая с них остатки сухого гипса. Птица и теперь не шевелилась, только изредка поворачивала голову, косясь красным глазом над согнувшейся над нею спасительницей. И в какой-то момент Марта не просто видела этот взгляд, ей казавшийся забавным, потому что птица, привыкшая к ней, проявляла уже и явное любопытство, но ей показалось, что Глаша, подёрнув веком, словно подмигнула, чтобы сказать:
– У тебя, Марта, тоже всё хорошо. Ты же должна помнить, как мы с моим другом аистом весной говорили тебе, что и у вас в семье всё наладится, и у вас будет свой аистёнок. Так вот, я уже начинаю видеть этого аистёнка…
Марта опешила от внезапно посетившего её состояния, словно колдовства. Она оставила птицу, зашла домой, присела, и только теперь вспомнила и подумала о том, что чувствует себя последнее время не вполне здоровой, постоянно присутствует ощущения дискомфорта, но в постоянных хлопотах-заботах и круговерти будней, никак до сих пор не удавалось себе уделить внимание. Холодок у неё пробежал по спине, когда подумала, как всё это несколько непривычно для неё, и не может ли быть связано с её женскими делами. Она серьёзно задумалась, но в этот день и следующие дни мужу ничего не сказала, потому что и раньше бывали у неё временные изменения по-женски, стала наблюдать себя, измерять базальную температуру, находя её повышенной, хотя не имела при этом никаких симптомов подозревать себя в простуде, каком-либо воспалении. В конце недели, она заехала в аптеку купить специальные тесты. Первая же проба, а потом и последующие, давали положительный ответ на её самый трудный в последние годы вопрос. Она пошла к врачу. Её затеплившуюся надежду врач уверенно подтвердил. Если бы можно было в этот момент измерить весами счастье Марты, как и любой другой женщины в их многолетнем ожидании материнства, то его было так много, что Марта могла одарить им всё человечество. Когда она приехала домой, первое что сделала, вошла в сарай к Глаше и вывалила перед ней целую кучу её любимых сосисок, которых купила впрок по дороге. Сосиски ловко подбрасывала и глотала не только Глаша, но растащили из-под её носа-клюва другие набежавшие обитатели птичника. Марта всё смотрела на Глашу, не уходила, и у неё наворачивались слёзы, которые не могла сдержать, и думала о том, что не может быть напрасна вера в хорошее, вера творит чудеса. И Марта, поглаживая ладонью спинку птицы, сказала вслух, к ней обращаясь: «Глаша – ты действительно птица-счастье!»
А дальше всё пошло своим чередом. Марта носила под сердцем своего «аистёнка», дожидаясь будущего лета, когда он появится на свет. Птица-счастья, ставшая совершенно ручной, настолько освоилась и привыкла в птичнике, что, казалось, она здесь жила всегда и будет навсегда. Но прошла зима, наступила снова весна, обитателей птичника опять выпустили в вольер, а Глаше было разрешено в порядке исключения свободно ходить по двору, что она с удовольствием и делала, засовывая свой длинный клюв часто куда не надо, но всё ей прощалось, и не было отбоя от любопытных сельчан, особенно детворы, которые приходили к Викуловым в усадьбу поглазеть, как в зоопарке, на Глашу, которая вроде как и и перестала быть диковинкой для всех, но вызывала искреннее удивление, – ведь прижилась же перелётная, дикая птица у человека. Глаша никого не боялась и не стеснялась, особенно выделяя мальчишек-рыбаков, приносивших ей пойманных на удочку мелкую плотву, густеру и пескарей. Птица всё время передвигалась вперевалку или небольшими скачками, лишь редко взмахивая крыльями, словно опасалась за них и берегла. Но в один из дней Глаша привычными для аистов резкими подскоками вдруг разогналась, сделала несколько взмахов и полетела, сделав небольшой круг над двором, и опустилась, но не на землю, а в гнездо. Природа брала своё! Инстинкт птицы брал верх, это был её, птичий, не человеческий дом. Она первой, до прилёта её сородичей, заняла его, чтобы продолжить свой род, как и Викуловы, в роду которых вскоре произошло долгожданное пополнение.
ПОПРОШАЙКА
(рассказ)
1.
1990 год. Караганда. В пелене падающего снега подземный переход кажется огромной черной пастью сказочного чудища, по зубам-ступенькам которого бесконечно текут пешеходы. В переходе тесно и сыро. Электрические светильники в застоявшемся воздухе горят тускло, и от этого лица людей – цвета болотной тины.
Рассветает по-зимнему поздно. Непогода передается настроению прохожих, и они, как пингвины, идут друг за другом, понурив головы, и, кажется, не видят ничего, кроме башмаков, идущих впереди. Не замечают они и старую попрошайку, которая уныло смотрит на стоящую перед нею пластмассовую кружку.
Уже полчаса она тихо мерзнет под шарканье подошв и беззвучное круженье снежинок, но даже из любопытства никто не приостановится, не посмотрит в её сторону. А посудина так и остаётся с пустым дном.
Старуха одета в искусственную, со свалявшимся и затёртым мехом шубу, поверх которой крест-накрест повязана изъеденная молью шерстяная шаль. В разбитые полусапожки заправлены мужские брюки. Обувь ей тесна, у неё мерзнут ноги, и она часто сучит ими, пытаясь согреться. От долгого и однообразного сидения её клонит в сон. Старуха смежает веки, медленно роняет на грудь голову и всхрапывает… Неожиданно в её сторону делает шаг девочка-подросток, и в кружке запрыгала и легла вверх решкой первая монета. Старуха сначала благодарно крестится, потом переводит взгляд на монету. "Решка! Плохое начало", – думает она лениво.
Словно угадав ее мысли, к кружке снова долго никто не подходит. Старухе кажется, что у неё уже промерзли не только ноги, но и мозги. Они не хотят думать. А и думать ей не о чем. "Только бы до вечера набрать на "красненькую", – донимает единственная мысль.
При воспоминании о вине её лицо светлеет, а потом на нём появляется улыбка, похожая на гримасу. Вино ей поможет дожить и этот день, как многие другие, снимет противное нытье в суставах, и скулы перестанут болеть. Боль терзает уже четвёртые сутки, как зубная, хотя зубов у неё почти нет, если не считать два догнивающих верхних резца. Но до нужной суммы еще далеко… Кружка чаще "молчит", лишь изредка позвякивает металлом. Она снова опускает голову и сильнее втягивает её в плечи, спасаясь от мороза.
За многие годы бродяжничества и пьянства её память так одряхлела, что старуха уже и не помнит толком, кто она и откуда. Обрывки воспоминаний подсказывают, что она Линда, что когда-то была скромной сельской девушкой с большой светлой косой, а отца звали Йонас. Картины того времени окрашены в зелёный цвет. Перед глазами всплывают и душистые липы, и возвышающийся над ними купол костела, а за ним, под горой, мягкие волны Нямунаса. Потом память окрашивается в цвет выгоревшей под солнцем степи, где она оказалась против своей воли, где много и долго работала, но зачем, для чего и для кого – не знала. Понимала только, что несправедливо, незаслуженно оторвана от родных мест чужими людьми. Когда окончилась война, освободили, но домой не пустили. Снова работать, пусть и для себя, – не захотела. Решила, что имеет право на отдых. Но он затянулся. Нашлись люди, с которыми казалось хорошо. За пышные, янтарные волосы и большие, слегка навыкат глаза, её прозвали Русалкой. Это прозвище так и осталось с нею до старости. А потом были суды за бродяжничество, мелькали вокзалы, случайные встречи, спецприёмники, окрасившие остальную память в чёрный цвет… И лишь изредка, словно просветы при переворачивании её черных страниц, – светлая зелень лип, костёл и хор мальчиков… Последнее время их голоса иногда звучат в ушах, проникая в очерствевшее сердце, и оно начинает учащенно биться, когда из далекого детства, вместе с плывущим над Нямунасом колокольным звоном, доносится торжественное: "Cristus natus est nobis, adoremus Domino" ("Христос родился ради нас, восславим Господа". Лат.) Рождественской литургии… Она засыпает под неё, забываясь крепким сном праведной грешницы. И видится ей синий бархат ночного неба над спящим городом, а по бархату сверкающими нитями нашито множество серебряных звезд. Вдруг одна из них отрывается и падает, падает и кричит: "Помогите! Я Линда, я же Линда!.. "
Просыпается старуха от резкого металлического звука. Она протирает глаза и не верит им. Среди медяков и редких белых монеток лежит железный рубль. Поднимает голову и видит перед собой хмельное лицо.
– Чё, бабка, думаешь, все жмоты? – толстяк, покачиваясь ванькой-встанькой, копался в кармане полушубка. Вытащил рублевую бумажку и тоже бросил в кружку: – Сегодня, бабка, праздник, Рождество. Гуляй!
"Рождество! Хор мальчиков, как это я забыла, – думает она. – Ах, добрый толстяк! Все толстяки добрые, особенно пьяные. Тогда они совсем глупы и порой даже не могут отличить старуху от молодой. В прошлом году один пьяный толстяк предложил ей за целых десять рублей…» Её забавляет это воспоминание, она смеётся провалившимся ртом, но захлёбывается, и смех переходит в гнусавый, с хрипотцой, кашель.
2.
После тёмного перехода белый снег резко ослепляет, и старуха какое-то время стоит, прикрыв ладонью глаза. Потом достаёт платочек с завязанными в него рублями и горстью мелочи, ещё раз все пересчитывает, удовлетворенно качает головой и идёт дальше.
Снегопад закончился. По небу плывут грязно-серые клочья туч, между которыми иногда проглядывает низкое зимнее солнце. Густым, пышным снегом завалило весь город. И кажется, что на крыши домов, машин, на кроны деревьев нахлобучены громадные белые шапки.
На крыльце винного магазина колышется черная, взъерошенная толпа. Старуха, не обращая внимания на её гвалт, привычным движением ноги открывает дверь подсобки. Приняв из рук знакомого грузчика бутылку, она заботливо укладывает ее на дно холщовой сумки.
Вечереет. Небо почти очистилось, из его бездонной сини на земле льется мороз. Линда спешит к Старому рынку. Там, в заброшенной, но сухой пристройке, которая постоянно подогревается вытяжной вентиляцией павильона "Национальные блюда", нашла себе пристанище.
Скользко. Люди уже утоптали снег, и он покрылся коркой льда. Второпях старуха оступилась и упала навзничь, сильно ударившись правым боком о камень бордюра. Вздыхая и охая от резкой боли, она поднимается и подтягивает к себе отлетевшую сумку. Под сумкой на снегу красное пятно. Старуха испуганно хватается за бок. Но, кажется, он в порядке. Тогда она начинает рыться в сумке.
Её крик оглашает улицу. Прохожие от неожиданности оборачиваются и видят посредине тротуара на коленях бродяжку, прижимающую к груди разбитую бутылку и голосящую, словно хоронит родное дитя. С бутылкой разбилась и её надежда на несколько часов забвения, которое приносит вино. Теперь ночью в грязном, заброшенном углу встретят её бессонница и мучительное ожидание нового дня. Бормоча посиневшими губами невнятное, мелкими шажками, обессиленная, она бредёт к себе.
Дверь поддаётся с трудом. Её встречает чернильная тишина. Она уже собирается улечься на сваленное в угол тряпье, как вдруг ловит чей-то затаенный взгляд. Старуха испуганно отскакивает в сторону, сильно ударяется головой о низкую притолоку, падает, в голове шумит, чужие глаза к ней приближаются.
– Русалочка, ты что ль? Приплыла, не захлебнулась еще?
Молодая сильная рука за ворот шубы легко отрывает её от пола, и старуха видит перед собой безобразную Зинку-толстую, которая за пять рублей обслуживает на рынке торговцев с юга.
Молодуха, раскрывая широко рот с толстым, как у обезьян, надгубьем, дышит ей в лицо луком и кислым пивом.
– Когда сдохнешь, старая?
Старуха пытается вывернуться, но хватка на «загривке» крепкая. Тогда она жалобно просит:
– Зиночка, я ночую здесь уже месяц. Пусти меня, Зиночка. Это моё место.
– Чё ты сказала? Твое место?! – захохотала та, сотрясая вместе с собой Русалочку. Потом сложила левой рукой кукиш и ткнула его старухе. – Вот тебе! Ты чё, купила его? Я покажу твое место…
Она волоком подтащила старуху к дверям, распахнула их и пнула старую бродяжку.
Русалочка повалилась на грязный, затоптанный снег. Стала шарить вокруг себя рукой. Но сумки не было. Она встала и подошла к дверям.
– Зина, отдай сумку.
Дверь не отворялась. За нею только хихиканье Зинки-толстой и жиденький мужской басок.
Старуха прислонилась к стене и тихо заплакала.
"Не зря во сне падала звезда, не зря, – думает она. – Видимо, отжила свое".
А ночь надвигается по-зимнему рано. Старуха напряженно всматривается в темноту своими рыбьими глазами. Темнота сегодня её непривычно пугает. Она часто крестится и, как многие, когда им плохо, шепчет сухими, обветренными губами имя Христа. Мороз все усиливается. Она плотнее кутается в свои одежки, затягивает крепче концы шали и идет искать приют.
3.
Город окутан темно-синей ночью. На улицах горят редкие фонари, и из-за сильного мороза над ними висят светлые столбы, которые уходят высоко вверх и, кажется, касаются громадины апельсиновой луны, словно приклеенной к черному горизонту.
Все известные Русалочке места для ночлега заняты. Покружив по городу, она устало падает на заснеженную скамейку, стоящую на безлюдной автобусной остановке. Стужа одолевает её. Она поджимает под себя ноги, соединяет рукава, съеживается и становится похожей на нахохлившегося от холода воробья. Но так долго сидеть невозможно. В правом боку, которым ударилась, что-то словно лопается. Старуха охает, валится на скамейку боком и зажмуривается с мыслью, что умирает. Проходит несколько минут, внезапно поднявшийся ветер бросает ей в лицо пригоршню снега. Она открывает глаза и напротив видит всё тот же заваленный снегом городской сквер и молочный свет фонаря, освещающего остановку. А боль в боку то утихает, то вновь усиливается.
В её окоченевшем сознании теплится единственное: "Куда идти?" Вдруг она вспоминает, что можно проехать в приемник-распределитель для бродяг и самой сдаться милиции. "Что с того, что на время потеряю свободу, – вяло думает она. – Зато сейчас там тепло и дадут горячего". Мысль о теплом помещении волнует её. Старуха через силу поднимается и садится в автобус. Выходит она на городской окраине. На неё сразу же голодным зверем набрасывается ледяной, колючий ветер. Кажется, что он проникает сквозь каждую ниточку одежды, отнимая последнее тепло у старого хилого тела. Идти ей почти два километра, и всё на ветер, степью. Она прикрывает ладонью лицо, но, не видя дороги, спотыкается и падает. Встаёт и, нагнувшись вперед, медленно бредёт, проваливаясь в снежные наносы. Временами силы совсем оставляют её. Она отворачивается от ветра, чтобы перевести дыхание. Видит перед собой мерцающие вдали огни города. Они манят к себе. Но там она никому не нужна. И бродяжка снова идет к теплу и горячей похлебке, до которых уже недалеко, которые должны быть там, за чернеющей в снегу карагачевой рощицей.
А вьюга всё злее и напористей. Снежные змейки поземки обвиваются вокруг ног старухи, лезут ей в лицо; резкий порыв ветра сбивает с головы шаль, и на морозе полощутся жиденькие седые волосенки. Старуха останавливается в изнеможении, старается натянуть шаль на голову, но ветер не дает, и она сначала приседает на корточки, а потом совсем садится в снег. Поправляет шаль, силится встать, но тело не слушается. Вновь начинает болеть бок. Она решает немного передохнуть, чтобы набраться сил.
Старуха отворачивается от ветра, пытается ладонью растереть нос и щеки, которых совсем не чувствует. Сидеть хорошо. От усталости слипаются веки. Через пять минут ей уже становится теплее. Теплом наливаются пальцы рук и ног, потом всё тело. Жарко. Она уже неосознанно развязывает концы шали, сбрасывает с плеч шубу. Сладкая зевота растягивает её губы. Очень хочется хотя бы немного поспать, и она медленно валится в снег… Сон приходит к ней сразу. Она снова видит зеленый луг за рекой, стайку лип и за ними, красные стены сельского костела, из окон которого слышны звуки торжественной Рождественской литургии… Вторя им, метель в ветках близких кустов карагача слагает свою грустную мелодию и наметает растущий на глазах снежный холмик на том месте, где спит старая попрошайка.
ОВЦЫ И ЛЮДИ
(рассказ)
1.
Есть в одном из глухих, забытых властью и богом, уголков российской Прибалтики – прошлом Восточной Пруссии – село Подъёлки. Там и случилось то, о чем до сих пор вспоминают и говорят местные, и не только.
В Подъёлках всего-то три двора, расположенных по одной прямой через примерно сотню метров; каждый в прошлом был самостоятельной усадьбой с домом довоенной постройки из красного кирпича, под красную черепичную крышу, и такими же капитальными хозяйственными строениями. Человеческие руки очень редко или совсем не прикладывались к ним последние десятилетия, чтобы поддерживать всё это в должном виде. Поэтому дома и сараи имеют жалкий вид: крыши провалились из-за того, что черепица не перебиралась и, как следствие, просели сопревшие стропила; только стены, сложенные из хорошего кирпича под шов, по-прежнему выглядят внушительно и добротно. За поселком в прошлом действительно был еловый бор, поэтому кто-то недолго утруждал себя подысканием нового названия к бывшему прусскому поселению, и удачно дополнил топонимику местности таким красивым названием: «Подъёлки». Но еловый бор давно и бесхозяйственно вырубили; теперь всё это пространство занимает подлесок из сорных деревьев и кустов – осины, мелкого березняка и боярышника, – польза от которых только в том, что их местные без конца рубят на дрова, а подлесок довольно быстро восстанавливается, да еще в нём много грибов, – любимого развлечения приезжающих сюда по выходным горожан.
В Подъёлках ранней весной поселился новый житель – Василий Мокшин, человек немногословный, шестидесяти лет, из отставных мичманов. Лицо у него было самое простое, даже немного грубое, и всегда красное, как обветренное, но запоминалось глазами, на первый взгляд тоже обыкновенными, с серым райком, однако каким-то неуловимым следом усталости, поэтому, добрыми и приветливыми. Сам он был невысок ростом, но телом ещё очень крепок, и с большими увесистыми кулаками; на земле стоял, как многие моряки, всегда чуть расставив ноги, и это вызывало у посторонних невольно уважение и даже опасение. Он был давно один, разведясь с женой, не дождавшейся его из долгого похода, много лет назад. С тех пор не рискнул больше жениться, полагая, что из этого ничего путного, если не получилось сразу, – не получится; в этом его убеждала и каждая женщина, из бывших у него потом. Ни одна из них не стала родной и близкой, а рано или поздно становились для него такими же чужими, как любой посторонний человек, например, в городском трамвае. Детей у него не было, и, как для большинства таких мужчин, одиночество было самым трудным испытанием в жизни. Он стал считать себя человеком несчастным, справедливо как-то заметив, что счастье не в деньгах или славе, а такой простой вещи – когда тебя кто-то ждет. Мокшин мучительно и долго переживал своё одиночество, иногда ему казалось, что он уже свыкся с ним, но наступали часы, дни и ночи, когда оно терзало его душу такими невозможными страданиями, как при тяжелом физическом недуге, что он не знал, чем заняться, куда податься. Днем он не мог дождаться, когда настанет вечер, он уснет, и так пройдет ночь; но наступала ночь и бессонница, и он теперь уже нетерпеливо ждал утра, чтобы быстрее встать, и что-то делать, чем-то заняться; и весь мир из-за этого казался ему бесконечной пыточной камерой, так что порой даже не хотелось жить.
Именно в такое мгновение, когда он вышел на пенсию, и осел бобылем в однокомнатной городской квартирке, к нему пришло необычное решение – продать её, уехать из города, который ещё больше усиливал чувство одиночества, и поселиться ближе к природе. Это означало для него самое главное: хотя бы какую-то деятельность, хлопоты на ближайшее будущее. Он продал квартиру и выкупил в одном из коммерческих банков закладную, под которую некий селянин по фамилии Урбан из Подъёлок, заложил под денежный кредит половину дома, да так и не расплатился; банк был вынужден продать эту половину дома.
Первый раз Мокшин увидел дом зимой, тогда его крыша была покрыта слоем пушистого инея, вокруг стояли такие же белые деревья, контрастировавшие с ярко голубым морозным небом и натоптанными местными жителями сизыми паутинками тропинок. Дом ему показался величественным, похожим на сказочный терем. Теперь, в конце марта, месяце распутицы и хлябей небесных, когда Мокшин приехал в Подъёлки на изрядно поношенном «Форде» с разной домашней утварью, дом в густой и сырой пелене тумана уже не был сказочным, напротив, казался мрачным сооружением, какие любят показывать в фильмах-ужасов. Ощущение мрачности картины дополняли своим гортанным протяжным карканьем несколько ворон, раскачивавшихся на мокрых ветвях ясеней.
Мокшина это не смутило. Первым делом он громко хлопнул в ладоши, вызвав звук, похожий на выстрел; вороны тут же снялись с веток и, перестав горланить, перелетели на крыши соседних домов. «Так-то вот, – подумал Мокшин, – вместо вас заведу петухов». Он стал носить из машины в дом вещи, и за целый час рядом не появилось ни души, лишь мельком видел за занавесками окна второй половины дома, где, знал, живут старик со старухой, их любопытные лица. Мокшин съездил в город ещё раз, и ещё, и на машине и небольшом прицепе перевез всё свое нехитрое имущество, которое заранее приготовил в узлах, мешках, или упаковках разобранной по частям мебели.
Началась его новая жизнь. С утра до вечера в течение недели он мыл две комнаты и кухню, переклеивал обои, сдирал старую краску и красил заново окна и двери, – создавая жилой дух в доме, уповая на то, что это временное улучшение, только начало, а летом примется и за подвал, и крышу, и двор капитально. За эту же неделю он узнал и остальных жителей села. Своих соседей по дому старика и старуху Новиковых. Живущих в доме слева от его дома многодетную семью тракториста по фамилии Сирота. Живущих в доме справа от его дома в первой половине немолодую вдову Валю Мишину, во второй половине Михаила Сторожева – пожилого и тоже одинокого, работавшего ветеринаром в центральном селе Красное, что лежало в двух километрах от Подъёлок.
В первых числах апреля низкие облака разогнал сухой южный ветер. Потеплело. Вышло долгожданное солнце, и под его яркими лучами неказистые Подъёлки снова похорошели, словно их кто-то подновил.
Мокшин, соскучившийся по общению с людьми, простой и добрейший человек, которого его долгое одиночество не сделало эгоистом, для которого большой радостью было всегда помочь кому-то и поделиться с кем-то – качество ныне редкое в людях – решил, что в деревне не должен жить нелюдимо, а первым делом познакомиться с соседями, поэтому в субботу пригласил их на обед. У него в доме не хватало места усадить всех рядом, и он сколотил из досок две лавки, стол, накрыл его прямо на улице.
Первыми пришли Павел и Вера Сироты, вежливо поздоровались с Мокшиным и осторожно присели на краю лавки. Павел был в спортивных брюках и футболке с короткими рукавами; Вера в простом ситцевом платье и кофточке, поверх головы у нее был повязан узлом на затылок, платок. По ним было видно, что они не так часто бывают в званых гостях, больше привычны к простому, без условностей этикета, быту; обстановка для них была в новизну, заметно чувствовали себя неуверенно. Это быстро проявилось, когда за стол сели старики Новиковы, и Вера, глянув на них, на заставленный закусками стол, непринужденно и наивно развела руками и сказала:
– Чудно как-то всё это! – Быстро спохватилась, что обронила какое-то неправильное слово, обернулась к Мокшину: – Я хотела сказать, что у нас в Подъёлках такого сроду не было так вот накрыть стол. Ей богу! – Почему-то при этом перекрестилась.
– Вот и напрасно, – сказал Мокшин. «Набожная что ли?» – подумал он. – Это в городе живут по клеткам и, прожив десяток лет в одном подъезде, не знают, кто над ними или под ними ещё в доме. В деревне, я так всегда считал, всё должно быть иначе.
Их прервали появившиеся, словно сговорившись, Мишина, одетая во всё черное, и Сторожев тоже в черном костюме и ярко красном галстуке.
– Все в сборе, – сказал Мокшин, поднявшись с места. За ним поднялись остальные. – Да вы сидите, – жестом указал он. – Я с удовольствием пригласил вас, чтобы немного отметить мое появление в Подъёлках, познакомиться. Меня, вы знаете, зовут Василий, для кого-то Василий Васильевич. Больше тридцати лет ходил в море, начинал на гражданском флоте рыбаком, потом служил на военном, как видите, – он жестом провел по трем юбилейным медалям и военно-морскому знаку с Андреевским флагом, прикрепленным к черному кителю, который одел по такому случаю. – Обычно у людей бывает наоборот, а у меня так вот получилось… Одним словом, всю жизнь отдал морю. Мне порой говорят: романтичная у вас была работа. Неправда. В жару море – это отупляющее голову скучное пространство, а корабль, как нагретый утюг. В непогоду море – сущая преисподняя. Романтика для бездельников и дураков. Человек не рыба, должен жить на земле, а в воде рыбы пусть и живут… – Он закашлялся от волнения. – Ну, да ладно, в горле сухо, наливаем, дорогие гости! Но всё одно, по давнишней традиции, сначала за тех, кто в море, им очень трудно.
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе