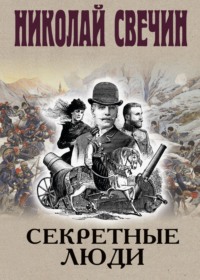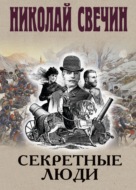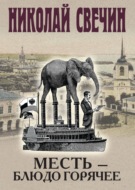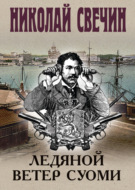Читать книгу: «Секретные люди», страница 2
Глава 2
На Кавказе неспокойно…
15 июля17 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Тяжелая артиллерия начала обстрел Белграда, войска двуединой монархии вторглись на сербскую территорию. Защищая свою союзницу, Российская империя начала мобилизацию. В результате 19 июля ей объявила войну Германия. Дальше полилось как из ведра: 21 июля боши бросили перчатку лягушатникам, через день англичане вызвали на бой германцев, еще через пару дней австрияки объявили войну русским, через пять дней – французы австриякам… Даже Япония сунула в общую кассу свои три копейки и напала на немецкую колонию Циндао, желая забрать ее себе. Началась Великая война.
В этой чехарде взаимных атак выделилась Османская империя. Будучи союзницей германцев и австрийцев, которые уже вовсю воевали, она не спешила вступить в драку. Турция готовилась. Для русского военного командования было ясно, что эта тишина ненадолго и скоро на Черном море и Кавказе тоже полыхнет.
Для отвода глаз османы даже объявили себя в строгом нейтралитете. И принялись ждать германские деньги… Кайзер Вильгельм обещал им заем в 200 миллионов лир золотом.
Кавказский наместник генерал-адъютант Воронцов-Дашков именовался командующим войсками одноименного военного округа и наказным атаманом Терского и Кубанского казачьих войск. Однако лучшие годы сановника давно остались в прошлом. Друг Александра Третьего, бывший министр Двора, основатель «Священной дружины», приближался к восьмому десятку. И с трудом тянул служебную лямку в мирное время. А тут война. В армейские дела Илларион Иванович не лез, занимался гражданскими, предоставив военные вопросы своему помощнику генералу Мышлаевскому. Тот оказался на ответственной должности при стареющем наместнике во многом случайно. Александр Захарович Мышлаевский никогда не воевал, службу провел в тиши кабинетов Генерального штаба и Николаевской военной академии. Профессор истории русского военного искусства! Получив корпус на Кавказе, поднялся до второго лица в крае. Научные монографии генерал от инфантерии писал хорошо. Но командовать борьбой против турок – совсем другое дело. Эти ребята славились храбростью, упорством, неприхотливостью, а еще жестокостью. Картина получалась неавантажная: вот-вот начнется кровопролитие, а первые два вождя в крае никуда не годятся. Немного скрадывал ситуацию начальник штаба округа генерал-лейтенант Юденич. Боевой – дважды ранен японцами, награжден золотым оружием. Умный, инициативный, уважаем войсками.
Кроме того, сам по себе Кавказский корпус являлся гордостью русской армии. Славные полки – Ширванский, Самурский, Тифлисский, Кубинский и другие – в прошлом веке покорили Чечню и Дагестан, взяли в плен Шамиля, захватили с бою Карс и Эрзерум, подчинили Черкесию. Каждый солдат, особенно из гренадерского корпуса, являлся умелым одиночным бойцом, приноровившимся к горной местности. Таким людям сам черт не брат, они просто не знали равных себе противников, будучи заранее уверенными, что одолеют любого.
Кавказская армия приготовилась занять фронт от Черного моря до озера Урмия. Семьсот двадцать верст, да каких! Армянское нагорье находится на высоте до 2500 метров. С востока на запад оно пересечено пятью труднопроходимыми горными цепями, высота которых превышает уже 3000 метров. Действия крупных масс войск, тем более с артиллерией, в таких условиях просто невозможны. Лишь между второй и третьей цепями (если считать с севера на юг), а именно между северным и средним Армянским Тавром, расположена полоса плоскогорий, пригодная для военных действий. Называется она Эрзерумская долина, и все колесные пути, связывающие Закавказье с Анатолией, проходят здесь. Замыкает долину город-крепость Эрзерум. Он – ключ к позиции. С востока этот район прикрывается сразу тремя цепями возвышенностей, представляющими собой естественный оборонительный рубеж. Дорог нет, лесов для топлива нет, населенных пунктов почти нет. Зимой толщина снегового покрова достигает двух метров, в низинах – четырех. Морозы опускаются до –30 градусов по Цельсию. Выдерживать их при отсутствии дров невозможно. А зима длится пять месяцев…
Когда на западе уже вовсю говорили пушки, на юго-востоке по обе стороны границы шла скрытная подготовка. Роль разведки в таких условиях возросла. И поручика Лыкова-Нефедьева срочно отозвали из Персии, из отряда генерала Фидарова, в распоряжение разведывательного отдела штаба Кавказского корпуса. Корпус спешно переформировывался в армию по штатам военного времени. Вводилось полевое управление войсками, вставали в строй запасные, подвозились огнеприпасы, шли учения по боевому слаживанию.
Николай Лыков-Нефедьев был послан на границу с Турцией, в Сарыкамыш, и прикомандирован к знаменитому 156-му пехотному Елисаветпольскому генерала князя Цицианова полку. Формально он стал начальником команды пешей разведки. На самом деле поручик должен был обеспечить разведку агентурную, негласную, из числа подданных Османской империи, живших на той стороне границы.
Николай привез с собой из Персии уже проверенный в деле образ армянского торговца средней руки по имени Ашот Тер-Егизар-оглы, родом из Джульфы, что под Исфаганом. Молодой, услужливый, почтительный к старшим, знающий несколько местных языков, коммерсант умел нравиться людям. Пронырливый и при этом обаятельный, он быстро наладил знакомства в горах. Причем с Ашотом охотно имели дело и гордые турки, и хищники-курды, не говоря уже о многочисленных армянах. Именно последние стали основой агентуры, а еще проживающие тут же айсоры. Улыбчивый торговец платил своим людям золотом, устанавливал доверительные отношения, давал посильные поручения. Вскоре под его командой состояло уже десять агентов-вербовщиков и тридцать агентов-ходоков и наблюдателей.
Дело осложнялось тем, что подобная организация – из армян – существовала и ранее, причем не один год. Но на должность начальника разведывательного отдела штаба округа пришел неподготовленный офицер. Он по-своему видел принципы агентурной работы. Новичок разогнал старые резидентуры, а новые создать не смог… Теперь Николай наспех исправлял его ошибки.
Другая проблема существовала с картами. Турки сами не имели хороших карт прилегающих к России вилайетов. Наши военные топографы составили свои карты еще в 1878 году, но – 20 верст в дюйме. Для действий малыми войсковыми формированиями это было неудобно; потом, за прошедшие почти сорок лет листы устарели. Имелся хороший план позиции Деве-Бойну с фортами вокруг Эрзерума (250 саженей в дюйме), но турецкая местность далее двух переходов от границы оставалась неизученной18.
В течение сентября и октября Тер-Егизар-оглы обследовал всю местность от Черного моря до озера Ван. Создал ячейки своей резидентуры в Гассан-Кале, Алашкерте и Баязете, дважды прошел Шах-Ел – «Царскую дорогу», старинный тракт, соединяющий Трапезунд, иначе Трабзон, с Тегераном. Он смог проникнуть даже в Эрзерум – главный укрепленный пункт турецких позиций. Сильную группу из наблюдателей разведчик завербовал в Дерсиме. Этот горный район Восточной Анатолии населяли армяне и курды. Причем здешние курды принадлежали к секте Али-иллахи, враждебной туркам-суннитам, и охотно согласились помогать загадочному коммивояжеру. Правда, тот выдавал себя за персидскоподданного, работающего на германскую разведку!
В своих походах Чунеев19 испытал много необыкновенных приключений. Однажды его попытались ограбить хемшилы – армяне, принявшие ислам. Он с трудом выкрутился, пообещав привезти взамен русские сапоги с голенищами гармошкой, которые были у горцев в моде. В другой раз поручик прошел огромной пещерой, протянувшейся по Эрзинжанской долине на двадцать верст. Извилистая, со множеством ответвлений, она представляла большую опасность для путников. Соваться туда без проводника было смертельным риском – расщелина погубила множество любопытных. Николай нанял опытного контрабандиста, который гонял через знаменитый ход свои караваны, и благополучно вышел наружу. Внутри он разглядел подземное озеро, большое и глубокое, а на его берегах – загадочные артефакты древних цивилизаций. Видимо, Лыков-Нефедьев был первым европейцем, увидевшим это чудо природы.
В перерывах между ходками поручик занимался своей командой. А еще проникался духом полка, в который его временно забросила судьба.
156-й Елисаветпольский полк носил имя своего вечного шефа князя Павла Цицианова. Этот храбрый генерал был предательски убит в 1806 году у стен Баку ханом Хусейном-кули. Князю отрезали голову и отослали в подарок персидскому шаху… Довольно молодой (создан в 1864 году), полк прославился в последней войне с турками. 4 мая 1877 года он штурмом взял форт Эмир-Оглы-Табия на Гелевердинских высотах, прикрывавший подступы к городу-крепости Ардаган. Затем елисаветпольцы последовательно захватили в кровопролитных боях Аладжинскую и Деве-Бойнускую позиции, чем обеспечили падение Ардагана.
В корпусе полк называли «полтораста шестым», а его чинов – гелевердинцами, за ту знаменитую атаку. На память о прошлой войне елисаветпольцам вручили Георгиевское знамя – редкую и высокую награду, и серебряные щитки на фуражки «за отличие». Вместе с кунаками – 155-м пехотным Кубинским полком – они стояли в Сарыкамыше, вблизи границы. А там всегда было неспокойно… Для приобретения боевого опыта нижних чинов из команды пешей разведки посылали в помощь геройской 26-й бригаде пограничной стражи. Они участвовали в схватках с контрабандистами, ловили барантачей-курдов20, татар-разбойников21 и русских беглых каторжников, несли при этом потери. В делах на кордоне погибли двое солдат и трое были ранены. Поручик Лыков-Нефедьев пару раз угодил в переделки, но вышел из них благополучно. Зато его разведчики отточили приемы ближнего боя не в учениях, а в настоящих сшибках. Что очень им потом пригодилось. А стреляла команда благодаря такому подходу на «сверхотлично». Все, кто носил на рукаве зеленый басон, являлись особо подготовленными воинами, всегда готовыми лезть в самое пекло22.
Ближайшим помощником командира стал младший унтер-офицер Антон Золотонос. До военной службы он работал силовым акробатом в бродячем цирке. Очень смелый, необыкновенно физически развитый, Антон проделывал удивительные вещи. Во всей бригаде его сумел побороть только Лыков-Нефедьев. И то с использованием секретных приемов, заимствованных у отца и дяди Вити Таубе.
Офицеры полтораста шестого присмотрелись к командированному и приняли его в свою семью. В кавказских полках товарищество было давней традицией. А значение разведки в них объяснять не приходилось. Николай тоже изучал сослуживцев: чему у них можно научиться? Молодой поручик уже имел боевой опыт, но стремился его расширить. Скоро война, надо быть готовым к ней. И он не стеснялся спрашивать и перенимать.
Особенное его внимание привлек командир первого батальона подполковник Тотьминский. Он был ротным командиром на войне с японцами, оборонял Порт-Артур и попал в плен. Осада крепости – одна из тех страниц минувшей войны, за которую русской армии нечего было стыдиться. Тотьминский часто и со смыслом рассказывал о минувшей кампании подчиненным, анализировал ошибки. Он вносил много нового в рутинную подготовку нижних чинов и младших офицеров. Его батальон поэтому слыл лучшим не только в полку, но и во всей 39-й пехотной дивизии.
Александр Дионисович в качестве такого опыта купил на свои средства картинки с изображением форм турецкой армии и развесил их на стрельбище. При этом он объяснил:
– Японцы устроили настоящую охоту за нашими офицерами и быстро выбивали их в боевых порядках. Немало погибло людей прежде, чем мы догадались переодеться в защитные цвета и снять галунные погоны. А у них офицер отличался от солдата лишь наличием сабли и нашивками на околыше фуражки. Которые на дальнем расстоянии совершенно не видны. Так что смотрите и запоминайте: это шевроны чавуша, а это, к примеру, – бин-баши23. Цельте в них в первую очередь. Потеряв командиров, рядовые в атаку не пойдут, а отступят без боя.
Или подсказывал стрелкам:
– Каждый японский пехотинец имел в ранце несколько пустых мешков. Это очень помогало окапываться на поле боя. Сейчас и англичане таскают на себе по четыре штуки. Заведите и вы тоже два-три таких мешка. Я дал на них деньги ротным командирам… За десять минут набьете землей или камнями и сложите бруствер для стрельбы лежа.
А вот так командир батальона учил пулеметчиков:
– Стрелки открывают огонь из винтовок с двух тысяч шагов, а прицельный огонь с тысячи. Ваши машинки так делать не должны. Сколько в ленте патронов? Двести пятьдесят. А правильная дистанция для вас восемьсот шагов. Пристреляйте их заранее, еще до атаки противника. Определите предел рассеивания, это очень важно. И бейте по фронту всю цепь. Они скоро побегут, так вы увеличивайте прицел! Помните, что через каждые шестьсот выстрелов вода в кожухах закипает. Имейте наготове холодную. Пулемет – страшное оружие, он способен переломить исход боя. Враг захочет убить вас и начнет выслеживать. Знаете как? По пламени, которое вылетает из надульника. Поэтому меняйте позицию, используйте складки местности. Папаха тоже может вас выдать, она большая, издалека видать. Выверните ее наизнанку, и она станет похожа на природный камень. Патронные двуколки спрячьте в тылу, а цинки с боезапасом выложите вблизи себя. Побольше сыпьте, расход патронов в настоящем бою бешеный!
Еще подполковник рассказывал офицерам:
– Главный признак того, что война вот-вот начнется, это когда из города убегают шлюхи. В Порт-Артуре больше всего было мусме – проституток-японок. Они уплыли в самый последний день мира. Шли в порт через весь город, построенные парами подобно институткам, длинными вереницами, и садились на пароходы. Тут даже дурак понял, что дело плохо. А мужчины? Лучшие повара, портные, прачки тоже были японцы. Потом оказалось, что многие из них являлись разведчиками, офицерами их Генерального штаба. И стирали наши подштанники… Парикмахера, который меня стриг, я увидел в плену в форме полковника! Городской ассенизационный обоз весь состоял из косоглазых. Они уплыли, и Порт-Артур утонул в дерьме.
Зная, что Николка относится к «секретным людям», батальонер однажды рассказал ему о собственном опыте борьбы со шпионством:
– Когда началась война, все японские подданные успели уплыть из Порт-Артура. И их разведка лишилась своей агентуры в крепости. Они пытались завербовать кого-нибудь из проживающих внутри европейцев, но это оказалось делом нелегким. Согласился, похоже, только один, Хосе Гидис. Португалец по крови, он был сыном владельца шанхайской газеты, выходящей на английском языке. Коммерсант и большой авантюрист, Гидис начал активно передавать сведения военного характера своим хозяевам, но делал это неуклюже. Стессель вскоре выслал его из Артура по подозрению в шпионстве. Хосе не растерялся, поехал в Тянбцзин и завербовался там уже в русские шпионы при нашем военном атташе в Корее полковнике Огородникове. Так португалец сделался двойным агентом. Обе стороны, и мы, и японцы, не доверяли мутному человеку, вполне понимая, что он из тех, кто любит есть в двух стойлах. Но, не доверяя, и те и другие его использовали.
Кончилось это для ланцепупа плохо. Гидис был сначала арестован японцами, избит палками и посажен в тюрьму. Его приговорили к расстрелу, но затем освободили. Он явился к русским хозяевам, которые тоже упекли его за решетку. Хосе сам мне рассказывал об этом, когда мы случайно встретились после войны в Иркутске в вокзальном буфете. Наша контрразведка, которая и тогда была пустышкой, и сейчас ничего не умеет, собиралась поставить португальца к стенке. Однако он и тут каким-то образом извернулся.
В итоге японцам при разведывании Порт-Артура оставалось только одно: вербовать китайцев. Их в крепости и вокруг нее было великое множество. Многие из этих ходя24 тоже стали двойниками – ведь и у нас не было выбора в подыскании лазутчиков. И так вышло, что обе воюющие стороны имели дело с одними и теми же людьми.
Взять, к примеру, торговцев. Они до самого конца осады проникали в город через японские посты. Особенно много привозили свою водку – сулю, она же ханшин. Суля чем хороша? Если ее много выпить, а на следующий день поутру напороться холодной воды, то опять делаешься пьян. Но уже забесплатно. Именно поэтому солдатики с матросиками сулю полюбили.
Торговцы утверждали, что платили караулам деньги или отдавали часть товаров и те их пропускали. Разумеется, было и такое – при честной коммерции. Но если негоциант одновременно еще и японский шпион, его с той стороны пропустят к нам бесплатно. Чтобы подсмотрел, как у нас идут дела, а потом вернулся и рассказал. В результате коммерция такого купца шла вполне успешно, поскольку в ней были заинтересованы как японцы (хорошая легенда), так и русские (нужно же было где-то доставать сулю!).
Неоднократно нами арестовывались китайцы, которых обвиняли в подаче осаждающим войскам сигналов. Полагаю, тут было много вранья, ошибок, желания приписать себе заслуги, или просто имело место излишнее и тупое служебное рвение. В самом деле, как подать такой сигнал через сопки?
– Например, азбукой Морзе с помощью гелиографа, – предложил Николай. – Заместо последнего можно использовать карманное зеркальце.
– Зеркала имелись, не спорю, однако мне не встретился ни один ломайла25, знающий азбуку Морзе, – возразил Александр Дионисович.
– Но ведь есть же среди китайцев телеграфисты!
– Где-то, конечно, есть, но не среди торговцев сулей. Думаю, это был все-таки психоз. Часто подобные «сигнальщики» арестовывались в бухте, когда они ловили с лодок акул для нужд нашего же гарнизона. Стоило такому рыбаку поднять руку или махнуть шапкой, как его тут же брали под микитки. Но что мог передать японцам этот бедолага своей шляпой? Конечно же, ничего. А в бумагах писали, что Ван Хун пойман с поличным, когда сообщал посредством сигналов местоположение батареи номер семь… И за это его следует расстрелять.
Как ни странно, однажды я сам вычислил не придуманного, а настоящего шпиона из китайцев по… газете. В Порт-Артуре выходила довольно зубастая газета под названием «Новый край». Ее читали все, и адмиралы, и лавочники. Во-первых, других не было, а во-вторых, статьи там выходили на злобу дня, на местном материале. Так вот, японская разведка очень была заинтересована в том, чтобы доставать себе все номера «Нового края». Почему, спросите вы? А потому, что по газетным статьям они могли следить за настроением умов в гарнизоне. Нет ли признаков слабости и пораженчества? Как люди переживают тяготы осады? И вот я обратил внимание, что некий торговец гольцами, выловленными в горных ручьях, покупает себе каждый новый номер, да еще в нескольких экземплярах. Зачем ему такой расход? Рыбу заворачивать? Оберточная бумага дешевле. Я поручил своему денщику, а он парень был смышленый, проследить за продавцом. Оказалось, ломайла живет в пригородной деревне, в тылу у японцев. И приходит со своей рыбой три раза в неделю, как раз в те дни, когда газета выпускает очередной номер.
Еще выяснилось, что гуляет наш негоциант не по базарам и торговым улицам, а норовит пройти мимо казарм, батарей и военных складов. Крутит головой, зыркает… Ну чем не лазутчик? Пришлось сообщить о рыбаре в штаб, и с тех пор мы его больше не видели. А «Новый край» прихлопнули – именно из-за интереса к нему японской разведки. Получилось, что я своим открытием лишил город единственной газеты…
Еще более опасные двойники завелись в военной почте. Там бытовала такая легкомысленность, что только диву даешься. Важные письма, содержащие военные секреты, пересылались из Порт-Артура в Чифу китайскими лодочниками. Напрямки сквозь японскую блокаду. До Чифу семьдесят миль, а там сидит наш консул Тидеман. Он принимает корреспонденцию и пересылает ее в штаб Куропаткина. Казалось бы, вот здорово! А был и второй путь – в порт Инкоу, до него всего тридцать пять миль. Часто пользовались им, но только до августа, потому что тогда русские войска покинули город. Ладно, гражданские письма, хотя и в них разведка микадо находила много интересного. Но военные бумаги… Их перевозили те же китайские лодочники. Сия почтовая гоньба действовала до самой капитуляции. Китайцам, кроме того, что платили порядочные деньги, выдавали от военных властей серебряные медали за храбрость. Были на станиславской ленте и были на аннинской. Медали эти очень ценились у лодочников, которые их с гордостью носили на шее. Называли таких героев – «медалисты». Так ведь среди медалистов тоже были продажные! Кто их в море проверит? Письма они, конечно, Тидеману сдавали. Но после того, как конверты вскрывали и содержимое фотографировали на японских блокадных миноносцах… Возможно, по окончании войны эти мастера носили медали обеих империй, располагая их рядом. Говорили, что официальные бумаги, которые доверяли джонкам, все были зашифрованы. Но японцы умные, вряд ли они не разгадали наши примитивные шифры.
Кто еще оставался привлекателен для разведки косоглазых? «Жертвы общественного темперамента», они же работницы горизонтальной промышленности. Проститутки во всех секретных службах мира ценятся как подходящий материал. Когда из Артура уплыли японки, остались же китаянки, американки, кореянки и так далее. Стессель обязал каждую из них предоставить рекомендацию. Так одна дива предъявила их пятьдесят, и все от офицеров! Красивая была и темпераментная. У меня тоже просила, но я не дал – вдруг шпионка?
Наша разведка в противоборстве с японской показала себя очень слабо. Не нашлось способных людей. Школ по обучению секретным ремеслам не имелось тоже. И скажу я вам, поручик, что такая глупость царит в нашей армии и по сей день.
…Тем временем германское золото медленно плыло в Стамбул. Порта объявила мобилизацию – якобы из соображений самообороны. Военный министр Энвер-паша, второе лицо в Османской империи, вождь младотурок и зять султана, коварно предложил России подписать секретный союз, направленный против Германии. В турецких казармах точили штыки и сабли…
Николка между тем застрял в местечке Чатак в тридцати верстах от границы. Он вез с собой важные сведения. Из Месопотамии в помощь стоящей против русских 3-й турецкой армии шло подкрепление – 37-я пехотная дивизия 13-го армейского корпуса. 11-й корпус со своей стоянки у озера Ван тайно двинулся к русской границе. Части самой армии приняли запасных и спешно их обучали. Враг явно готовился к нападению.
Поручик под видом армянского торговца выехал к границе в сумерках. Жандармы хорошо его знали и пропустили без досмотра, только выпросили себе коробку табаку. Начальник поста, пожилой малязам26, отвел негоцианта в сторону и сказал вполголоса:
– Ты хороший армянин, Ашот. Были бы вы все такие, не нужно вас и убивать.
– А за что нас убивать? – удивился Тер-Егизар-оглы.
Малязам улыбнулся и махнул рукой:
– Да я пошутил. Не принимай всерьез!
Озадаченный торговец оседлал мула и двинулся к Занзаху. За ним Кетак, а дальше уже российская земля, селение Кара-урган… «Что за глупые шутки в голове у османа, – думал он. – Положение армян в Порте незавидное, их притесняют, а иногда и действительно убивают. В 1896 году в массовых погромах погибло больше ста тысяч человек. В том же году боевики „Дашнакцутюна“ неудачно захватили в Стамбуле Оттоманский банк, взяв 150 человек в заложники, – в ответ толпа убила в столице сразу 8000 армян. А в 1909-м в городе Адане жертвами фанатиков стали 20 000 армян. После этой жуткой резни младотурки-реформаторы договорились-таки с лидерами армянских патриотов, и убийства прекратились. Сейчас ими грешат преимущественно курды. Собственно турки более-менее терпимы, жить, как говорится, можно. Загадка…»
В середине октября в горах уже было холодно, а на перевалах выпал первый снег. Замотав голову башлыком, одинокий путник спешил побыстрее выбраться к своим. Вдруг, когда он проезжал Зивинские высоты, на тропе его остановили двое аскеров.
– Стой! – крикнул тот, что был выше ростом. – Слезай!
Ашот спешился и полез было за пазуху, дать караулу бакшиш. Однако второй солдат выставил вперед штык:
– Ты армянин?
– Да, уважаемый, я торговец Тер-Егизар-оглы, меня тут всякий знает. А в чем дело?
– Армянин… – повторил аскер, обращаясь уже к долговязому приятелю. – Что я говорил? Самое время.
И внезапно ударил негоцианта штыком в грудь.
Обычный человек не успел бы даже сообразить, что происходит. И умер на месте. Однако туркам сильно не повезло. Поручик Лыков-Нефедьев к обычным людям не относился и был готов к любым ситуациям. Он увернулся от выпада, забежал за своего мула и визгливо закричал:
– Что ты делаешь?! Я откуплюсь, заплачу, сколько скажешь.
Под бешметом у него был спрятан маузер, но разведчик не хотел стрелять. А главное, он еще не понял, почему на него напали обычные солдаты. В диком происшествии следовало сперва разобраться, прежде чем принимать крутые меры. Но турки не собирались отпускать добычу. Высокий аскер ответил с насмешкой:
– Конечно, откупишься. Только мы заберем весь кошелек.
– Вместе с твоей жизнью, – хохотнул тот, что был пониже. И они напали на армянина с двух сторон.
Дальше все произошло очень быстро. Николай ловко отскочил в сторону, схватил в охапку сразу обоих и сильно приложил головами друг об друга. Этому приему его научил отец. Ребята с воплями плюхнулись на землю. Через секунду разведчик заколол их спрятанным в рукаве коротким кинжалом. Осмотрелся, не видел ли кто расправы. Потом взял убитых за ворота и потащил к оврагу. Тут обыскал, полистал солдатские книжки. 18-й полк низама27, первый батальон, вторая рота… Помнится, этот полк входит в 29-ю пехотную дивизию 9-го армейского корпуса. Совсем недавно он стоял в Гассан-Кале! А теперь почти на русской границе, в десяти верстах от нее. Все один к одному: вот-вот начнется война.
Оружие убитых тоже подверглось изучению. Магазинки оказались пятизарядные, системы Джамбозар – турецкий аналог германской винтовки «маузер» М98. В подсумках – носимый запас в 150 патронов. За поясом у одного из аскеров имелась граната – системы болгарского офицера Тюфенчиева.
Разведчик сбросил тела убитых в овраг, вместе с оружием и документами. Еще раз осмотрелся, влез на своего крепкого мула и хлестнул его плетью. Следовало торопиться – сообщить своим, что опасность близка. Граница, скорее всего, перекрыта, и его не пропустят на ту сторону. Ведь едва не закололи, гололобые…28 Вот что значили слова старого малязама на выезде из селения! Быть армянином разрешалось в мирное время. А в военное – уже нет. Придется менять легенду. Жалко, так хорошо поручик к ней приноровился, столько верст проехал по горам и долам. От Трабзона до Энзели сотни людей знают Тер-Егизар-оглы и готовы иметь с ним торговые дела. И вдруг на пустой дороге, без всякого якова, без попытки что-то объяснить, турок бьет его штыком в грудь. Да… Мирная жизнь кончилась.
Николай еще не знал, что сегодня, 16 октября, турецкие военные корабли под командой немецких офицеров напали на русские порты Одессу, Севастополь, Феодосию и Новороссийск. Турецкие миноносцы ворвались в бухту Одессы и торпедировали нашу канонерскую лодку «Донец», а вторую – «Кубанец» – повредили артиллерийским огнем. От пушек досталось нефтехранилищу, портовым сооружениям и сахарному заводу, несколько снарядов угодили в жилые кварталы города.
Одновременно германский линейный крейсер «Гёбен» вместе с миноносцами обстрелял Севастополь. Береговые батареи ответили огнем, но обе стороны из-за тумана друг в друга не попали29. На берегу погибли несколько моряков, лечившихся в госпитале. Главной жертвой набега стал возвращающийся из Ялты минный заградитель «Прут». «Гёбен» пытался захватить корабль, нагруженный минами, и его капитан приказал открыть кингстоны. Часть команды попала в плен, часть на шлюпках сумела добраться до берега30. Миноносец «Лейтенант Шестаков», пытавшийся спасти заградитель, получил несколько попаданий снарядов 283-миллиметровых пушек линкора и с трудом сохранил плавучесть. В ходе набега «Гёбен» двадцать минут маневрировал на управляемом минном поле, которое было отключено (ждали возвращения заградителя). Когда на поле подали ток, немец уже ушел оттуда…
Одновременно легкий германский крейсер «Бреслау» заминировал Керченский пролив (подорвались два русских парохода «Ялта» и «Казбек»), после чего обстрелял Новороссийск. Загорелись нефтехранилища, страшный пожар от разлившейся нефти уничтожил 14 стоящих в порту судов. А турецкий крейсер «Гамидие» поджег железнодорожные склады и портовые сооружения в Феодосии.
В Феодосии и Новороссийске немецкие офицеры высадились на берег и предупредили, что порт и город скоро будут подвергнуты артиллерийскому огню. И населению надо спасаться31. Возникла паника, власти и полиция сбежали в первую очередь. Обыватели тоже бросились прочь из города, что позволило свести потери среди мирного населения к минимуму (в Новороссийске, например, погибли 2 человека).
Так началась Великая война на Кавказе и в Черном море.
Нападения на море послужили сигналом к началу военных действий на суше. В ночь на 20 октября русские войска перешли турецкую границу и через 5 дней захватили Кепри-кейскую позицию, что в 50 верстах от Эрзерума. Турки в ответ высадили возле местечка Хоп морской десант: два пехотных полка элитного Константинопольского корпуса и начали наступление на Батум. Аджарцы поддержали единоверцев и устроили мятеж в российском тылу. Десантом командовал немецкий майор Штанке. Турецкие полки, усиленные конными аджарцами, угрожали Ольтынскому отряду и важному узлу дорог Ардагану. С фронта их поддержали части 3-й армии.
Фактически Кепри-кейская (она же Азан-кейская) операция превратилась во встречное сражение. Обе стороны атаковали, только в разных местах. Сарыкамышский отряд генерала Берхмана, самый сильный из числа русских войск, получил по зубам и начал отступать обратно к границе. Потом ответил и вновь потеснил турок. Затем опять отступил, едва-едва отстояв Ардосские позиции. Началась осенняя слякоть, дороги размыло. «Пятая стихия»32 сделала маневренную войну невозможной. В конце концов обе стороны выдохлись. Турки потеряли 15 000 солдат (из которых 3000 – дезертиры), русские – 6000. Самые большие потери понес 156-й пехотный Елисаветпольский полк. Но моральная победа осталась за турками. Они отбили плохо подготовленное наступление 1-го Кавказского корпуса. А на Востоке такие вещи имеют особое значение…
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе