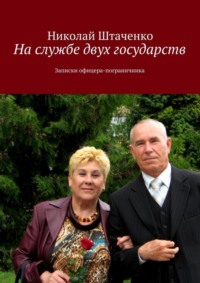Читать книгу: «На службе двух государств. Записки офицера-пограничника», страница 9
Вспоминаю, как на вечерней прогулке, младший сержант Свинкин подавал команду: «Взвод, – запевай!». И тут же наш запевала, Юрий Жук, начинал: «Бродят, бродят тучки грозовые у подножья белых гор, там, заставы часовые, боевой несут дозор…».
После запевалы все мы хором начинали припев: «На подвиги готовые, мы беззаветно сторожим суровые, суровые пограничные рубежи!..»
В то время солдат обували в сапоги с портянками. От сильной жары ноги потели, портянки были мокрые от пота. Чтобы ноги были без потертостей, надо было каждый день стирать портянки. Я это делал, да и другие ребята; в послеобеденный 30-ти минутный перерыв – стирали портянки с мылом и щеточкой; к концу этого перерыва они успевали высохнуть. Были лентяи, которые по нескольку дней не стирали своих портянок, от этого портянки грубели, становились темными и натирались ноги до язв, а коль портянки были грязные, то в ранки заносилась инфекция и ноги распухали, тем самым ребята мучились, получали освобождения у врача, и, как результат, были небоеспособны. А были и хитрецы: чтобы своих портянок не стирать, они, в обеденное время, висящие и сохнущие на проволочном заборе чужие белые портянки, просто воровали, а свои грязные – выкидывали. Поэтому, из-за этого воровства, каждый, кто постирал и вывесил для просушки свои портянки, посматривал и следил, что бы никто их не стащил.
Каждый учебный взвод располагался в казарме в отдельном помещении. Сержанты – командиры взводов, располагались и отдыхали в отдельном помещении, а заместитель командира взвода и командиры отделений располагались и спали в помещении, – вместе со своими подчиненными.
Вспоминаю случай, как после отбоя прошло минут десять, свет был погашен, и кто-то с кем-то в углу начал разговаривать. Тут же поднялся заместитель командира взвода младший сержант Свинкин, включил свет и спросил: «Кто разговаривал?». Все молчали. Он повторил второй раз этот же вопрос. Опять никто не ответил. Он подал команду: «Взвод, ода минута – Подъем!» Построился весь взвод, заместитель командира взвода третий раз спросил: «Кто разговаривал?» Никто не ответил. Рядом находился стадион; младший сержант Свинкин вывел взвод на стадион, командиров отделений вывел из строя, а остальным дал команду: «Взвод, – бегом марш!». Наш взвод пробежал по стадиону 16 кругов, затем младший сержант Свинкин остановил взвод, привел его в казарму и сделал отбой. В дальнейшем, после отбоя, не было слышно ни единого звука.
Сравнивая работу сержантов на нашем учебном пункте и их методическую подготовку, то скажу, что, будучи уже офицером, я не видел таких хорошо подготовленных сержантов, и даже молодых офицеров, которые могли бы сравниться с профессиональной подготовкой сержантов тех времен, в шестидесятых годах.
Наступило 4 сентября 1966 года – день принятия военной присяги. Я, и мои сослуживцы по учебному пункту, приняли военную присягу – дали клятву на верность Родине; с этого времени только начала засчитываться служба в армии. Но с принятием военной присяги учебный пункт еще не закончился, а продолжался. Длился он у нас три с половиной месяца, где-то до 10 или 15 октября 1966 года. За время учебного пункта мне пришлось пару раз побывать рабочим по столовой. Однажды пришлось поработать на посудомойке. Там, я так за сутки «покрутил пластинки» – мыл тарелки в горячей, как кипяток, воде, что все пальцы по окончанию моего наряда были в волдырях.
Также, я раза два, за период учебного пункта, побывал в суточном наряде. Один из командиров отделений нашего взвода заступал дежурным по учебному пункту, а трое молодых солдат заступали дневальными. Один из дневальных стоял по полной форме у тумбочки с телефоном и отвечал на телефонные звонки, а двое других, в это время, занимались уборкой помещений и прилегающей территории. Через пару часов дежурный производил замену дневального, стоящего у тумбочки, и на его место становился другой, а сменившийся, – включался в работу по уборке помещений. Во время несения службы в суточном наряде, в ночной час – от отбоя до подъема – дежурной службе разрешалось отдыхать не более 4-х часов каждому. Дежурный своим решением регулировал сон наряда. Нужно было действовать так, чтобы в ночной час обязательно находились у тумбочки два человека из состава наряда.
Когда я впервые заступил в наряд дневальным по учебному пункту, и, во время моего отдыха ночью, меня разбудила команда дежурного: «Учебный пункт, – Пожар!» Все быстро поднялись, оделись и побежали на улицу строиться, я, хоть всего спал один час, тоже поднялся и выбежал к дежурному. Оказывается, в ста метрах от казармы учебного пункта, горел чей-то сарай – одного из офицеров этой части. Пока мы все подымались по команде «Пожар», в это время два наших дневальных тушили пожар. Командиры взводов провели расчет, команды вооружились баграми, ведрами и огнетушителями и приступили к тушению пожара, а дневальные приступили к своей службе. Пожар тушили до самого подъема, – так я больше уже и не ложился спать, потому что дежурный больше никому не разрешил ложиться. Пришлось мне тогда за сутки всего лишь один час поспать. А служба-то в суточном наряде продолжалась до нашей смены, до 19.00.
В один из воскресных дней из города приезжал фотограф и фотографировал молодых солдат. Я тоже сфотографировался впервые в военной форме; разослал эти фотографии родителям, своим братьям и сестрам.
Во время учебного пункта с молодыми солдатами в индивидуальном порядке беседовали офицеры МОШСС (меж отрядной школы сержантского состава) с целью отбора кандидатов для школы. Со мной тоже беседовали, и я дал согласие учиться на инструктора службы собак, меня записали в список. С целью выявления нежелательных для службы на границе элементов с каждым молодым солдатом проводились индивидуальные беседы офицерами особого отдела. Со мною то же проводилась индивидуальная беседа. Стоя перед дверьми в кабинет для беседы с офицером, я волновался, думая: «Не вспомнят мне за моего деда, который был против коллективизации». Но мне этого не нагадали, так что я успокоился.
Во время прохождения нашего учебного пункта, учебный процесс в МОШСС подходил к концу, близился выпуск сержантов.
Помню, что где-то в первых числах сентября 1966 года, в МОШСС были похороны, и нас, молодых солдат учебного пункта, привели для прощания с курсантом МОШСС, который погиб во время учебы. Его товарищи рассказывали, что проводилась следовая работа с собаками за городом, вблизи какого-то кишлака и местный житель – таджик, охотился за кишлаком, признал собаку за волка, которая поднялась на холм, прицелился и выстрелил с ружья. В это время рядом с собакой оказался курсант и весь заряд попал ему в голову. На суде этот мужчина-таджик говорил, что солдата не видел и принял собаку за волка. Ему присудили, кажется, два года условно. Вот и возмущались товарищи убитого курсанта.
Подошло время окончания учебного пункта. Начались зачеты по изучаемым дисциплинам. Я все зачеты сдал на «отлично». Молодых солдат мандатная комиссия начала распределять по подразделениям границы. Меня распределили служить на заставу им. Самохвалова Пянджского пограничного отряда. На эту заставу с нашего учебного пункта попало всего 10 человек, остальные прибыли с учебного пункта, который проводился в пограничном отряде.
Находясь на пограничной заставе, я назначался в пограничные наряды для несения службы по охране государственной границы в качестве младшего пограничного наряда. Старшими нарядов заступали сержанты и военнослужащие 3-го и 2-го годов службы. При несении службы в нарядах, я учился у старших товарищей пограничному мастерству в несении пограничной службы. Поначалу, по ночам, у каждого куста мне мерещился «нарушитель границы», – сказывалась повышенная бдительность. Около полутора месяцев я прослужил на этой заставе, затем меня вызвали для учебы в МОШСС, в г. Душанбе, на инструктора службы собак.
Прибыл я г. Душанбе для учебы в МОШСС 25 ноября 1966 года, а учебный процесс начинался только с 15 декабря. Видать специально, человек 20, вызвали в школу на две недели раньше, в том числе и меня. А вызвали раньше потому, что нужно было заготовлять для МОШСС картошку, и началась подготовка к выезду.
Старшим группы по заготовке картофеля был назначен капитан. Погрузили две палатки на автомашины, набрали продуктов на неделю, прицепили к ЗИЛ-130 полевую кухню и поехали за 100 км на Памир. Подымались вверх в горы по вьющейся крутой дороге. Горная дорога – сплошь грунтовая. Автомашиной поднялись на высоту 3000 м. Внизу перед горами было плюс 30—35 градусов, а на высоте 3000 м – всего лишь 16—18 градусов тепла. В горах на высоте 3000 м было ровное плато, и там были хорошие условия для выращивания картофеля. Там, поблизости кишлака, были большие картофельные поля.
В 200 м от кишлака мы поставили свои палатки, в 20 м от палаток протекал арык с холодной ледяной водой, пригодной для приготовления пищи. Для приготовления пищи повар воду брал с арыка, чуть выше расположения палаток, мы умывались, используя воду арыка, – чуть ниже по течению от палаток. С колхоза прикрепили одного таджика с сохой и двумя волами. Условия были таковы для нашей части: с тонны собранного нами картофеля, воинской части причитался 1 центнер (100 кг). И пошла работа. Таджик с волами становился на рядок, сохой подцеплял и переворачивал клубни картофеля с землей, а мы, расставленные друг от друга по рядку на 10—15 шагов, собирали картофель в ведра и носили в одно место, высыпая на кучу.
Солдат-повар приготовлял пищу три раза в день по распорядку. Прошло 2—3 дня, и в горах пошли затяжные дожди. Работа по уборке картофеля временно прекратилась. Все сидели в палатках и ожидали окончания дождя, – так прошла вся 1-я неделя. А дожди не прекращались. У нас продуктов было привезено всего на одну неделю. Каждую неделю должна была прибывать к нам автомашина с продуктами, а назад возвращаться с картофелем. Жиры, хлеб, мясо – все это у нашего повара закончилось, а автомашина с продуктами, из нашей части, по мокрой и раскисшей дороге к нам в горы подняться не могла. Повар нас начал кормить одной картошкой, отваренной на воде, то есть картофельным пюре. Лежали в палатках, животы подводило. Стало холодно, все были промокшие.
И тут, в одно утро, пришел к нашему капитану учитель с кишлака и спросил у капитана: «Есть ли среди солдат специалист, который смог бы в школе переложить плиту с грубой, а то дымит плита». Капитан построил нас в палатке и задал этот же вопрос. «Я могу!», – сказал я. Ну и мой дружок, Петя Иванюк, сказал, что тоже может. Но потом Петя мне признался, что в качестве помощника захотел. Пошли мы следом за учителем в школу и принялись за работу. Разобрали мы плиту и трубу, – на это ушло часа два. Замесили глину, и я приступил к работе. Первые два ряда я выложил, и тут нас позвали к обеду. Смотрим: стоит казан с бешбармаком – это их национальная еда. Увидели мы в этом казане куски мяса, картофель и рваные лепешки. Еще готовились обедать три учителя – все мужчины. Один из них сказал: «У нас где-то есть одна ложка, а как будем кушать?» Тут Петя Иванюк быстро ответил: «Будем кушать по-мусульмански!». Значит руками черпать с казана. Все помыли с мылом руки. Тут один из учителей поставил пиалы, раскрыл бутылочку водки, разлил по пиалам и предложил всем выпить. Я с Петькой отнекивался, мол, нам нельзя. Но они нас уговорили. И пришлось нам выпить по одной. А еда была жирная, горячая, – вот тогда мы душу отвели. После обеда – вновь за работу. А тут и ужин подготовили, – жирный плов с бараниной. Пришли мы к своей палатке, и очень сытно чувствовали себя. На второй день – опять за работу, я начал торопился. Иванюк за руку меня схватил: «Не спеши, – сказал он шепотом, – видишь идет дождь, неизвестно сколько тут голодными торчать». Я начал помедленнее работать. За четыре дня мы все сделали. И все четыре дня – сытные обеды и ужины. Затопили печку, сначала повалил дым и пар. Но потом печка с грубой просохли, – и работа, оказывается, удалась. К этому времени прекратился дождь, поднялась к нашему лагерю автомашина с продуктами. И стало опять нормальное питание. Вместо двух недель, пришлось на заготовке картофеля работать целых три недели.
По приезду на заготовку картофеля, в первый же день, нашелся один из солдат симулянт. Среди нас был один коренастый и высокого роста солдат; собирать картошку, низко нагибаясь, ему показалось тяжело. Работая после обеда на картофельном поле, он скорчился и лег, сказал, что сильно колет и болит в правом боку, – значит аппендицит так все решили. Наш фельдшер, по приказу капитана, посадил его в автомашину, которая еще не отправилась в часть, и повез его в Душанбе, в медицинский пункт. Когда подъехали они к нашей МОШСС, этот солдат сказал, что уже в боку не болит, отпустило. Обратно его, конечно, не привезли, так и остался в части до нашего возвращения. Вот такова случилась история на уборке картофеля в начале моей службы. Лучшего случая не придумаешь для приключений нашего «Бравого солдата Швейка».
К 10-му декабря 1966 года все кандидаты для обучения в МОШСС прибыли с пограничных отрядов нашего округа, и началась подготовка к учебному процессу. Было сформировано в МОШСС пять учебных застав. Учиться на инструктора службы собак надо было 9 месяцев. Учащихся МОШСС называли курсантами. За каждым курсантом закрепили служебную собаку, которую во время учебы он должен обучать, а после ее окончания, – уехать с ней на границу.
До начала учебного процесса представители школы закупали овчарок в разных регионах страны; закупали собак в возрасте от одного года до двух лет.
Начальником нашей учебной заставы был капитан Яшко, заместителем начальника учебной заставы по политической части – лейтенант Сущиков, старшиной учебной заставы – старший сержант Желтов, а командиром моего, 1-го, отделения был сержант Егоров.
Собаки в МОШСС содержались на специальной, огражденной забором, территории в вольерах. До начала учебного процесса, капитан Яшко вывел учебную заставу на территорию, где были в вольерах собаки для нашей заставы и приступил к закреплению собак за каждым курсантом. За мной была закреплена служебная собака по кличке Эльба. Кормлением собак и уходом за ними занимался каждый курсант, – каждый занимался исключительно своей собакой.
15 декабря 1966 года после общего развода начался учебный процесс в сержантской школе. Занятия проводились по 7 часов в день. По вторникам и пятницам с нами проводились, в течение двух часов, занятия по политической подготовке. Кроме предметов боевой подготовки, в школе была еще и специальная подготовка, в ходе которой отрабатывались темы дрессировки служебных собак и следопытства. Сначала в теоретическом плане отрабатывались вопросы, к примеру, общей дрессировки, а затем на следующий день эти вопросы отрабатывались с привлечением служебных собак. В ходе общей дрессировки мы вырабатывали у собак условные рефлексы на команды: «Сидеть», «Стоять», «Лежать», «Ко мне», «Рядом», «Апорт», «Нюхай», «Ищи», «Вперед», «Фас» и другие.
Обучали собак и выборке предметов. У каждого курсанта был апорт – толстый, круглый, в диаметре 5 см, тряпичный жгут, который всегда был в его сумке и имел, соответственно, его запах. При обучении собак в выборке предметов, собаке давали нюхать этот предмет, принадлежащий одному из курсантов учебной заставы. Затем этот предмет ложился в ряд с другими такими же апортами (в ряд выкладывали штук десять или двадцать этих предметов) и через определенное время подводили собаку, которая нюхала это апорт. Затем он ее подводил к уложенным в ряд этих предметов, и она пробегала по нескольку раз вдоль предметов и должна была безошибочно отыскать и взять в зубы этот апорт.
Также обучали собак выборке человека. Давали собаке понюхать какой-то предмет, к примеру, носовой платок или расческу. Затем человек десять выстраивалось в шеренгу с интервалом в один метр и курсант на поводке проводил свою собаку вдоль строя, и она должна точно указать на человека, чью вещь она нюхала. Реакция собак была разная. Одна собака пробегала вдоль строя и возле того человека, чья была вещь, садилась напротив него. Другая – с рычанием набрасывалась на этого человека, готовая его порвать.
Учили собак идти и на задержание неизвестного. Неизвестный выскакивал впереди на удалении 200—300 м в дрессировочном костюме, курсант отпускал свою собаку и командовал – «Фас!» Собака с большой скоростью бежала к неизвестному, делала прыжок и лапами сбивала его на землю. Потом усложняли это задержание: неизвестный стрелял холостым патроном, то есть учили собаку идти на выстрел. Поначалу некоторые собаки боялись выстрела, а потом привыкали и смело шли на задержание. Это было интересно, потому что каждый видел результаты своей практической работы с собакой. Успехи дрессировки зависели от самого курсанта, – как он смог наладить контакт с собакой, от его теоретической подготовки и умения управлять собакой, так и от самой собаки, – как она поддается дрессировке, от ее вида нервной деятельности.
В МОШСС я впервые узнал, что такое караул. На территории школы сержантского состава было караульное помещение, где целые сутки размещался караул. Караул – это вооруженное подразделение, которое наряжалось на сутки для охраны важных объектов воинской части. В караул полностью заступало отделение курсантов во главе с командиром отделения. Командир отделения заступал начальником караула. Отделение в карауле, в течение суток, охраняло важные объекты МОТШСС: Боевое Знамя части (пост номер 1), склад артиллерийско-технического вооружения (пост номер 2), вещевой и продовольственный склады (пост номер 3). Посты номер 1 и номер 2 охранялись круглосуточно, они были трехсменные. Для их охраны назначалось по три караульных. Каждый раз, когда наше отделение заступало в караул, я назначался для охраны Боевого Знамени части (пост номер 1). Для охраны Боевого Знамени части назначалось три караульных, одетых в парадную форму одежды. Согласно Табелю постам, службу на постах несли по два часа. Все, кто находился в караульном помещении, назывались караульными, а те, кто заступил на посты для их охраны, – часовыми. В Постовой ведомости начальник караула расписывал всех караульных по постам и сменам. Каждая смена часовых несла службу на посту по 2 часа, а потом проводилась очередная смена часовых. Смену часовых на постах проводил сам начальник караула, разводящие не назначались, так как мало было постов и расстояния на выдвижения были небольшие.
После развода суточного наряда и караула к 19.00 осуществлялся прием караульного помещения и состояние постов, после чего на посты заступала 1-я смена часовых, которая несла службу на посту 2 часа; в 21.00 – заступала 2-я смена часовых; в 23.00 – заступала 3-я смена, а в 01.00 вновь заступала 1-я смена и т. д. Так что на 3-х сменном посту каждому караульному приходилось заступать на пост четыре раза и нести службу в течение суток в общей сложности 8 часов. Распорядок для караульных на 3-х сменном посту распределялся следующим образом, например, для 1-й смены: служба на посту – 2 часа, после службы – бодрствование, также 2 часа, после бодрствования – 2 часа сон; после сна – очередное заступление на пост. Тяжеловато было часовым у Боевого Знамени, – ведь там приходилось стоять на одном месте, расслабив правую или левую ногу, согнувши ее чуть-чуть в коленке. Часовой у Боевого Знамени части был с автоматом в положении «на грудь» и имел 60 боевых патронов. Боевое Знамя части располагалось в штабе на специальном постаменте в коридоре. Все военнослужащие, проходящие мимо Боевого Знамени части, обязаны были отдавать воинскую честь Боевому Знамени, при этом, часовой должен был принимать положение «Смирно». К концу 2-го часу службы ноги у часового, у Боевого Знамени части, полностью затекали, и, при смене другим часовым, сменяемый часовой, шагов 10—15, еле двигал ногами.
В МОШСС было 25 отделений. Поэтому нашему отделению, в среднем, приходилось заступать в караул один раз в месяц.
Наш начальник учебной заставы, капитан Яшко, был строгим офицером, мы никогда его не видели улыбающимся или смеющимся. Среди курсантов ходили разные разговоры о капитане: говорили, что даже при встрече на улице с женой, он проходил молча, не обмолвившись с ней ни единым словом, хотя бы заговорил с ней о своем сыне. Офицеры школы жили на территории части в одноэтажных домиках. Домики отапливались зимой углем. Помню, однажды, как капитан Яшко меня позвал к себе домой и поставил задачу подделать печку, так как на ней было много трещин и валил дым. Я эти неисправности устранил за пару часов.
Служба в армии – это выполнение обязанностей по защите своей Родины. Во время ее прохождения приходилось находиться вдали от своих родителей, близких и знакомых. Поэтому приходилось скучать, особенно в свободное время, по вечерам. У ребят, сослуживцев по учебной заставе, настроение приподымалось от получаемых писем: от родителей, друзей и, особенно, от знакомых девушек. Все ребята очень ожидали писем. На нашей учебной заставе почтальоном был один из сержантов – командиров отделений, который ежедневно, после обеда, ходил на почту за корреспонденцией. В свободное время ему разрешалось выдавать почту. Он выходил в коридор, там его все ожидали, и называл фамилии курсантов, кому адресовались письма и вручал их. Кому приходило письмо от девушки, он говорил: «Подставляй нос», – и три раза был конвертом по носу, затем отдавал письмо. Мне тоже доставалось по носу, ведь мне писали две девушки – Надежда Нерода и Мосулезная Лида. Многие из ребят, получив письмо от девушки, тут же его распечатывали и читали в сторонке. Когда приходило мне письмо от девушки, я не спешил его сразу прочитать, – клал его в карман, долго ходил и воображал себе его содержание, затем, через полчаса или через час, в укромном месте, вскрывал письмо и начинал читать. Читал не одним махом, а по абзацам, с остановкой и размышлением о прочитанном эпизоде, некоторые места в письме перечитывал дважды. Ответ стремился написать в этот же день. Конверты покупали без марок и отсылали в них письма. Письма до Душанбе доходили за неделю. Поэтому, отправив письмо, ответа я ожидал только через две недели. Так что радоваться письмам приходилось не часто.
Впервые свой день рождения, 12 января 1967 года, – мне исполнилось 20 лет, – я встречал во время службы в армии. Где же я в этот день был? Встречал я свой день рождения на койке в медицинском пункте, в лазарете. Перед днем рождения заболел гриппом, поднялась высокая температура и меня положили в лазарет нашей МОШСС. Никто не знал о моем дне рождения, поэтому никто из сослуживцев и командиров меня не поздравлял. Так тишком-ничком и встретил я свое двадцатилетие. Где-то с неделю я проболел, потом меня выписали, и я включился снова в учебу. Программу обучения в МОШСС я усваивал на «отлично». С дрессировкой служебной собаки тоже все было в порядке, собачка работала хорошо, активно исполняла все мои команды. Где-то через пару месяцев после начала учебного процесса началась следовая работа. Поначалу мой «помощник», одетый в дрессировочный костюм, дразнил и хлыстом бил мою собачку, я удерживал ее на поводке. Удерживая собачку за укрытием, я не позволял ей смотреть и видеть, куда убегал «помощник». Через 5 мин. времени, когда «помощник» убегал на 300—500 м и укрывался, я командовал своей собачке – «Ищи!». Собачка, не отойдя от возбуждения после ударов хлыстом, моментально брала след и вела к месту укрытия «помощника», его находила и хватала за тряпку в его руке, трепала и сгоняла свою злость. В дальнейшем мы усложняли обстановку: увеличивали дистанцию, где укрывался «помощник», промежуток времени до начала движения по следу, то есть увеличивали давность следа. В последующем, прокладывались следы не по прямой линии, а по определенному маршруту с поворотами под большими углами, а дальность до «помощника» увеличивали до 5 км, до 10 км и до 15 км. К концу обучения в МОШСС давность следа доводилась до 4—5 часов от момента его прокладки. Некоторые собачки быстро брали след и активно работали, даже и при большем отрезке времени, прошедшем с момента прокладки следов.
Собачки, как и люди, тоже есть активные, трудолюбивые и пассивные, ленивые. Некоторые ленивые собачки имитировали движение по следу и уводили курсанта совсем в другом направлении, а некоторые собачки часто теряли след. Поэтому задача инструктора состояла в умении правильно распознать, по поведению собачки, ее фальшивую работу и уметь, путем требовательности и поощрения, заставить ее активно работать по следу. Для поощрения собачек каждый курсант имел на своем поясном ремне специальный застегивающийся кожаный пенал, в котором лежали небольшие кусочки мяса. Если собачка хорошо выполняла команду или действие, курсант ей давал кусочек мяса, тем самым поощряя ее работу. И это хорошо помогало.
Мясо мы брали на занятия с собаками в столовой для собак. Там повар специально отваривал это лакомство для собак и, идя на занятия, мы там его получали. Так что с каждым месяцем учебы в МОШСС увеличивалась практическая работа с собачкой в полевых условиях.
Уборкой и кормлением собак курсанты занимались сами. К собачьей кухне сносили пустые бачки; повар, после приготовления пищи, разливал пищу по бачкам для каждой собаки; к моменту кормления пища остывала, и мы брали свои, подписанные именем собаки, бачки и несли своим собачкам. До кормления делали уборку в вольерах, а затем заносили корм в бачках. Горячую пищу собачке давать не разрешалось, потому что она могла потерять обоняние.
Каждый понедельник, после завтрака, в МОШСС проводился общий развод на занятия. В середине февраля 1967 года, на разводе, заместитель начальника школы по политической части, майор Соколов, сделал объявление о том, что будет проводиться набор абитуриентов из числа гражданской молодежи и солдат-пограничников, имеющих среднее образование, для поступления в высшие пограничные командные училища – Алма-Атинское и Московское.
На второй день после этого объявления, на перерыве, ко мне подошел сержант Егоров (мой командир отделения) и сказал: «Курсант Штаченко, ты в строевом отношении подтянут, физически развит хорошо, у тебя примерная дисциплина, программу обучения ты усваиваешь на „отлично“, из тебя получится неплохой офицер. Так что подумай об этом хорошенько». Я замялся и сказал: «Не знаю, сможет ли из меня получиться хороший офицер. Надо мне подумать».
На следующий день сержант Егоров опять подходил ко мне с тем же вопросом. Я все время размышлял: «Где я смогу получить высшее образование, как не в военном училище? Ведь в гражданских условиях мне получить его почти невозможно – так как помощи ждать не от кого». И, – я принял решение идти учиться в ВПКУ.
На беседу меня вызвал начальник учебной заставы капитан Яшко, и я дал окончательное согласие идти учиться в пограничное училище на офицера-пограничника. Пришлось, после беседы, там же в канцелярии, написать рапорт о моем желании идти учиться в пограничное училище. На рапорте капитан Яшко написал утвердительную резолюцию.
Кандидатов для поступления в пограничные училища и училища Советской Армии от нашей МОШСС оказалось немного, всего 6 человек. С 1-й учебной заставы был я один, со 2-й учебной заставы было 2 человека, с 3-й, 4-й и 5-й учебных застав – по одному человеку.
В Алма-Атинское Высшее пограничное командное училище кандидатами для поступления были: я и Сергей Чхальянц. Кандидаты от Душанбинской МОШСС (межотрядной школы сержантского состава) для поступления в пограничные училища. На фотографии, в первом ряду слева направо: рядовые Горбатенко, Алексеенко, Власов; во втором ряду слева направо: рядовые Штаченко, Трефелов, Чхальянц. Фотоснимок сделан в мае 1967 года.
Через несколько дней, после написания рапортов, нас направили в военный госпиталь для прохождения медицинской комиссии. Пройдя медкомиссию, начали собирать и сдавать в отделение строевое и кадров необходимые документы. Из дому мне родители прислали аттестат о среднем образовании. Я хотел ехать поступать в Московское Высшее пограничное командное училище, но в отделении строевом и кадров капитан Григорьев сказал, что Алма-Атинское Высшее пограничное командное училище – лучшее в СССР и, если я действительно хочу стать офицером-пограничником, то надо ехать поступать именно в это училище, – тем самым он меня переубедил.
Комсомольскую характеристику для поступления в пограничное училище мне утверждали на комсомольском собрании первичной комсомольской организации нашей учебной заставы, на котором присутствовал заместитель начальника МОШСС по политической части майор Соколов. Все выступающие на собрании обо мне отзывались положительно. Когда закончились прения, мне начали задавать вопросы. Майор Соколов задал такой вопрос:
– Комсомолец Штаченко, а с какой целью вы хотите поступить в пограничное училище?
– В пограничное училище я хочу поступить, чтобы быть полезнее нашей Родине, – ответил я.
Этот ответ удовлетворил всех, и все комсомольцы учебной заставы единогласно проголосовали за выдачу мне положительной комсомольской характеристики и рекомендации для поступления в пограничное училище.
Вспоминаю, как приближался праздник 8-е марта 1967 года – Международный женский день. У заместителя начальника МОШСС по тыловому обеспечению возникла идея к 8-му марта отправиться на границу, на реку Пяндж, на рыбалку и наловить рыбы для нашей воинской части. Он назначил старшим капитана Герасимова (начальник финансовой части). В группу рыболовов еще были включены: начальник продовольственного склада старшина Козлов и шесть человек курсантов – кандидатов для поступления в пограничные училища. Попал в эту группу и я.
С утра 7-го марта начали готовиться к выезду на автомашине ЗИЛ-130. Взяли с собой большой бредень, были подготовлены удочки, загрузили сухой паек на двое суток, и после обеда выехали к месту промысла.
Выехали за г. Душанбе и поехали дорогой, преодолевая горные перевали, проехали через г. Курган-Тюбе, далее к границе, к реке Пяндж. Засветло приехали на 2-ю пограничную заставу (им. Самохвалова) Пянджского пограничного отряда. До учебы в МОШСС я прослужил на этой заставе 1,5 месяца. Там проходила граница с Афганистаном, проходила она по середине реки Пяндж, пограничные столбы стояли на обоих берегах реки на возвышенностях в 200-х-300-х метрах от реки. К реке примыкали небольшие озера и заболоченные места, где мы и ловили рыбу 8-го марта. Переночевали на заставе. Наступило 8-е Марта, день был солнечный и теплый, температура воздуха днем доходила до +18—20 градусов. С утра начали ловить рыбу удочками в озерах вблизи реки Пяндж. Ловились сазаны по 300—500 граммов, не успевали забрасывать удочки. Только закинешь удочку – тут же потянул сазан. Если на удочке было, на поводках, два крючка, то сразу цеплялось по два сазана. Что характерно, – не надо было навешивать на крючки червяков или какую-то кашу, – сазаны хватали за голые крючки, и мы их вытаскивали. К обеденному времени начала хватать более крупная рыба и все крючки на наших удочках пообрывались. Капитан решил перейти к ловле рыбы бреднем. И вот мы, поочередно, начали его таскать по озерцам и вдоль берега реки. Бродили по пояс в воде часов 5—6, намерзлись, намочились – ведь вода была в начале марта еще очень холодная. В итоге, мы наловили два мешка рыбы и 9-го марта к обеду привезли и сдали ее на продовольственный склад.
Начислим
+4
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе