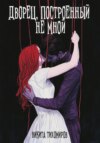Читать книгу: «Медитативные когитации», страница 3
Финальная герменевтика и систематизация всех вышеперечисленных трансцендентных и имманентных модусов, связанных в том или ином виде с категориальными конструктами χρόνος'а и κόσμος'а, может иметь следующий вид. Ранее уже подчеркивалось, что вечность и бесконечность, представляющие собой апофатические парадигмы, являются безусловными и непосредственными абсолютными протопричинами, стоящими во главе всех остальных онтологических, космологических, ментальных, эпистемологических и иных смысловых матриц и понятий. Длительность и протяженность, обнаруживаемые и фиксируемые многоуровневым антропологическим субъектом, наряду со всеми остальными хронологическими и космогоническими структурами и дефинициями, являются обусловленными и производными от них (парадигм) семантическими модусами и концептами. При этом, кристально ясно, что метафизические и безотносительные матрицы вечности и бесконечности, манифестируют по ту сторону многомерных и многоплановых систем микрокосма (μικρόκοσμ) и макрокосма (μακρόκοσμ). Тогда как все остальные их (матриц) обусловленные консеквенты и деривативы, в той или иной степени, принадлежат к интериорным и экстериорным сегментам последних (систем). Одновременно с этим, выше также уже отмечалось, что длительность (duratio) и протяженность (extensum), индуцируют детерминированные предпосылки для возникновения теоретических концептов спатиальности (spatium) и темпоральности (tempus). Последние (концепты), в свою очередь, конституируются ментальным актором посредством одномоментного, мгновенного и внезапного эталонного и всестороннего интеллектуального схватывания. В то же время, они (концепты) трансформируются при помощи трезвого, бодрствующего, адекватного, вменяемого, нонпатологического и т.д. рационального мышления в категории пространства и времени. Кроме того, вполне понятно, что если вечность и бесконечность являются дистилированными апофатическими и безусловными инстанциями, постфактум концептуализированными рассудочным субъектом, то обусловленные и катафатические длительность и протяженность симультанно репрезентируют собой и космологические, и эпистемологические, и семиотические, и терминологические, и иные текстуры. При этом ментальные конструкты спатиальности и темпоральности, а также производные от них категории пространства и времени, с одной стороны, обладают трансцендентальным измерением, а с другой – проецируются им (субъектом) на те или иные многослойные и поливариантные структуры и компоненты микрокосма и макрокосма. Соответственно, принимая во внимание все вышеизложенное можно постулировать, что несмотря на формализацию, схематизацию, типологизацию и интеллектуализацию всех вышеперечисленных смыслообразующих матриц и дефиниций, сама проблематика герменевтики и интерпретации каждой из них развертывается по магистральным поливалентным, энантиодромическим и парадоксальным линиям гетерогенных семантических траекторий.
Если качественное и сущностное отличие вечности и бесконечности от всех остальных вышеобозначенных категорий и концептов, связанных с хронологией и космогонией, носит предельно эвидентный, эксплицитный и принципиальный неотчуждаемый и неопровержимый характер. То фундаментальная дистинкция между длительностью и протяженностью, с одной стороны, и ментальными дефинициями времени и пространства – с другой, заключается в следующем. Так первые представляют собой не только искусственным образом спродуцированные теоретические конструкты, постфактум обнаруживаемые и фиксируемые антропологическим субъектом с помощью его многоуровневой пневмо-ноо-психосоматической матрицы, но и специфические экзистенциальные модусы симультанно свойственные многомерным структурам парадигмы мироустройства. При этом их (первых) органичная, неотъемлемая и неопровержимая принадлежность к последним (структурам), не препятствует им функционировать суверенным и автономным образом вне зависимости от их непосредственной и/или опосредованной регистрации, а также эталонной и всесторонней герменевтики, осуществляемых рассудочным актором. То есть, важно подчеркнуть, что длительность (duratio) и протяженность (extensum) манифестируют совершенно обособленно и независимо как от последнего (актора), так и от других зоо-био-психо-соматических витальных существ, обнаруживающих и фиксирующих, в том или ином виде, их в качестве бесспорно и неотчуждаемо верифицируемой наличествующей данности. Что касается категорий пространства и времени, то ранее уже неоднакратно отмечалось, что каждая из них является исключительно лишь трансцендентальной конструкцией, инициируемой посредством так называемого бодрствующего, трезвого, вменяемого, адекватного, экземплярного, критического и т.д. спекулятивного мышления. Кристально ясно, что поледнее, осуществив их (категорий) экземплярное и полновесное постулирование, способно свободно и полноправно проецировать их (категории) на те или иные сегменты, страты и компоненты присущие многослойной и полиракурсной матрице системы мироздания. Соответственно, дифференциация между длительностью и протяженностью, с одной стороны, и категориальными модусами времени и пространства – с другой, не только носит принципиальный и сущностный характер, но и продуцирует определенные предпосылки для возможности понимания, осмысления и экзегетирования основополагающего различия между космологией (и/или онтологией) и гносеологией вообще.
Дальнейшее рассмотрение и дескриптирование дистинкции между теми или иными вышеперечисленными смысловыми категориями и дефинициями, не препятствует подчеркнуть следующее. Так, ранее уже отмечалось, что если время и пространство, являющиеся исключительно лишь детерминированными концептуальными конструктами, не только проецируются рациональным актором на многомерные и поливариантные матрицы системы мироустройства, но и, в той или иной степени, весьма эффективно и эталонно коррелируют с последними (матрицами), то длительность и протяженность репрезентируют собой именно конкретные экзистенциальные модусы неотчуждаемо и бесспорно наличествующие без каких-либо регистрирующих и постулирующих их гносеологических и иных актов. То есть вторые (длительность и протяженность), в отличие от первых (конструктов), представляя собой автономные и суверенные специфические космогонические текстуры, манифестируют в качестве полноценных и самотождественных субстратов. Несмотря на то, что вечность и бесконечность являются безусловными протопричинами и антецедентами, индуцирующими всевозможные аподиктические предпосылки для возникновения последних (субстратов), тем не менее в контексте динамической и перманентно трансформирующейся парадигмы становления, характеризующей многоплановую и поливалентную мобильную структуру мироздания, они (субстраты) экспозиционируют себя в виде самостоятельных и оригинальных модусов, ускользающих от полновесных интеллектуальных фиксаций и гетерогенных спекулятивных концептуализаций, инициируемых по отношению к ним (модусам) рассудочным субъектом. Поскольку, кристально ясно, что последние (…концептуализации), никоим образом не способны подвергнуть ни модификации, ни релятивизации, ни элиминации и т.д. интериорную эссенциальную природу каждого из них (модусов). Данное смысловое положение, в свою очередь, также абсолютно корректно, релевантно и легитимно не только для последней (природы), но и для эндогенного сущностного ядра апофатических вечности и бесконечности. Соответственно, если категории времени и пространства, генерируются с помощью инструментов и процедур ментальной дискурсивности, то длительность (duratio) и протяженность (extensum) возникают и развертываются вне зависимости от прямых и/или косвенных разнородных трансцендентальных реализаций, осуществляемых многомерной унитарной и холистичной интегральной антропологической персоной.
Герменевтика и интерпретация спатиального и темпорального категориальных модусов может также обладать еще одним семантическим измерением. Так время и пространство, в отличие от других теоретических категорий и конструктов, способны не только проецироваться на многоплановую структуру мироздания, тем или иным образом коррелируя с последней, но и неопровержимо наличествовать в качестве полновесных абстрактных ментальных концептов. То есть они (концепты) могут идентифицироваться и экзегетироваться как отвлеченные интеллектуальные модусы, игнорирующие всевозможные тенденции и стремления к каким-либо взаимосвязям с теми или иными трансцендентными парадигмами и имманентными матрицами. Следовательно, несмотря на то, что категории времени и пространства, наряду с другими рациональными, иррациональными и иными хронологическими и космогоническими моделями, представляют собой обусловленные и релятивные конструкции. Тем не менее каждая из последних (категорий) может экспозиционировать себя в виде изолированного и не коррелирующего с иными разнородными системами гносеологического полюса. При этом, важно подчеркнуть, что отсутствие каких-либо иных ментальных терминов и понятий для обозначения имено всестороннего отвлеченного теоретического статуса категориальных парадигм спатиальности и темпоральности, не препятствует использовать конкретные интеллектуальные дефиниции, принадлежащие к области структурной лингвистики в частности и к философской школе структурализма в целом. Так, можно постулировать, что время и пространство будут репрезентантами детерминированных спекулятивных концептов, симультанно эксплицирующих себя в виде и эпистемологических абстракций, и коррелирующих с другими гетерогенными инстанциями и матрицами модусов. Тогда как структуралистские термины диахрония и синхрония, сопряженные с первой и второй дефинициями, соответственно, будут иллюстрировать исключительно лишь изолированный и отвлеченный характер последних (дефиниций). Таким образом, категории времени и пространства, представляющие собой именно инсулярные интеллектуальные конструкции, будут полностью гомологичны и гомогенны спекулятивным понятиям диахроничности и синхроничности. Безусловно, само продуцирование и конституирование других ментальных лексем и концептов, корректно и полновесно отражающих семантику последних (понятий), носит открытый, легитимный и релевантный характер.
Подводя финальный итог рассмотрению и интерпретированию категориальных модусов хронологии и космогонии, а также осуществляя их разностороние и гетерогенные классификации, систематизации, типологизации, каталогизации и т.д. важно подчеркнуть следующие смысловые нюансы и аспекты. Во-первых, в основании герменевтики и осмысления последних (модусов) должна лежать эталонная и полновесная дистинкция между ними. Так, необходимо корректно, непротиворечиво, методично и исчерпывающе продуцировать дифференциацию между вечностью (αἰών) и бесконечностью (άπειρον), длительностью (duratio) и протяженностью (extensum), темпоральностью (tempus) и спатиальностью (spatium), временем (χρόνος) и пространством (κόσμος), диахронией (διαχρόνος) и синхронией (συνχρόνος). При этом само осуществляемое различие как между первыми, так и между вторыми вышеперечисленными семантическими концептами, матрицами и конструкциями, должно также носить экземплярный и полнообъемный характер. Во-вторых, классификация, типологизация, каталогизация, структуризация и т.д., наряду с другими интеллектуальными реализациями, являются лишь одной из многих всевозможных разнородных гносеологических стратегий, позволяющих рациональному актору эталонно и полновесно не только обнаружить, зафиксировать и конституировать, но и дифференцировать и интегрировать между собой те или иные исследуемые и экзегетируемые им вещи, начала, предметы, феномены, инстанции, симулякры и т.д.. Так инициирование им (актором) гомологичных и гомогенных герменевтических и интерпретационных практик продуцирует определенные аподиктические предпосылки для возникновения адекватного и всестороннего исследовательского эпистемологического развертывания.
В-третьих, в программном произведении "Полиаспектная антропология", а также в настоящем тексте (по крайней мере в том или ином виде) уже неоднократно подчеркивалось, что познающий субъект, познаваемый объект, познающе-познаваемый субъект-объект (если, конечно, осуществляется практика самопознания и все эти три вышеобозначенные инстанции симультанно являются гетерогенными репрезентантами одной и той же единой и целостной уникальной многоуровневой и интегральной структуры) и процесс познания, представляют собой неотъемлемые и бесспорные смыслообразующие атрибуты и аспекты любой корректной и полноценной гносеологической реализации. Другими словами, отсутствие какого-то одного фундаментального и принципиального компонента из всех вышеперечисленных семантических элементов присущих ее (реализации) трансцендентным и имманентным ареалам либо существенно (или максимально) проблематизирует и осложняет ее (реализации) адекватное и всеохватывающее индуцирование, либо тотально и всеобъемлюще элиминирует вероятную возможность (и/или возможную вероятность) последнего (индуцирования) вообще, либо открывает какие-то иные эпистемологические перспективы и интеллектуальные горизонты. Поскольку сама гносеология как таковая, наряду с другими основополагающими разделами и сферами философского метанарратива, обладает неотчуждаемыми базовыми смысловыми критериями, атрибутами, предикатами и аспектами. Следовательно, любое исследовательское развертывание просто обязано инкорпорировать в себя не только все вышеуказанные семантические субстраты и конструкции, но и ориентироваться на экспликацию и констатацию каких-то иных апофатических парадигм и катафатических матриц, манифестирующих гетерогенным образом.
И наконец, последнее, безусловно формальная экстериорная и односторонняя герменевтика и интерпретация не только категорий времени и пространства, но и всех остальных разнородных предметов, вещей, феноменов, процессов, структур, симулякров, ризом и т.д., даже несмотря на свою корректность и полноценность, в определенном смысле препятствует эталонному, нонконтрадикторному и полновесному глубинному интериорному и поливариантному познанию последних. Так, кристально ясно, что адекватная и полнообъемная гносеологическая реализация может и/или должна индуцировать всевозможные аподиктические предпосылки для обнаружения и конституирования всех многочисленных эссенциальных и акцидентальных, эндогенных и экзогенных, трансцендентных и имманентных, потенциальных и актуальных, облигаторных и контингентных и т.д. семантических предикатов, компонентов и аспектов присущих тем или иным объектам и явлениям. То есть рациональный актор посредством последней (реализации) просто обязан, в той или иной степени, осуществить экземплярную, системную, последовательную и полномасштабную герменевтику гетерогенных вещей, прооцессов и феноменов. Наряду с этим, ранее уже подчеркивалось, что вечность и бесконечность являются безусловными и абсолютными апофатическими протопричинами, инициирующими саму возможность возникновения длительности и протяженности. Последние, в свою очередь, индуцируют детерминированные условия для генерации и аффирмации антропологическим актором посредством разнородных эпистемологических подходов и инструментов категорий времени и пространства, темпоральности и спатиальности, диахронии и синхронии, соответственно. Следовательно, можно постулировать, что вечность и бесконечность, репрезентируют собой неопосредованные и автономные метафизические антецеденты, конституирующие все остальные вышеперечисленные космологические и гносеологические консеквенты. Другими словами, они (вечность и бесконечность) и является абсолютным семантическим содержанием как длительности и протяженности, так и категориальных модусов темпоральности и спатиальности, времени и пространства, диахронии и синхронии. Таким образом, все смыслообразующие атрибуты, сегменты, компоненты, страты и аспекты, принадлежащие к многоплановой и многоуровневой системе мироустройства, представляют собой лишь обусловленные деривативы и гештальты трансцендентных начал и апофатических инстанций. Конечно, теоретические позиции и метальные представления нигилизма, трансцендентализма, солипсизма, экзистенциализма, постструктурализма, спекулятивного реализма и т.д. будут предельно скептически и критически апперцепировать подобного рода интеллектуальные взгляды. Тем не менее, вполне понятно, что идеалистическое мировоззрение, симультанно включающее в свой эпистемологический ареал не только безусловные гиперметафизические измерения, но и все остальные сегменты, уровни и матрицы свойственные поликомпонентной и поливариантной многослойной структуре мироздания, в отличие от других концептуальных систем и направлений, является наиболее эталонным, непротиворечивым и всеохватывающим метанарративом.
II. Интеллектуализм и сциентика матрицы Модерна
Крупнейший философ И. Кант с присущей ему германской педантичностью, рациональностью, обстоятельностью, строгостью и т.д. осуществил дистинкцию между априорно-трансцендентальной и апостериорно-эмпирико-сенсуальной сферами. При этом сами категории пространства и времени он рассматривал и постулировал не как "объективные" аспекты гилетической реальности, а исключительно лишь как априорные формы чувственного созерцания. То есть он интерпретировал каждую из них (категорий) именно в качестве субъективного (или интерсубъективного) модуса, продуцирующего определенные условия для апперцепции феноменов и ноуменов, принадлежащих к многомерной структуре мироустройства. Кроме того, немецкий мыслитель категорично и безапелляционно утверждал, что время является интериорным модусом априорного сенсуального созерцания, инициируемого рациональным актором, тогда как пространство – экстериорным. Соответственно, его ментальные представления касательно категорий темпоральности и спатиальности, абсолютно противоречили спекулятивным взглядам, доктринам и установкам бэконовско-ньютоновского эмпиризма и материалистического, механицистского и атомистического сциентизма Нового времени. Данное положение дел провоцуирует многих историков философии и интеллектуалов постулировать, что И. Кант индуцировал коперниканскую революцию в сферах гносеологии и онтологии (и/или космологии) Модерна, инкорпорировав последнюю (или последние) в эндогенный ареал первой. Таким образом, можно констатировать, что он (И. Кант) реализовал корректное, системное, методичное, последовательное и исчерпывающее концептуальное развитие картезианских, берклианских и юмовских дискурсивных практик, сконструировав и аффирмировав на его (развития) основании теоретические доктрины и взгляды рафинированного трансцендентализма.
Возвращаясь к инициированной И. Кантом дистинкции между дистиллированным абстрактным рациональным уровнем, включающим в себя, по его мнению, разум (vernunft) и рассудок (verstand), с одной стороны, и рафинированными конкретными сенсуальным и гилетическим измерениями – с другой, необходимо подчеркнуть следующее. Так вполне понятно, что дифференцировав между собой области интеллектуального и чувственно-материального, он осуществил преодоление спекулятивных представлений скептицизма, отрицающих корректность и экземплярность всевозможных гносеологических актов в отношении многоплановой системы мироздания. В частности, он аффирмировал, что сами антитетика и антиномия, принадлежат лишь априорным мыслительным процессам и конструкциям трансцендентального разума (transcendentalen vernunft), тогда как эстетико-гилетическая феноменальная реальность, может апперцепироваться и экзегетироваться рассудочным актором без их непосредственного наличия. Другими словами, согласно германскому мыслителю, если рафинированные ментальные когитации неизбежно и автоматически постулируют равноправные и равновесные между собой концептуальные антитезы, конституируя тем самым поливариантность и неоднозначность каких бы то ни было априорных гносеологических практик, то апостериорное чувственное восприятие материальной действительности всегда и повсеместно оперирует только с односторонними объектами и односмысловыми модусами. Следовательно, по его мнению, эмпирико-сенсуальная перцепция феноменальной гилетической реальности, в отличие от спекулятивного логико-диалектического мыслительного развертывания, абсолютна свободна от антитетики и антиномии.
Безусловно, И. Кант конституировал такие теоретические конструкты, как феномен и ноумен, индуцировав детерминированные предпосылки для возникновения некоторых сложных, неотчуждаемых и непреодолимых аспектов присущих какому-либо гносеологическому исследованию. Он утверждал, что осуществляя разностороннее познание того или иного отдельного уникального явления, рациональный актор способен посредством разнородных трансцендентальных и сенсуальных инструментов верифицировать, идентифицировать и интерпретировать его предельно адекватным и полноценным образом. То есть, по мнению германского мыслителя, сама гносеология какого бы то ни было оригинального феномена реализуется максимально корректно, непротиворечиво, исчерпывающе и полновесно. Тогда как эталонное и всестороннее познание специфического ноумена (dinge-an-sich), репрезентирующего собой интериорную сущностную природу последнего (феномена), является абсолютно утопическим и химерическим актом. Конечно, его коллега выдающийся германский философ Г. Гегель аффирмировал, что корректно, обстоятельно и всеохватывающе сформулированное интеллектуальное "понятие" относительно вещи-в-себе (или ноуменальной матрицы (dinge-an-sich)), позволяет рассудочному субъекту инициировать ее полнообъемную и достоверную гносеологию. Поскольку, согласно его позиции, экземплярные, нонконтрадикторные и полновесные теоретические "концепты", автоматически верифицируют, конституируют и эксплицируют аутентичное эндогенное и экзогенное смысловое содержание дескриптируемых посредством их ("концептов") предметов (и/или объектов). Естественно, необходимо учитывать манифестационную энантиодромичность, парадоксальность и поливалентность как первых, так и последних, а также не следует забывать о таких структуралистских и семиотических конструктах, как означающее, означаемое, знак, синтагма, парадигма, синхрония, диахрония и т.д.. Конечно, деконструкция "онто-тео-телео-фалло-фоно-лого-центризма", представляющая собой базовую постмодернистскую стратегию индуцированную ярчайшим французским мыслителем Ж. Деррида, наряду с основополагающими теоретическими представлениями и эпистемами спекулятивного реализма, акселерационизма, объектно-ориентированной онтологии и т.д., также не должна подвергаться тотальному игнорированию. Хотя, кристально ясно, что само постструктуралистское философское направление и его всевозможные ответвления и пролонгации являются гетерогенными репрезентантами абсолютного и бескомпромиссного ультранигилизма. Тем не менее, возвращаясь к экзистенции оригинального ноумена (dinge-an-sich), следует подчеркнуть, что И. Кант безапелляционным и категорическим образом настаивал на его предельной эпистемологической "трансцендентности" (безусловно, согласно его концептуальным взглядам). Соответственно, с его точки зрения, эксклюзивная вещь-в-себе (и/или вещь сама по себе (ding-an-sich)) является абсолютно непознаваемой специфической инстанцией.
Что касается интеллектуальных интенций и аффирмаций Г. Гегеля относительно гносеологии ноуменального конструкта, то их герменевтика может обладать следующей семантикой. Так, согласно его позиции, сами ментальные концепты не способны индуцироваться без наличия дескриптируемых ими предметов. Последние, в свою очередь, могут существовать без какой-либо манифестации первых. Следовательно, сами объекты, по мнению германского философа, продуцируют детерминированные предпосылки для возникновения всесторонне описывающих их (объектов) теоретических понятий. Безусловно, школа концептуализма – в различных своих изданиях (стоицизм, абеляризм, структурализм и т.д.), помимо всех остальных трансценденталистских направлений (кантианство, неокантианство, отчасти феноменология и т.д.), предельно скептически и критически апперцепирует вышеуказанную гегелевскую точку зрения. Поскольку, согласно ее позиции, лингвистическая матрица способна автономно и независимо от оригинального референта генерировать означающее, означаемое, семиотический модус и т.д.. Другими словами, структуралистский взгляд утверждает, что для возникновения лексемы, концепта, знака и т.д. абсолютно необязательно непосредственное наличие какой-либо субстанции. Таким образом, с его точки зрения, именно суверенная синтаксическая структура, наряду с рациональным мышлением или без его вмешательства, инициирует всевозможные аподиктические предпосылки для продуцирования вышеперечисленных модусов (лексемы, концепта, знака и т.д.). При этом последние не нуждаются в каком бы то ни было наличествовании самостоятельного, самотождественного и самодостаточного референта, находящегося по ту сторону их экзистирования.
Вполне понятно, что Г. Гегель, наряду с течением структурализма (и, шире, концептуализма), декларируя о самом предмете, совершенно не подразумевает под ним автономную чувственную и материальную компоненту. Тем более что ноуменальный модус, по мнению И. Канта, не должен целиком и полностью отождествляться с последней. Так, рассматривая и экзегетируя объект, Г. Гегель, безусловно, предельно категорично и однозначно не утверждает, – так как это осуществляет структуралистский метадискурс, – что означающее, означаемое, знак и т.д. генерируются исключительно лишь лингвистической матрицей в отрыве от последнего (объекта). Но, вместе с тем, он отчетливо осознает, что предмет совсем не обязательно должен манифестировать в качестве конкретного сенсуального и гилетического субстрата. Следовательно, согласно его (Г. Гегеля) позиции, сами лексема, понятие и знак неизбежно и неотчуждаемо обязаны коррелировать с дескриптируемым посредством их самотождественным и самостоятельным референтом, но при этом последний может и репрезентировать, и не репрезентировать собой реальную, а не абстрактную чувственную и материальную субстанцию. То есть, синтаксис, семантика и семиотика всегда должны соотноситься с автономной и специфической субстанцией и, наоборот, последняя неотвратимо отражается в их многослойной и многочастной текстуре. При этом, ранее уже подчеркивалось, что описываемый лексемой, концептом и знаком уникальный референт способен экспозиционировать себя в качестве либо метафизической, либо интеллектуальной, либо сенсуальной, либо гилетической, либо какой-то иной самобытной и самодостаточной структуры.
Итак, важно подчеркнуть, что осуществляя дифференциацию между феноменом и ноуменом, И. Кант тем самым иллюстрирует не только апостериорную чувственную и имманентную природу первого, но и априорную отвлеченную и трансцендентную – второго. То есть он категорично и безапелляционно декларирует о том, что само явление, в отличие от вещи-в-себе (dinge-an-sich), не репрезентирует себя исключительно лишь при помощи сенсуальных и гилетических манифестаций. Тогда как ноуменальная матрица, по его мнению, абсолютно абстрагированна от сфер чувственного и материального. Другими словами, немецкий мыслитель конституирует непреодолимую и неотъемлемую дистинкцию между имманентно-эстетической и трансцендентно-ноэтической парадигмами, никоим образом не допуская какой бы то ни было их контаминации друг с другом. При этом, с его точки зрения, феномен неотъемлемо принадлежит исключительно лишь к первому измерению, тогда ка ноумен – ко второму. А поскольку, согласно его позиции, корректная, непротиворечивая и полновесная гносеология не может реализоваться без инициирования всесторонней апостериорной сенсуальной перцепции, то вещь-в-себе (и/или вещь сама по себе (ding-an-sich)), экзистирующая по ту сторону последней является абсолютно непознаваемой инстанцией. Естественно, кристально ясно, что само явление, имея непосредственное отношение к области чувственной и имманентной эмпирики, представляет собой один-единственный и безальтернативный модус, допускающий собственную адекватную, нонэквивокационную и полноценную герменевтику. Соответственно, именно вышеуказанные сентенции и аффирмации провоцируют, в свою очередь, И. Канта категорично и бескомпромиссно декларировать о эпистемологических фальсификации ноумена и верификации феномена, обладающих бесспорным и аутентичным семантическим содержанием.
Ментальные представления Г. Гегеля, напротив, отталкиваясь от кантовских, фихтевских и отчасти шеллинговских философских взглядов и воззрений, являются их оригинальной и самодостаточной гносеологической модификацией. Так если ничто не препятствует постулировать ноуменальную матрицу в качестве трансцендентного и эссенциального модуса, находящегося за пределами всевозможных границ сенсуальной эмпирики и гилетической реальности, то сама феноменальная компонента, согласно его позиции, также способна манифестировать по ту сторону последних. То есть, по его мнению, само явление, в свою очередь, может не только принадлежать к апостериорному чувственному восприятию и ареалу материальной действительности, но и экзистировать абсолютно независимо от них. Соотвественно, важно подчеркнуть, что если И. Кант конституирует и иллюстрирует неотчуждаемую корреляцию феномена со сферами сенсуального, гилетического и имманентного, то Г. Гегель, напротив, допускает возможность его освобождения от ее (корреляции) непосредственной и/или опосредованной доминации. Другими словами, последний (Г. Гегель) инициирует всестороннюю релятивизацию теоретических положений и взглядов первого (И. Канта) касательно герменевтики самого явления. Хотя, относительно семантического содержания ноумена (и/или вещи-в-себе/вещи самой по себе (dinge-an-sich)) их концептуальные представления являются, в той или иной степени, идентичными конструктами. Таким образом, из вышеизложенного можно констатировать, что Г. Гегель, в том или ином виде, соглашаясь с трансцендентальными воззрениями и идеями своего коллеги и предшественника И. Канта, непосредственно связанными с интерпретированием и дескриптированием ноуменального модуса, в то же время, элиминирует их категоричность, неотъемлемость и безапелляционность, касающиеся герменевтики области феноменального.
Сами постулаты, алгоритмы, принципы и процедуры гегелевского гносеологического подхода как такового не только являются специфическим и самодостаточным интеллектуальным базисом, но и позволяют рациональному актору инициировать предельно корректное, нюансированное, разностороннее и исчерпывающее исследование и экзегетирование тех или иных предметов, вещей, процессов, инстанций, симулякров, структур, парадигм и т.д.. При этом, важно подчеркнуть, что сам Г. Гегель, признавая наличие таких оригинальных концептуальных взглядов и направлений, как скептицизм, трансцендентализм, неоаристотелизм/неотомизм, номинализм/материализм и т.д., а также придерживаясь полновесных и всесторонних неоплатонических воззрений, абсолютно адекватно, взвешенно, обстоятельно, непротиворечиво, последовательно, системно и логоцентрично конструирует и реализует собственные ментальные поливалентные, парадоксальные, многомерные и энантиодромические диалектические экспликации. Так в своих выдающихся программных философских произведениях он посредством последних иллюстрирует максимально эталонный, нонконтрадикторный, скрупулезный и разносторонний "спекулятивный" эпистемологический метадискурс, дескриптирующий гетерогенные предикаты, моменты, состояния и атрибуты рассудочной персоны, социокультурно-темпорально-гилетической реальности и апофатического начала. Кроме того, сама парадоксальная диалектическая методология во всех своих изданиях, преодолевая, но не аннигилируя, строгие однозначные законы и моновариантные операции аристотелевско-лейбницевской формальной логики, абсолютно адекватно, непротиворечиво, детально и разносторонне иллюстрирует экстраординарные и экстравагантные когитативные практики. Последние, в свою очередь, не препятствуют интерпретировать и идентифицировать одну и ту же единую и целостную уникальную интегральную матрицу в качестве не только всеобщности, единичности и оригинальности, но и инстанции в-себе, для-себя, в-себе-и-для-себя и для-другого. Наряду с этим, следует отметить, что осуществив конвергенцию диалектического подхода с идеалистическими/неоплатоническими представлениями, германский мыслитель продемонстрировал максимальные интеллектуальные возможности и предельный когнитивный потенциал гносеологии как таковой. Таким образом, можно констатировать, что именно данный симбиоз между первым и вторыми, с одной стороны, позволяет рациональному актору продуцировать экземплярные, нонконтрадикторные, нюансированные и исчерпывающие поливалентные и парадоксальные герменевтические ментальные когитации, а с другой – аргументированно, содержательно, адекватно и полновесно фундировать, верифицировать и конституировать всевозможные трансцендентные и имманентные измерения многоуровневой и многоплановой структуры мироздания.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе