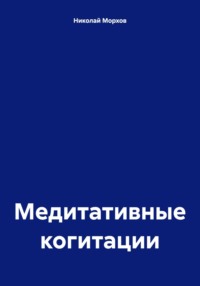Читать книгу: «Медитативные когитации», страница 2
Что касается самих категорий пространства и времени, то осуществляя корректную, непротиворечивую, нюансированную и обстоятельную герменевтику каждой из них, необходимо подчеркнуть следующие немаловажные и фундаментальные семантические аспекты. Так одни интеллектуальные круги и философские школы интерпретируют спатиальность в качестве экстериорного по отношению к антропологическому актору модуса, а темпоральность – интериорного, тогда как другие – напротив, идентифицируют последнюю (темпоральность) именно как экзогенный конструкт. При этом сциентистская теоретическая система аффирмирует, что время и пространство являются исключительно лишь объективными матрицами не только присущими многоуровневой структуре гилетической реальности, но и являющимися ее (структуры) атрибутами и свойствами. Безусловно, теория относительности А. Эйнштейна (и/или А. Пуанкаре), с одной стороны, инициировала интеграцию между спатиальностью и темпоральностью, конституировав на ее основании унитарный и целостный пространственно-временной континуум, а с другой – инкорпорировала в абсолютную и объективную линейную хронологию И. Ньютона релятивную и нелинейную смысловую компоненту. Квантовая механика, в свою очередь, продекларировала о нелокальности и анизотропности космогонической системы. Естественно, данное концептуальное представление релятивизировало ньютоновские ментальные взгляды относительно пространства, являющегося согласно последним локальным и изотропным, соответственно. Кроме того, само объединение спатиальности и темпоральности друг с другом в единую и цельную теоретическую матрицу, спродуцированное посредством эйнштейновских интеллектуальных когитаций, позволило интерпретировать вторую в качестве детерминированного момента первой. Конечно, никто и ничто не препятствуют экзегетики многомерной структуры пространства в виде тех или иных состояний временного модуса. Однако, кристально ясно, что подобного рода концептуальные конструкции противоречили бы базовым спекулятивным принципам и установкам самого А. Эйнштейна, настаивавшего, в сущности, на математизации космическо-хронологической системы в целом. Таким образом, можно констатировать, что галилеевско-лейбницевско-ньютоновско-картезианский теоретический метод эпохи Нового времени, ставивший математический анализ во главе всевозможных ментальных актов и дискурсивных практик, не позволил ему (А. Эйнштейну) осуществить какие-либо иные трансцендентальные процедуры и процессы, находящиеся по ту сторону последнего (метода).
Общеизвестно, что философские нарративы и сциентистские эпистемы западной цивилизации парадигм Модерна и Постмодерна (и/или Ультрапостмодерна), в том или ином виде, представляют собой эксплицитные и/или имплицитные нигилистические гиперконструкты. Естественно, само мировоззрение нигилизма свойственное европейскому социому периода Новейшего времени скрывается за фасадом таких теоретических концептов, как прогрессизм, эгалитаризм, механицизм, индивидуализм, материализм и т.д.. То есть западный интеллектуальный метадискурс и его представители и ретрансляторы симультанно и пытаются, и не пытаются завуалировать дистиллированное абсолютное Das Nichtkeit, репрезентируя его в качестве тех или иных неопозитивистских представлений и позиций. Последние, с его (метадискурса) точки зрения, должны апперцепироваться в виде спекулятивных взглядов, обладающих исключительно лишь конструктивными и филантропическими положительными коннотациями. Наряду с этим, предельно ответственные, адекватные и искренние интеллектуалы и мыслители весьма отчетливо осознают тотальную и рафинированную нигилистичность, максимально всесторонне проступающую сквозь эфемерную и химерическую ткань эпистемологического метанарратива западной цивилизации стадии Нового времени. И поэтому, они посредством тех или иных ментальных и гносеологических инструментов стремятся обнажить и продемонстрировать всем остальным рациональным акторам ее (нигилистичности) фундаментальную и полновесную эссенциальную природу, не вуалируя последнюю под различными либо нейтральными, либо позитивными, либо и теми, и другими, либо какими-то иными терминологическими трюистическими и клишированными текстурами. Соответственно, можно постулировать, что наиболее осознанные и неподдельные западные и не-западные мыслители, независимо от их интеллектуального, аксиологического, этического, эстетического и иного отношения к самому феномену дистиллированного нигилизма, инициируют его (феномена) полноценную и всеохватывающую экспликацию.
Возвращаясь к герменевтике категорий пространства и времени с точки зрения теоретических эпистем и взглядов свойственных парадигмам Модерна и Постмодерна (и/или Гиперпостмодерна), необходимо подчеркнуть следующее. Так если в основании фундаментальных интеллектуальных установок и положений присущих последним лежат базовые концептуальные представления всеохватывающего и бескомпромиссного нигилизма, то не только спатиально-темпоральный (или темпорально-спатиальный) континуум, но и все остальные спекулятивные и иные конструкты будут автоматически интерпретироваться посредством последних (представлений). Другими словами, западные сциентистский, философский и иные метанарративы эпохи Новейшего времени экзегетировали и экзегетируют всевозможные семантические предметы, феномены, процессы и матрицы исключительно лишь при помощи тотальных и радикальных трансцендентальных нигилистических взглядов. Что касается модернистской (и/или постмодернистской) ментальной гиперэпистемы, интерпретирующей категории пространства и времени с точки зрения собственных специфических теоретических представлений, то она (гиперэпистема) репрезентирует их (категории) в качестве поливалентных и парадоксальных парадигм. Так, ранее уже подчеркивалось, что, согласно ее (гиперэпистемы) концептуальной позиции, спатиальная парадигма является локально-нелокальной и изотропно-анизотропной матрицей, тогда как темпоральная – линейно-нелинейной и обратимо-необратимой. При этом конституированный А. Эйнштейном трансцендентальный космическо-хронологический континуум, постулирующий время как момент пространства, а не наоборот, экзегетирующий последнее как многомерное состояние первого, симультанно репрезентируется в качестве и абсолютной, и относительной, и абсолютно-относительной структуры. Соответственно, можно констатировать, что модернистский и/или постмодернистский спекулятивный метадискурс инициирует герменевтику пространственно-временной матрицы при помощи диалектической (или полилектической) методологии. Безусловно, во главе как локальности, изотропности, линейности, обратимости и абсолютности, так и их непосредственных оппозиций, атрибутирующих саму спатиально-темпоральную парадигму, стоят совершенно конкретные интеллектуальные концепции, сгенерированные исключительно лишь ультрасовременным отвлеченным позитивистским гипернарративом западного цивилизационно-хронологического ареала. Последний (гипернарратив) также продуцирует такие сциентистские ментальные конструкции, как "теория суперструн", "м-теория", "петлевая квантовая гравитация" (и/или "квантовая петлевая гравитация") и т.д..
После вышеизложенных замечаний возникает корректный вопрос: а какова на самом деле (и/или что именно представляет собой) аутентичная эссенциальная природа категорий пространства и времени? И другой вопросительный тезис: каким именно образом каждая из них (категорий) экспозиционирует себя рациональному актору? Вполне понятно, что рассудочный субъект, осуществляя гносеологию и герменевтику тех или иных феноменов, вещей, процессов, матриц, предметов и т.д., должен базироваться, с одной стороны, на чувственных воприятиях и физических экспериментах, а с другой – на интеллектуальных когитациях и фиксациях, и с третьей – на пневматических и иных интуициях. Так исследуя и интерпретируя те или иные трансцендентные и имманентные конструкты, он не может не учитывать каждый из вышеперечисленных семантических компонентов, продуцирующих детерминированные предпосылки для адекватной, разносторонней, последовательной, нюансированной и системной эпистемологической реализации. При этом, кристально ясно, что вся приобретенная посредством сенсуальных перцепций, гетерогенных экспериментов, спекулятивных когитаций, ментальных схватываний, эзотерических инсайтов и иных разнородных инструментов антропологическим актором информация о том или ином оригинальном объекте просто обязана подвергнуться корректной и полновесной экзегетике, подразумевающей под собой эталонную, непротиворечивую и исчерпывающую классификацию, типологизацию, концептуализацию, дизъюнкционализацию, конъюнкционализацию и т.д. многоуровневых и полисегментных самобытных пластов последней (информации). Кроме того, ее (информации) аналитическая дифференциация и синтетическая интеграция должны находится в корректной и поливариантной корреляции друг с другом. То есть каждая из них будет представлять собой специфический теоретический взгляд, являющейся, в свою очередь, репрезентантом одной и той же унитарной и холистичной уникальной универсальной эпистемологической гиперсистемы. Соответственно, можно постулировать, что все вышеуказанные смыслообразующие атрибуты и аспекты, а также какие-либо иные многочисленные и всевозможные методы и инструменты теории (и практики) познания принадлежат к единой и целостной гносеологической метаматрице.
Кристально ясно, что герменевтика категорий пространства и времени может носить субъективный и/или объективный, интериорный и/или экстериорный, имманентный и/или трансцендентный, абсолютный и/или относительный, сакральный и/или секулярный, апофатический и/или катафатический и т.д. характер. При этом необходимо подчеркнуть, что не только последнии (категории), но и бесконечное число других семантических и/или нонсенсуальных вещей, процессов, феноменов, парадигм, компонентов, знаков и т.д. не могут продвергаться корректной, нюансированной и разносторонней апперцепции и интерпретации без неотчуждаемого наличествования исследующего их рационального актора. Так, вполне понятно, что именно манифестирование последнего, а также присущие ему гетерогенные пневматические, интеллектуальные, психосоматические, фелитические, аксиологические, этические, эстетические и иные предикаты, атрибуты и качества являются доминантными и первостепенными аподиктическими предпосылками для возникновения адекватной, скрупулезной, непротиворечивой последовательной, системной, методичной и исчерпывающей гносеологии. При этом именно последняя представляет собой полноценную смыслообразующую сферу и/или матрицу, позволяющую познающему рассудочному субъекту корректно, логоцентрично и всесторонне обнаружить, зафиксировать, конституировать, экзегетировать и дескриптировать познаваемый им тот или иной трансцендентный и/или имманентный объект. Соответственно, адекватное, нонконтрадикторное и полновесное осмысление и описание гетерогенных феноменов, вещей, симулякров, элементов, структур, ризом и т.д., инициируется первым (субъектом) посредством эпистемологического развертывания. Кроме того, сам гносеологический акт, инкорпорирующий в свой эндогенный ареал исследующего рационального актора и исследуемого им того или иного предмета, события и явления, а также, одновременно с этим, выступающий в виде детерминированной уникальной и специфической медиальной структуры и/или области, располагающейся между первым и последним, представляет собой многомерную и многоуровневую реализацию, характеризующуюся посредством всевозможных самых разнообразных смыслообразующих модусов и аспектов.
Вполне понятно, что сама эпистемологическая и герменевтическая реализация, осуществляемая рассудочной персоной и обладающая гетерогенными функциональными атрибутами и свойствами, безусловно, является базовой процедурой, предназначенной для осмысления и интерпретирования ей (персоной) того или иного уникального феномена, процесса, знака, симулякра, ноумена и т.д.. Ранее уже подчеркивалось, что она (реализация) должна спродуцировать или продуцирует всевозможные аподиктические предпосылки, позволяющие апперцепирующему рациональному субъекту корректно, непротиворечиво и полновесно экзегетировать и дескриптировать эндогенные и экзогенные, трансцендентные и имманентные, эссенциальные и акцидентальные и иные семантические параметры и предикаты апперцепируемого им того или иного специфического объекта. Однако, важно понимать, что различные философские школы и интеллектуальные направления ретранслируют свои оригинальные теоретические взгляды и позиции, препятствующие им достигнуть детерминированного и однозначного неотчуждаемого консенсуса друг с другом относительно одних и тех же вопросов и проблематик. То есть, кристально ясно, что каждый из тех или иных ментальных метадискурсов будет конституировать собственные самобытные и автономные конвенциональные гносеологические акты, имеющие свои уникальные спекулятивные суждения, выводы и заключения и признаваемые исключительно лишь им в качестве аутентичных и бесспорных смысловых конструктов. Данное обстоятельство, в свою очередь, индуцуирует определенные предпосылки для возникновения лишь интерсубъективных теоретических представлений касательно одних и тех же трансцендентных и/или имманентных предметов, событий и явлений. При этом каждое из них (представлений), ретранслируя собственные уникальные и обособленные воззрения относительно последних (предметов…), будет предельно критически и скептически рассматривать и оценивать все остальные одновременно сосуществующие с ним оригинальные и суверенные концептуальные взгляды. Следовательно, вышеобозначенная семантическая ситуация, экспозиционирующая определенное число коэкзистирующих друг с другом независимых и специфических интеллектуальных интерсубъективных метанарративов, инициирующих между собой бескомпромиссные и непримиримые полемические развертывания, указывает на наличествующую детерминированную труднопреодолимую проблематичность и сложность самой гносеологической реализации как таковой. Естественно, релятивизировать и даже элиминировать данную проблематику можно либо количественным, либо качественным, либо количественно-качественным, либо каким-то иным концептуальным способом и решением.
Несмотря на всевозможные вышеуказанные и иные существующие гносеологические сложности и нюансы, препятствующие, в той или иной степени, постулировать корректные, непротиворечивые и исчерпывающие интеллектуальные сентенции и аффирмации касательно тех или иных феноменов, процессов и предметов, тем не менее следует попытаться максимально приблизиться к герменевтике и дескрипции семантики категорий пространства и времени. Так необходимо рассмотреть и описать (естественно, насколько данная телеологическая реализация вообще возможна) не только каким образом последние (категории) репрезентируют себя рациональному актору и не только как он их при этом осмысляет и интерпретирует, но и какое именно смысловое ядро позволяет им экзистировать в качестве оригинальных, автономных и самотождественных матриц. То есть следует предельно экземплярно, нонконтрадикторно, недвусмысленно и полновесно инициировать фиксацию, экзегетику и иллюстрацию темпоральности и спатиальности как таковых, конституирующих, в свою очередь, время и пространство, соответственно. Другими словами, кристально ясно, что временность и пространственность представляют собой фундаментальные семантические аспекты, продуцирующие детерминированные предпосылки для вероятной возможности (и/или возможной вероятности) возникновения категориальных модусов времени и пространства. Следовательно, осуществляя гносеологию и интерпретацию последних (модусов), рассудочный субъект должен обнаружить, зафиксировать и эксплицировать темпоральность времени и спатиальность пространства. При этом, важно подчеркнуть, что ментальному исследователю необходимо осуществлять безошибочную и полноценную как дифференциацию, так и интеграцию между временем и пространством, являющимися уникальными и самотождественными категориями, с одной стороны, и индуцирующими их временностью и пространственностью – с другой. Поскольку, вполне понятно, что без инициирования экземплярной и полновесной дизъюнкции между первыми и вторыми, а также без эталонного и всестороннего фиксирования и постулирования их конъюнкции друг с другом, абсолютно невозможно – в той или иной степени -приблизиться к корректной, разносторонней, многомерной, системной, последовательной, методичной, логоцентричной и исчерпывающей эпистемологической концептуализации категориальных структур χρόνος'а и κόσμος'а.
Вульгарная и ординарная апперцепция и интерпретация категорий времени и пространства обладает следующими смысловыми текстурами. Так, ранее уже подчеркивалось, что данная теоретическая позиция рассматривает и постулирует каждую из них в качестве либо объективной, экстериорной и апостериорной автономной астрономической матрицы, либо субъективной, интериорной и априорной ментальной категориальной компонентны, продуцирующей определенные условия для осуществления рациональным актором экземплярного, нонконтрадикторного и полноценного гносеологического развертывания, либо какой-то иной оригинальной парадигмы. Первая точка зрения свойственна базовым спекулятивным представлениям безапелляционного материализма и атомистического секулярного европейского сциентизма Нового времени, а вторая – философским взглядам трансцендентализма (кантианства, неокантианства, феноменологии Э. Гуссерля и т.д.) и солипсизма, и третья – концептуальным конструктам каких-либо иных интеллектуальных направлений, занимающих, как правило, промежуточные между ними (первой и второй) позиции. Кроме того, доктрины классического идеализма (и/или неоплатонизма), а также ортодоксальные положения гетерогенных традиционных сакральных учений неоплатонического (и/или идеалистического) толка, конституируют время в виде гештальта и дериватива абсолютной вечности, а пространство – в виде качественной бесконечности. То есть, кристально ясно, что неотъемлемые и бесспорные мировоззренческие представления последних, экзегетируют и дескриптируют наличествующие неопровержимые и неотчуждаемые многоуровневую вертикальную и поливалентную горизонтальную структуры. При этом верхние измерения первой принадлежат к инвариантным метафизическим парадигмам, тогда как нижние – к трансформирующимся гилетическим сегментам. Вторая, в свою очередь, должна рассматриваться в качестве детерминированного круга, экспозиционирующего собственный центр как неизменный апофатический, а периферию как модифицирующийся катафатический модус. Таким образом, вполне понятно, что всевозможные многочисленные тривиальные и обыденные теоретические взгляды присущие полновесному материализму, неопозитивизму, ультрарационализму, солипсизму, постмодернизму и т.д., касающиеся не только категорий пространства и времени, но и каких-либо иных предметов, вещей, феноменов, процессов, структур, знаков и т.д., являются непосредственными и/или опосредованными оппозициями эпистемологическому метанарративу ортодоксального идеализма (и/или неоплатонизма) и гомогенным ему мировоззренческим гипердискурсам.
Не менее некорректной и нонэкземплярной является герменевтика и интерпретация категориальных модусов χρόνος'а и κόσμος'а, связанная с осмыслением какого-то одного из них посредством другого. Так, ранее уже подчеркивалось, что некоторые сциентистские и интеллектуальные дискурсивные экспозиции присущие парадигмам Модерна и Постмодерна (и/или Ультрапостмодерна), преследуя собственные эпистемологические интересы, цели, задачи и т.д., приписывали и/или приписывают времени характеристики и свойства пространства, и/или наоборот. То есть, ультрасовременные теоретические нарративы как атомистического позитивизма, так и иных концептуальных направлений, по тем или иным соображениям, инициировали и/или инициируют спатиализацию χρόνος'а и/или темпорализацию κόσμος'а. Так рассмотрение ими (нарративами) категории времени в качестве одного из моментов-измерений категории пространства, и/или наоборот, осмысление ими последней в качестве одного из состояний-измерений первой, являются, в свою очередь, их (нарративов) абсолютно органичными, естественными и неотъемлемым ментальными практиками и реализациями. Кроме того, сама гносеологическая ситуация тотального, всестороннего и бескомпромиссного материализма и нигилизма свойственная эпохам Модерна и Постмодерна западной цивилизации индуцирует детерминированные предпосылки для полновесной релятивизации и даже элиминации семантики категориальных матриц спатиальности и темпоральности. Другими словами, в ее (ситуации) контекстуальной системе координат последние (матрицы) подвергаются всеохватывающей и полноценной деконструкции и нонсенсуализации. Более того, радикальные и безапелляционные ультрапостмодернистские философские и спекулятивные метадискурсы различного толка и направления осуществляют всеобъемлющую и полнообъемную деструкцию и десемантизацию не только категорий времени и пространства, но и всех остальных трансцендентных и имманентных смыслообразующих структур, процессов и инстанций.
Итак, кристально ясно, что не только категориальные матрицы спатиальности и темпоральности, но и все остальные гетерогенные вещи, феномены, предметы, начала и парадигмы апперцепируются и интерпретируются антропологическим актором. Отсутствие последнего (актора), в свою очередь, мгновенно и автоматически инициирует детерминированные предпосылки для релятивизации и элиминации как провоцируемого им (актором) гносеологического развертывания, так и онтологического, космологического, семиотического, лингвистического (фонетического и/или текстуального), семантического и иных содержаний, экспозиционирующих апофатическое и катафатическое, эссенциальное и акцидентальное, интериорное и экстериорное, облигаторное и контингентное и т.д. измерения вышеперечисленных уникальных и самотождественных структур. То есть, вполне понятно, что, с одной стороны, те или иные воспринимаемые явления, процессы и матрицы репрезентируют себя воспринимающему их рациональному исследователю, а с другой – последний, осуществляя их корректную, непротиворечивую и полновесную герменевтику и дескрипцию, эксплицирует их многоуровневую, поливалентную и полифункциональную смысловую природу. Другими словами, сами корреляции между апперцепирующим рассудочным субъектом и апперцепируемым им тем или иным специфическим объектом, являются абсолютно фундаментальными и неотчуждаемыми реализациями, индуцирующими определенные условия для актуализации и легитимизации многопланового, многомерного и полноценного семантического содержания каждого из них. Поскольку, без наличествования апперцепируемой инстанции апперцепирующая ее персона не сможет экспозиционировать себя в качестве полнообъемного эталонного и подлинного ментального реципиента и интерпретатора. А отсутствие последней (персоны), в свою очередь, не позволит первой (инстанции) предельно адекватно и полновесно проиллюстрировать собственное манифестационное присутствие. Таким образом, можно констатировать, что и воспринимающий и экзегетирующий рациональный актор, и воспринимаемая и экзегетируемая им та или иная оригинальная матрица, и сами взаимосвязи между ними продуцируют беспрецедентную неотчуждаемую и аподиктическую основополагающую смыслообразующую ситуацию. Последняя, в свою очередь, не препятствует каждому из этих трех вышеобозначенных модусов фундировать и конституировать собственное полноценное экзистирование посредством симультанно сосуществующих с ним двух других легитимных и релевантных семантических компонентов.
Антропологический актор, обладающий психосоматической матрицей, самосознанием, рациональным мышлением и пневматическим измерением, естественно, не может не обнаруживать, не фиксировать и не аффирмировать определенные информационные смысловые аспекты связанные не только с категориями времени (tempus) и пространства (spatium), но и с протяженностью (extensum) и длительностью (duratio) как таковыми. Так, кристально ясно, что его (актор) многомерная и интегральная специфическая структура на гетерогенных уровнях неотчуждаемо и неопровержимо регистрирует и конституирует каждую из двух последних. При этом само обнаружение и фиксирование протяженности и/или длительности способно продуцироваться им (актором) без непосредственного и/или опосредованного использования инструментов чувственного восприятия. Кроме того, не только он (актор) один, но и гетерогенные представители витального (и/или биологического) ареала (животные, растения и т.д.) могут в том или ином виде регистрировать вышеобозначенные семантические модусы. Вместе с тем, важно понимать, что между длительностью и протяженностью, с одной стороны, и категориями темпоральности и спатиальности – с другой, имеются существенные отличительные свойства, черты и предикаты. Так первые представляют собой не только ментальные дефиниции, и не только экзогенные космологические (и/или космогонические) модусы, но и эндогенные пневмо-ноо-психосоматические регистрации и апперцепции, тогда как вторые – исключительно лишь интеллектуальные концепты, с одной стороны, проецируемые рассудочным актором на структуру гилетической реальности, а с другой, – в той или иной степени, – коррелирующие и соотносящиеся с последней (структурой). Соответственно, из вышеизложенного можно констатировать, что длительность (duratio) и протяженность (extensum), в отличие от категорий времени (tempus) и пространства (spatium), обнаруживаются, схватываются и постулируются не только интериорной многоуровневой и поливалентной интегральной структурой антропологического субъекта, но и интериорной матрицей иных различных уникальных зоо-био-психо-соматических инстанций. Безусловно, следует подчеркнуть, что такие философские школы и направления парадигм Модерна и Постмодерна, как рационализм, эмпиризм, субстанционализм Б. Спинозы, трансцендентализм И. Канта, интуитивизм А. Бергсона, феноменология Э. Гуссерля, экзистенциализм, постструктурализм, спекулятивный реализм, объектно-ориентированная онтология и т.д., в том или ином виде, осуществляли и осуществляют герменевтику и дескрипцию как первых, так и вторых вышеперечисленных модусов. И тем не менее, их (…направлений) интуиции, интерпретации и когитации связанные с гносеологией как длительности и протяженности, так и категорий χρόνος'а и κόσμος'а носили и носят хотя и весьма корректный и даже эталонный, но при этом предельно моновариантный, одномерный и моноракурсный секуляризированный и нигилистический характер.
Спатиальность и темпоральность самих категориальных конструктов пространства и времени, в свою очередь, интерпретируются и конституируются рассудочным актором следующим образом. Последний (актор), обнаруживая и фиксируя посредством собственной многоуровневой пневмо-ноо-психосоматической структуры длительность и протяженность, способен беспрепятственно, корректно и полновесно инициировать определенные ментальные операции. Так неотчуждаемая и неопровержимая верификация наличествования последних (длительности и протяженности), позволяет ему (актору) осуществить эталонное и всестороннее интеллектуальное схватывание каждой из них. Оно (схватывание), в свою очередь, продуцирует детерминированные предпосылки для постулирования им (актором) семантических модусов темпоральности и спатиальности, и лежащих в основании категорий времени и пространства, соответственно. Другими словами, длительность (duratio) и протяженность (extensum), регистрируемые и апперцепируемые антропологическим субъектом трансформируются им при помощи ментальной фиксации в спекулятивные конструкты временности и пространственности. Следовательно, можно констатировать, что сама процедура интеллектуального схватывания, осуществляемая им (субъектом) предельно экземплярным и полноценным образом, и модифицирует первые в последние (конструкты). Кроме того, рациональный актор отчетливо и неотчуждаемо осознает, что метаморфизированные им при помощи операции ментальной фиксации длительность и протяженность в трансцендентальные гештальты темпоральности и спатиальности, стоящие во главе категорий времени и пространства, соответственно, являются непосредственными деривативами и консеквентами метафизических парадигм вечности и бесконечности. Безусловно, последние (парадигмы) в отличие от всех остальных вышеперечисленных категориальных и спекулятивных конструктов обладают эссенциальным, аподиктическим и апофатическим смысловым содержанием.
Если спатиальность и темпоральность, лежащие в основании категорий пространства и времени, соответственно, возникают посредством интеллектуального схватывания, то последние (категории) постулируются при помощи гетерогенных трансцендентальных процессов и актов, генерируемых специфическими структурами рационального мышления. Так осуществляя интеллектуальную фиксацию первых, антропологический актор отчетливо корректно и неопровержимо осознает неотчуждаемое и бесспорное наличествование у него глубинного и неотъемлемого гносеологического базиса, не препятствующего ему сконструировать, интерпретировать и постулировать вторые (категории). Безусловно, именно оригинальные матрицы и компоненты присущие так называемому трезвому, бодрствующему, вменяемому, здравомыслящему, адекватному и т.д. рассудку, продуцирующему эталонные, непротиворечивые, последовательные, системные, методичные, логоцентричные и исчерпывающие когитативные развертывания, способны корректно экзегетировать и конституировать категориальные модусы времени и пространства. Вполне понятно, что сама герменевтика и аффирмация последних (модусов) может носить разнородный характер. Так категория времени способна интерпретироваться и постулироваться интеллектуальным мышлением в виде вертикальной, горизонтальной, циркулярной, циклической, линейной и т.д. оригинальной матрицы, обладющей – как это уже иллюстрировалось ранее – различными семантическими свойствами и параметрами. При этом, наряду с вышеперечисленными односторонними и моновариантными темпоральными теоретическими конструкциями, также симультанно могут наличествовать гетерогенные полиракурсные и полиморфные структуры, возникающие при помощи всесторонней гибридизации и конвергенции последних (конструкций) друг с другом. Категория пространства, в свою очередь, может иметь то или иное количество гетерогенных полимодальных и поливалентных измерений и сегментов. Кроме того, ранее уже подчеркивалось, что интеграция между собой категориальных концептов спатиальности и темпоральности, инициированная западным сциентистским метадискурсом парадигм Модерна и Постмодерна, также может рассматриваться и осмысляться в качестве их (концептов) детерминированной экстраординарной и экстравагантной оригинальной экзегетики. Соответственно, можно констатировать, что интерпретационная вариативность и гетерогенность категорий времени и пространства способна носить бесконечно множественный характер.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе