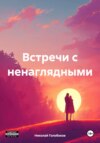Читать книгу: «Сказания о недосказанном. Том II», страница 6
Ласточки
В электричке ехали цыгане.
Целый час они шматовали колбасу, батон, руками, зубами. Чавкали, долго пили воду прямо из бутылки. Потом зубами отгрызли корку от мандарина, и… пошёл дух – аромат юга, по всему вагону. Громко разговаривали, смеялись. Мать одёргивала их, то на своём, то на русском наречии. Они замолкали. Потом девчёнка, с ямочками на щеках, сверкая перламутром белых зубов, снова хохотала, заразительно и весело.
Она знала, что ею любуются, говорила что-то своей подружке – сестричке и, снова смеялась, беззаботно, так как могут смеяться только счастливые дети.
Взяла корочку от мандаринки. Тонкими, длинными, музыкальными пальцами, согнула её – выступила маслянистая душистая жидкость и стала неумело натирать ею щёки.
Тут уж смеялись и улыбались все, кто был рядом и мог видеть.
Снова появились ямочки на щеках, сверкнули лукавые, чёрные, огромные глаза – ресницы веером.
– Вот, думает мандаринка красивая, и она будет такая, как мандаринка, вот и трёт, дурочка – выпалила её подружка, а может и сестричка.
– У тебя зеркало есть?
– Есть. Дома.
– Вот приедешь, посмотри какое у тебя лицо.
– Что плохое, да?
– Нет, хорошее.
– А вы видите, вот около носа – веснушки?
– Где?
– Вот около носа, их хорошо видно.
– Ты знаешь, мой отец сибиряк, русский. Так вот у него в молодости были веснушки. Они ведь появляются только весной, а осенью исчезают, как птицы – ласточки. Они в дальние тёплые страны улетают.
Так вот, моя мама рассказывала, что любила отца и за эти веснушки – ластовочки, мама так их называла…
– У тебя, когда они появляются? Весной?
– Нет, это конопушки.
– Это ласточки и они тебе ничуть не мешают. Даже наоборот.
– Даа…
– Она взяла платок и начала тереть лицо. То ли хотела стереть сок, а может отполировать свои конопушки, что бы они сверкали ещё радостнее, таинственнее, в лучах весеннего солнца.
Свершалось великое таинство природы …
Девочка
Превращалась.
Воплотилась в девушку.
… А дома, в деревушке, где они жили, свершилось ещё одно чудо природы.
– Преображение.
Уже летала, порхала в цветущем саду бывшая…куколка, – гусеница, – бабочка.
… Она сияла перламутром крылышек, таким же таинственными, сверкающими, как конопушки – ласточки на лице этой красавицы.
Сияла, как сказочная колибри, разнося свет, сияние радости и любви всему живому на Земле.
Вижу
Его строили как дворец. Старались сделать санаторий.
Получилась усыпальница, для доживающих свой век.
Сами жильцы этого обиталища, считали, что это дом инвалидов, дом для инвалидов, – и, для превращения в инвалидов.
Сначала пытались восстанавливать здоровье бывшим военным, оставившим где-то там, далеко от своего дома и страны, самое дорогое: здоровье, молодость, веру. После горячих, очень горячих точек – безрукие, безногие, слепые. Они никому теперь не нужны. Им, здесь было трудно. Очень трудно. Все почти одинаково выброшенные из жизни. Обречённые на неизвестность и муки.
Обслуги: врачам, нянечкам, просто рабочим было трудно.
Потихонечку, незаметно, их развезли, по другим городам и подобным заведениям.
Потом этот дом – неудавшийся санаторий, долго перестраивали для спортсменов.
Фабрика здоровья не получилась. Комиссия не утвердила. Не вышло. Место гиблое.
Им, пожилым уже всё равно, где они…и не видят, что за оградой, каменным забором, гора, чуть дальше скалы, слева, горная бурная речка, огромная поляна, на которой построили этот огромный дом – дворец. Их не радовали ровные дорожки, цветники, красивый мостик через горную речку.
А жизни нет – старики и старушки болели – к этому уже все привыкли. Но, когда начали болеть все сотрудники, – задумались. А военные врачи эксперты – поняли: вот он санаторий – крематорий, медленного, верного действия, без дыма и огня. Но фабрика нездоровья уже работала.
… Там, работал художник, настенная роспись, вестибюля. Хоть как то сделать тепло пришлым, они ещё ждут и надеются…
Однажды к художнику приехали его друзья – коллеги – хотели посмотреть работу, которая уже почти была закончена, осталось, совсем немного завершить скалы и речку, сделать ярче, выразительнее.
Но как только перешли мостик, – занервничали, замахали странно руками, и чуть не развернули свои стопы, обратно.
Они знали толк в биоэнергетике, достали рамки, потёрли, зарядили ладони, и, и, признали, приговорили – диагноз…– патогенная зона. Дребезжит всё, упреждает, – здесь долго находиться нельзя.
Нехотя пошли, посмотрели внутри здания. Всё подтвердилось и повторилось – отрицательная энергия – всё буквально дымит…
Роспись, признали хорошей и быстро ушли. Поселились на даче Союза художников, недалеко от этого места, занялись своим любимым, – рисовали, писали этюды.
И, всегда, при удобном случае, как только можно было, расспрашивали у стариков, этой деревушки. Проникали в то, что и как здесь было в те далёкие, и не совсем далёкие времена.
Ясно стало через несколько дней.
Да. Место это страшное.
Там был овраг.
За зданием, скала. Там был тир.
Страшный тир…
Приводили и привозили машинами, во время войны пленных, гражданских, ставили на краю оврага, а там стена – скала, и расстреливали. Когда овраг заполнили телами, заровняли, затрамбовали танками, бульдозерами…
Наши, когда пришли, землёй засыпали, этот страшный овраг. Отметку, даже крест не поставили…
… Заросло.
Травой.
Кустарником.
Забытьём…
Строители недолго думали, а, может, и совсем не хотели шевелить мозгами, шевелили и терзали останки… – рыли котлован, грунт в машины и на свалку, в другой овраг. Вон таам, за деревней, там и кости и черепа. Никому не было дела.
Вот тебе и патогенная зона.
Одно крыло так и пустует, народу всегда там мало. Никто не желает находиться, даже постояльцы. Ночью в пустом, опечатанном крыле, шаги часто слышны и стоны. Туда видавшие виды нянечки, по одному не ходят, всегда с кем – ни будь и только днём.
… Художник за последнее десятилетие трудился, и в санаториях, и в турбазах, керамическом заводе,– насмотрелся. Наелся всего, но такого, как здесь…было впервые. Он, когда жил в России, работал, сотрудничал в областной газете, и потому, когда к нему в вестибюль, стали приходить и беседовать хозяева он уже не смог слушать просто так, стал записывать, но так, чтобы не видели. А постояльцы всегда приходили, беседовали между собой часто и его принимали как слушателя и собеседника.
Все, жившие пока, и обслуга болезненно воспринимали его записи. Приходилось это делать незаметно.
И вот дословно эти беседы.
Радости, воспоминания, исповеди и надежды.
*
… – Я не могу слушать и слышать о нём. Да, это Жора, что – то с руками. Говорят, был вор. А руки кто – то ему повредил, ладоней нет – заработал. Ух, и вредный. Утро, как только шесть часов, он в мусорном ящике роется. Что там искать, а он ищет. Ещё темно, а он уже там. Что нужно, нас ведь тут кормят. Он ещё и пенсию получает. Вот такой этот Жора.
– А ту бабусю уже похоронили, в два часа ночи уже умерла. Сегодня же и похоронили. А что её держать,– не дома живём. Нас всех туда скоро отвезут. А что ждать. Что с нас толку? Сказали бы, иди сейчас, я бы пошла. Хай закопают. Небо только коптим, да и всё тут. Опустились. Фу ты. Я бы таких, нытиков живьём закапывала, что бы не коптили небо. Вон, учительница, интеллигентка, еле ходит, а зубы три раза полоскает, чистит. Аккуратная, а еле ходит. Вот такие пусть живут. Она на прогулку ходит и в мороз, и в дождь. Пусть живут такие.
– Крикуха, еле ходит с двумя палками, в столовой ставит их к стулу, и, пошла в кухню. Сама себе и добавку приносит. Пообедала, сидит в фойе. А то ещё якась баба достала в буфете сала. Засолила его. Да, сало, восемьсот рублей за кило, ну и что, что ей мало?
– А я бы поела сала. Помолчала. Да я бы поела сало с часнычком. Помолчала. Я бы поела сало. Поела бы…
– Да. Помолчала минут десять потом сама себе, на всё фойе. Нужна эта картина на всю стену. Сколько грош. Да. Сколько грош зря.
– Так это же вас воспитывать, хорошее в душе, надо это не надо…
А что же вы не спите на соломе?
– Простыни вам подавай, телевидение, кино.
– Это воспитывает, да, воспитывает, а картина неее.
– Вот забирают бабулю с парализованной речью. Воет, всхлипывает, не хочет домой, что – то пытается выговорить, волнуется, не может и слово сказать. Лай собачий какой то.
– Подруженьки мои, только и поняли няньки. Не плачьте, дома среди родных вам лучше будет.
– Нее. Там есть нечего. Переводит её речь нянька. А вы ещё ругаетесь, плохо вас кормят. А вам и масло перепадает и мясо, и куры и рыба, и пончики с фаршем.
… – Вот! Вот разбирает деда. Бабулю только вынесли, а он поёт. Он же глухой, поёт по памяти, а то и не сообразит, что орёт на три этажа. Со второго холла слышно, его…
– Ой ты Галю, Галя молодая… Потом подхватил женский голос звучно, по делу. Тянул моложавый голос. И, мороз мороз, и ещё украинские на два голоса песни. А крикуха…только вынесли из палаты ещё лежит в холодильнике, а он орёт, а он поёт. Да дурак, фу ты. А она ещё в холодильнике.
– А ты чего без перчаток? Холодно. Есть одна, только я и грею то одну ручку, то другую.
– А у меня две, хочешь дам погреться, а я одну, потом другую. Не надо я привыкла.
Бабка стучит палкой. Прибыла с Украины. Ой, як по душе шкрябае. Ой, дывы теперь шкрябае, то стучала, а теперь шкрябае, як по нервам. Дуура старая, нашла тык в полу и, тук тук, дзинь дзинь, два раза. Ось ще краще дура, что то новое. Дзинь тук, шкряб. И так бесконечно шкрябае. Завтрак, може не прийдёт в фате. Так скажить цей дури, шо ей кажуть, вона глуха.
… Его поступь не спутаешь: сначала, топ, потом дзинь, шаркающее. И снова топ, топ, дзинь. Подходит ближе. Всё просто. Ботинок долбит подковой, чтоб дольше служил каблук, подковка оторвалась, держится на одном гвозде, когда он подтягивает парализованную ногу, она и звенит колокольчиком.
– Ну что, малюем?!!
– Да. Вот скоро закончу, поеду домой.
– Молодец. Хорошо. Нравится всем, только очень бледно. Почему?
– А ты смотри в окно.
– Посмотри, какие окна большие. Видишь?
– Ну и что?
– Смотри, красота, какая. Видишь, какие горы, лес, скалы. Красиво?
– Можешь лучше природы сделать роспись настенную?
– Нет. Я и не стараюсь. Нельзя соперничать с природой, а тем более спорить…
– Она лучше. И меняется – утро, вечер, зима, весна, лето. А у меня одна пора.
– Вот и не яркое, чтоб не надоело, смотреть на неё. Смотри в окно, а теперь на стенку.
Он повернул лицо ко мне. Один глаз пустой, и… одна, только глазница, второй глаз – сросшиеся вертикально – ресницы, и зрачёк еле-еле виден.
Подошёл ко мне поближе, посмотрел на меня вертикальными ресницами, постоял.
– Тебя как зовут?
– Николай.
– А меня Жора. И снова по цементному полу… – дзинь, дзинь, топ шлёп, стук, и шарканье. Дзинь, шлёп, стук…
… Шаги, шаги, но уже тихие, вкрадчивые, виноватые. Такое бывает.
– Медленно рисуешь. Это хорошо!
– Я слышал, ты скоро уедешь, домой, …а мы, вот. Здесь ночь, день, ночь. Нет праздников, нового года, майских, день – ночь. День, нет, ночь, ночь, ночь…
– Ты вот хорошо стенку покрасил, такая картина, жаль, раму золотую надо, лучше будет.
– Я сюда хожу каждый день, когда нет никого, как к сыну…
– Сын тоже хотел художником стать…
– Я был против. Запретил.
– Долго и давно это было.– Он потом сказал…
– Казнил меня.
– Отец, зачем ты закрыл мне глаза?!
– И он стал пить. Утром бутылку. Вечером бутылку, да и днём тоже… Я его ругал. Сильно ругал.
– А он…
– Будешь ругать, нажму кнопку…и, всё взорву…
… Он работал электриком. Смог бы и такое вытворить… Пил, много пил. Так и умер от водки. Сгорел, как говорили соседи про таких.
– Хотел стать художником.
– Я теперь прихожу, смотрю на тебя, разговариваю, не с тобой…
– С ним разговариваю. Плачу…
– Слепну…
– Наверное, от слёз.
– Бог наказал, слепотой. За сына.
– Слепну.
– Это страшно.
– Безысходно.
– Чернота.
– Тёмная. Неет, чёрная ночь в душе и наяву.
– Явь.
– Её нет.
– Свет, которого теперь уже нет и не будет.
* *
… Она, сидела одна.
Бодрая, весёлая.
Потом.
Громким, сочным, молодым голосом запела:
– Ой, никуда не поедууу,
Ой, никуда не пойдуу,
И родного уголочка
Никогда не найду.
*
А потом снова.
Ой, никто не приедить,
Ой, никто не прийдёть,
Лишь один соловейко,
На могилке споёть…
– Ну что же, вы? Чего не поёте. Давайте, девки? Что это молчите?!
– Да, уж очень весёлую ты затянула песню.
– Здесь летом такая жара, что и воробьи сидят и не чирикают. Это Крым. Соловьи уходят туда, в каньон.
Ну а ты чего не поёшь?!
– Да она уже и говорить не умеет, а ты ей петь.
– А вон та, видишь? Пень – пнём, тоже молчит, молчит уже больше года…
Идёт молодая – крендель, медсестра.
– Это кто тут распелся? Кто поёт?!!!
Робкое, еле слышно…
– А что нельзя?
– Нет.
– Нельзя ругаться! А петь можно! Молодцы девочки. Помолодеете от песни.
– Мне ещё так мама говорила.
– Пойте милые, пойте!
Подходит, садится на лавку, старичёк – боровичёк, штаны в руках.
Голос, ну голос, как боевая тревога, уходящей нянечки…
– Кто? Кто насрал под лестницей?!!!
– Мать, вашу! Кто?
– Ой! Ой, матушки светы. Грех то какой, не удержалось, миленькая.
– Я счас, милая уберу. Уберу, уберу.
– Хрен ты уберёшь! Ноги то не гнутся. Иди, сама уберу.
– Иди уж. Да не забудь помыться. Девки, напомните ему.
– Бывает. Ну что тут поделаешь?
– Разболтались. Дома невестки, внуки, а тут ррразболтались.
Притихли. Закрыли глаза.
Задремали.
Подходит новый зритель.
– Не стучи палкой. Не стучи!
– Чёоо?
– Не стучи палкой!
– А чеегооо!
– Ему, вредно! Он рисует. Он рисует на стене. Он думает, ему вредно!
– Он не так красит!
– Да не лезьте, он сам знает чёё нада!
– Плохо видно. Ничего не видно, как в тумане.
– Не лезь. Ты слепая.
– Нет, я не слепая, я хорошо вижу. Вон дверь. Вон там окно. Вон нянечка. Столб…
– Нет, он, это он рисует, а не столб. А ты, стоолб.
– Я хорошо вижу. Молодец. Садись, посиди.
– Нет. Не рождена я для любви. Нет. Меня никто не любит, да и не любил никогда. Никогда, никто не любил.
– Нянечка и то орёт на меня всегда. Мне семьдесят лет, а любви не было. И не было никогда. Трудно без любви. Нет, не для любви я была рождена.
… Дверь комнаты-палаты открыта настежь.
– Да не трогайте! Пусть сами умирают.
– Не трогайте!
– Не кричи!
– Не ори так громко.
– Всё там само получится.
– Не возможно так жить!
– Научите.
– Научитеее… Научите черти как жить!
– Ночью у нас не спят. Ночью жрут и ждут доктора.
– Та вон хохочет. А воон, подальше…уже готова…
– Доктор сам знает что делает.
– Доктор, ну сделайте что-нибудь. Я ему говорила, просила, сделайте хоть что-нибудь.
– Ну что я сделаю!
– Что, что. Укол и готов! Не мучился бы!
– Нет, убивать жалко. Я сидеть не хочу.
– Что делать?
– Ничего. Сидите и ждите. Я пошёл, я сидеть не буду. Вон палата. Там ещё тяжелее. Уже третий день и никак…
– Да ты не кричи во всю вселенную.
– Я уеду!
– Куда, куда ты ночью поедешь?!
– Я тоже уехала бы, мне некуда. Уеду, уеду…
– А я пешком ушла бы. А куда?
Утро. Тишина, все спят.
Ночью троих унесли…
– Дверь в столовую открыли. Первые уже там, снова голос, задорный, весёлый.
Ой, подружка мояааа,
Что же ты наделала,
Жениха мого отбила,
А я так надеялась.
– Ээй, ты что сдурела!!! Ты не падала с лестницы!
– А я чего? Я ничего…Я при полном здравии, не сдурела. Нет, не сдурела. Вон, смотри, художник, молодой, и я молодая, вот пою ему частушки. Вспомнила, какая молодая была. Как девкою была. Ох, былааа…
– А я и не помню. Я уже ничего не помню, свою жизнь. Всю забыла, какая она была.
Не помню.
Хоть убей. Не помню… – Ничего не помню…
Позавтракали. На лавке целый рядок сидят. Балагурят. Молчат.
– На, миленькая, яблочко. Покушай, у меня в палатке, плохие живут, а ты хорошая, молчишь. На, возьми. У меня родных нет никого. Мне привозят с хлебозавода, гостинцев… я там работала. А одна не могу есть. Давай, милая, давай. Здесь женихов много, а я одна. Они сходятся. Дают отдельную палату на двоих. А я не хочу. Какие женихи в семьдесят лет.
– Пойдём теперь на улицу. Пойдём, там собачки, посмотрим, может погладим. -Их нашли мужики с интерната, кормят, погладим, как дома побываем.
– Я плохо вижу. Я совсем плохо вижу. Я совсем скоро ослепну. Темно в глазах.
– Ничего, на свежем воздухе хорошо, лучше будет. Пойдём. Видишь и дверь вон.
– Хорошо, по ступенечкам, хорошо. Вот смотри солнышко.
– Нет, днём ещё что-то вижу. А ночью скоро совсем.
– Смотри, смотри, собачки видишь? Вот они.
– Вижу, ну вот и молодец. Пошли к речке.
– Нагулялись. Пошли домой.
Подошли, держат друг друга за руки. Смотрят роспись.
– Ну, милая, смотри, смотри белым глазиком.
– Что совсем не видишь, водит пальчиком посильнее, по стене. Вот смотри. Совсем. Совсем. Ну ладно. Давай вторым. На, платочек мягонький, протри маленько, только легонечко. Вот, поморгай. Теперь смотри тихонечко, смотри.
– А! А! Вот, вижу!
– Петушок! Вижу!!!
– Большой петух. Взрослый, не петушок, большой. Вижу!!!
– Да, умница, петушок… Большой. Умница, прозрела! Петуха увидела. Сейчас год петуха.
– Вон, видишь, художник рисует. Видишь?
– Пройдёт теперь, будет ещё лучше.
– Умнички твои глазки. И второй откроется…
– Врач сказал, даст ещё пилюли.
Взялись за руки как школьницы и, и пошли потихонечку в палату.
– Видишь, а говорила слепая, ослепну!
– Петушка увидела…
– А красивый.
– Петушок!
– А, гребешок горит красным маком, цветком весенним…
– Художник, на стенке, рисует, ну надо же…
– Лето.
– Я молодая.
– И светит яркое весеннее солнце.
– Солнышко.
– Петушок.
– Вижу!
– Вижу…
– Я, вижу!
Кулёмка
В кабинете директора был отмечен вторник, а среда праздник – он едет домой. Домой, скорее домой и не возвращаться больше сюда совсем, никогда. Директором ему ещё не приходилось работать, да и работа ли это была?
Валосердин, валокардин, он и названий этих никогда не знал, ни ведал, но после очередного крупного совещания, в управлении культуры, и не только, он принимал эти успокаивающие душу и тело капли.
Но было и то, что там, даже в пору развала страны, можно получить деньги для самого необходимого. Можно добиться и щедрые обещания от самого мэра города. Но вот чего здесь никогда здесь не было – так это в культуре – культуры.
Он несколько раз уже приезжал трамвайчиком на вокзал. Долго стоял на перроне и, когда видел на пассажирском, скором поезде, голубую стрелу с чайками на занавесочках, и самое красивое, самое солнечное слово – Севастополь, невольно наворачивались слёзы. И он проулками, окраинами, чтоб хоть немного успокоиться, пешком возвращался в город, в свой кабинет…
Понимал, что там, дома, ещё хуже. Ещё труднее. Здесь первый раз за три месяца, но выдали скромную получку, а там вообще нет, ни работы и, конечно зарплаты. А его дочь окончила школу, сын тоже на подходе. Куда им и за что учить…
И он, директор, художник, высшей творческой категории, международник… оказался не у дел.
Был там, дома, в Крыму, огромный художественный комбинат, где они раньше трудились, почти тысяча скульпторов, живописцев, графиков, прикладников – все оказались у пустого причала…
С этими весёлыми мыслями, он оказался в самом центре города.
Увидел маленькую девочку похожую на его внучку, её тихонечко вели по ступенькам. И он подумал – ещё три дня и дома, в тёплом, когда то уютном краю он будет водить по горам и гладить её макушку с золотистыми завитушками на висках…А может, вдруг что изменилось и не нужно будет возвращаться в этот зябкий, холодный край…
… Девочка сошла вниз и, потихоньку – потихонечку, перешли на другую сторону и, вдруг голос…
– Дед, куда ты пошёл…
Притих дед. Вот надо же, как будто голос дочери. И слово так, как обычно внучка его окликала. Так чётко и громко – дед! Она, правда, другие слова ещё и не умела говорить, а ему было радостно, что она его первого окликала, почти по имени… так чётко и ясно.
Надо же, галюныы, галюны.
… Вдруг снова голос девочки.
Дед! А потом внучка,
– Дед!!!
Дед, ну куда ты побёг?
Нее, это уж совсем. Их дед, а точнее прадед, Курской губернии, всегда так говорил, куды ты побёг…
И они смеялись. Говорили и правнучка будет говорить…бяги, бяги, чаво, побёг…
А голос сильнее.
– Куда – же ты, внучка по тебе скучает, позови, внученька, позови дедушку.
И слышу опять такое внятное и чёткое,
– Дед, дед, дее – дяяа…
Не выдерживаю. Оглядываюсь…Никого…Они и я.
Странно…Повертел головой…Вижу. Идёт по другой стороне проспекта – улицы, на меня не смотрят, а впереди недалеко от них, мамы и девочки, идёт и не оглядывается, дед совсем ещё не старый, лет пятьдесят, может глуховат, как – будто ещё и рано – 50 …
Нет, не галюники…
… Зовут, зовут, но только, ни меня.
– Деедя, – деее,…А потом уже погромче.
– Коль, ну ты что оглох, внучка кричит, кричит, а ты что, не слышишь, что ли?
А я стою и смотрю. Дед Коля, но не я…
Надо же такое совпадение…
Переутомился. Соскучился. Ничего, завтра домой. По крайней мере, это лучше, чем галюны. Такое в их управлении было, после совещания…не доведи Боже и нам тоже…
Наступило и завтра, а точнее сегодня. Вечерний поезд. А сейчас ушёл. Сейчас ушёл. Опоздал…
А завтра, ой скорее бы это завтра, всего сутки и ты дома…
А пока директор со стажем три месяца, первой зарплаты, мизерной зарплаты, но радость почти распирала его, совсем не богатырскую грудь от таких обещаний, самого мэра. Он ещё тогда не знал, не ведал, что они люди, они могут ошибаться, они могут обещать. Но. Представить себе не мог, даже подумать, что они иногда играют в большие игры. Такие скверные, злые, и, совсем не игрушки…
Это было потом, а сейчас… Надежды на лучшее…они все будут вместе, будет весело, как и раньше.
Поужинать и спать, спать, что бы к вечеру…оп – ля и… – дома.
Он умудрился даже побывать у коллеги, директора парка, и тихонько двигался, топал к себе…почти домой, в общежитие с радужной надеждой, на хорошее жильё, которое обещал ему сам мэр, в присутствии его начальника управления культуры.
В это время дня, народу было всегда мало. Никого. Впереди ехала, катила маленькая колясочка. Красивая колясочка. Красивая русая мама или бабушка. А в колясочке маленькая красивая Кулёмка… Она вертела головкой, живой ребёнок, живые маленькие глазки. Шустрые глазки, ох и сожгут эти глазки не одно ещё сердце, умного, красивого, как и сама. Такие глазки светятся победой и радостью. Они всегда горят. Если ты можешь дать другому, огонь жизни. И вот этот огонёк глянул на деда. Дед улыбнулся, моргнул, кивнул своей седой шевелюрой, правда, бывшей, с проплешинкой, и так стало радостно обоим, – она увидела, почувствовала, что дед ей очень рад. А дед опять увидел свою внучку.
Но вдруг от колясочки отвалилось колёсико и кувыркнулось в сторону, покатилось в траву. Дед, конечно, поднял. Прибавил шагу, колёса были на месте, потом поравнялся, обогнал – глядь, а переднего колёсика – то и нет…
– Посмотрите, не ваша запаска…
Бабушка – мама посмотрела на деда, на коляску, снова измерила взглядом всех и коляску… опустила руки, что бы проверить, а… коляска пошла – поехала боком…
Ой, наша, колесо… вцепилась руками, как только могла крепко, – будто это её драгоценность – внучку с коляской унесёт Змей Гаврилыч,… за моря, за леса, в страну тысячи озёр, в жуткую страну, где только море, песок да ветер. И змеюки ползучие шипят. Вся это красота была лишь на красивом лице мамы-бабушки. Но также быстро она собралась с мыслями и глянула на деда, на внучку и поняла, будет греметь, но не чешуя – шипящих, и летящих, ползающих гадов, а будут греметь фанфары, перед красивым Дворцом, когда принц поведёт её внучку под белы руки прнять обручальное кольцо. И запрыгало, забилось, сердце бабушки – мамы.
– Ой, да что это я, совсем растерялась… задумалась…
– Ничего, ничего, это хорошо, когда хоть иногда думают…Вы подержите покрепче, я сейчас одену…
Бросил в сторону куртку, бумаги с папкой на травку, и.
– Ой, дайте, я подержу, куда вы?
– Ничего уже тепло, а в куртке неудобно, да и тепло – конец марта…
Он с трудом прикрепил колесо, пощёлкал стопорным полукольцом, крутанул им влево вправо, всё в норме, держится и работает…исправная красивая коляска, сидит в ней красивая внучка, оказывается мама на работе, а вот они гуляют, дышат, румянец нагуливают, Вот мы с внучкой едем к маме, она в первой школе преподаёт.
– Да у меня тоже внучка.
– А я и думаю, те, у кого внуки, они и сами другие, добрее, что ли. Сколько вашей?
– Два.
– А моей – год и семь месяцев…Похоже на нашу.. Такая же беленькая.
– Ой, спасибо вам… А где же они, здесь?
– Нет, далеко.
– Ааа …
– Понимаю, скучаете. Как вашу зовут – величают?
– Да вы знаете, она у нас родилась в мае, мы её и назвали…в честь победы.
– Виктория, если просто – Вика…
Вика…Викулька. Кулечка. Кулёмка…
– Как здорово. Это же надо придумать, и в словаре такого не прочитаешь. Вы не писатель?
– Нет, а я тоже работал в вашей первой школе. Там был филиал художественной школы. Преподавал скульптуру, прикладное, композицию.
– Надо же…
– А писать? Да так, гимнастика ума – сотрудник, внештатный, в областной партийной газете.
– Знаете, есть такая рубрика о людях хороших, а в отделе культуры – обзор выставок, о художниках. Разное бывает. Получается, говорят в редакции. В общем хобби…
– Ну и ну!
– Кто – то тренирует мышцы, а иные мысли, ум, редко когда тренируют и то и другое. Но бывает.
– Внученька, дедушка нам колясочку исправил, скажи спасибо!
– Бабушка, а что у дедушки глазки на мокром месте?
– Нет, моя маленькая, это ветер, ветер радости, видишь тёплая весна. А дедушка скоро поедет к своей внучке, далеко – далеко, в Крым. Там тепло…
– Это же надо так: Вика, Викуля, Кулечка, Кулёмка…
Внучка снова, но уже шёпотом:
– Бабушкаа, смотри, снова глазки блестят…
– Нет, бабушка, это слёзки.
– Вот видишь? Ветерок, и у меня слёзки… Да, и глаза, – школа, тетрадки, а потом глазки, ветер. Нет, внучка, это ветер…
Это ветерок нашей радости…
В самое сердце.
Сейчас, когда вы ещё в колясочке, …
Покатилось колёсико…
Потом, когда ты оденешь фату.
Куда покатится это колесо, уже не колёсико…
Этот ветер.
И, когда мы уже седые – седые, нужно колёсико…
– Рука.
– Слово…
Ласковое слово внимания…
Тёплая рука, Души, такой вот Кулёмочки…
– Мороз.
Снежные иглы старости, не греют,
Не гладят тебя.
А ты уже согрет этой тёплой ласковой рукой.
*
Прошли годы.
… Внучка уехала в страну зеркальных озёр. Вышла замуж, окончила высшее, пятилетнее образование, – дизайнер. На их, финском, защитилась.
Сдала экзамены – разговорная речь, в Германии, знаменитая фирма, на стажировку, дизайнер, но там в этой фирме только английский…на английском защитилась и пригласили остаться там работать…
Вот она, ласковая рука Кулёмки.
22 апреля. 1996г.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе