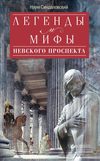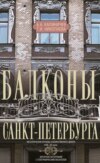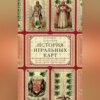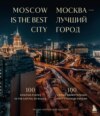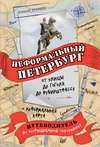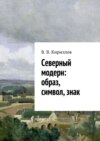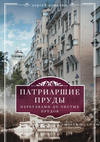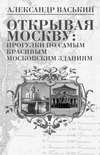Читать книгу: «Легенды и мифы Санкт-Петербурга», страница 4
Сердце Кутузова
Согласно последней воле полководца, сердце его было захоронено в Силезии, в трех километрах от Бунцлау на кладбище Тиллендорф, а тело перевезено в Россию и погребено в Казанском соборе.
Отечественная война 1812 года резко изменила судьбу Казанского собора – одного из главных культовых сооружений Петербурга. Построенный для хранения чудотворной иконы Казанской Божией Матери, он превратился в хранилище священных реликвий победоносной войны. Сюда свозили военные трофеи, в том числе армейские знамена и полковые штандарты наполеоновских войск, ключи завоеванных городов, маршальские жезлы. Уже в ходе войны собор, выстроенный русскими зодчими, русскими рабочими и только из русских материалов, воспринимался как памятник воинской славы и доблести. Многократно усилилось его мемориальное значение в 1813 году, когда было решено похоронить под сводами собора национального героя, победителя Наполеона и освободителя России Михаила Илларионовича Кутузова.
Кутузов скончался 16 апреля 1813 года на одной из военных дорог в Силезии. Тело полководца набальзамировали и перевезли в Петербург, а часть останков, извлеченных при бальзамировании, запаяли в цинковый гробик и захоронили в трех километрах от Бунцлау на кладбище Тиллендорф. Впоследствии на этом месте был установлен памятник. Вероятно, тогда и родилась легенда, жизнь которой вот уже более полутора столетий поддерживается довольно солидными источниками.
Так, например, в 1913 году Военно-историческое общество Москвы рассматривало вопрос о возвращении сердца Кутузова на родину. А спустя много лет один из польских журналов вполне серьезно познакомил своих читателей с последними словами полководца, который, объясняя свое желание разделить собственные останки между двумя странами, будто бы сказал: «Дабы видели солдаты – сыны Родины, что сердцем он остался с ними». Легенда стала восприниматься как подлинный факт и попала даже на страницы Большой советской энциклопедии (БСЭ. Т. 24. М., 1953).

Вид на Казанский собор со стороны канала Грибоедова
Между тем еще в 1933 году специальная комиссия произвела вскрытие могилы Кутузова в Казанском соборе. Был составлен акт за подписями директора Музея истории религии и атеизма, ученого секретаря В.Л. Бакланова, заведующего фондами музея и представителя ОГПУ. В акте сказано, что «вскрыт склеп, в котором захоронен М.И. Кутузов… слева в головах обнаружена серебряная банка, в которой находится набальзамированное сердце».
Исаакиевский собор
Эпиграмма
Се памятник двух царств.
Обоим столь приличный.
Основа его мраморна,
А верх его кирпичный.
Се памятник двух царств,
Обоим им приличен:
На мраморном низу
Воздвигнут верх кирпичный.
Двух царствований памятник приличный,
Низ мраморный, а верх кирпичный.
Императрица Екатерина II умерла, так и не дожив до завершения строительства мраморного Исаакиевского собора. Он был возведен только наполовину. Ее сын Павел, придя к власти, приказал оставшийся мрамор передать для нужд Михайловского замка, а строительство Исаакиевского собора завершить в кирпиче. По этому поводу флотский офицер Акимов написал эпиграмму, которая мгновенно распространилась в Петер бурге. Вскоре автор четверостишия был изобличен и жестоко наказан. Ему урезали язык, вырвали ноздри и сослали в Сибирь.
Петр I родился в день Исаакия Далматского, византийского монаха, причисленного к лику святых, и в честь святого, своего покровителя, в 1710 году велел выстроить деревянную Исаакиевскую церковь. Она находилась рядом с Адмиралтейством. Собственно, это была не церковь, а «чертежный амбар», в восточной части которого водрузили алтарь, а над крышей возвели колокольню. В 1717 году на берегу Невы, западнее Адмиралтейства, начали возводить каменную Исаакиевскую церковь. Но грунт под сооружением стал оседать, и церковь пришлось спешно разобрать.
В 1768 году Екатерина II, считавшая себя политической наследницей Петра I, начала возведение очередного Исаакиевского собора по проекту Антонио Ринальди. Собор строили на новом месте, на значительном удалении от берега Невы. Он облицовывался олонецкими мраморами, яркий, праздничный и богатый вид которых, по мнению современников, достаточно точно характеризовал «золотой век» Екатерины. Но строительство затянулось и к 1796 году – году смерти императрицы – едва дошло до половины.
Сменивший Екатерину II на троне Павел I приказал придворному архитектору В.Ф. Бренне передать мрамор, предназначенный для Исаакиевского собора, на строительство Михайловского замка, а собор достроить в кирпиче. Нелепый, пугающий вид кирпичной кладки на мраморном основании породил смелые ассоциации, дерзкие сравнения и опасные аналогии. Возможно, эпиграмма Акимова родилась из городского фольклора: она только сформулировала то, о чем говорили в Петербурге. Не менее вероятно и то, что придуманная Акимовым эпиграмма сама стала явлением городского фольклора.
Как бы то ни было, различные историки по-разному относятся к подлинности авторства Акимова. Г. Бутиков и Г. Хвостова, правда, без ссылки на источники, сообщают об этом как о факте документальном, в доказательство чего приводят скудные сведения из биографии Акимова и эпиграмму, в достоверности текста которой, похоже, не сомневаются. Однако только мне известны четыре текста (один см. ниже), и, вне всякого сомнения, имели хождение иные варианты. Уже сам факт отсутствия одного канонического текста говорит в пользу его фольклорного происхождения. Например, Столпянский считает все, связанное с эпиграммой, легендой, а имя Акимова вообще не упоминает, и все же можно допустить, что первую эпиграмму все-таки сочинил несчастный флотский офицер Акимов, дорого заплативший за свое остроумие.
Трех царств изображенье
Сей храм – трех царств изображенье:
Гранит, кирпич и разрушенье.
Собор строился так долго, как ни один храм в Петербурге. С ним было связано столько политических событий, что он становился как бы действующим лицом в биографии города. Естественно, что о нем спорили, по его поводу злословили, сочиняли эпиграммы. И эпиграммы, посвященные Исаакиевскому собору, были всегда политически тенденциозны. Ни одному архитектурному сооружению Петербурга в этом смысле так не повезло, как Исаакиевскому собору. Острая политическая тенденциозность чеканных строк и этой эпиграммы превращают каждую страницу истории храма в символический знак, безошибочно узнаваемый современниками.
«Золотой век» Екатерины II с его идеями просвещения и сравнительно сносной политической устойчивостью… Недолгий, удручающе регламентированный век Павла I, одним из символов которого стала однообразно тяжелая кирпичная кладка воинских казарм… И, наконец, «дней Александровых прекрасное начало», многообещающее, но тем не менее пугающее своей неизвестностью и начавшееся все-таки с разрушения собора. Пусть во имя возведения нового, но… разрушения. Острый глаз современника это обнаружил и констатировал.

Исаакиевский собор
Исаакиевская деревня
Так несколько поколений петербуржцев называли строительную площадку, многие годы существовавшую вокруг Исаакиевского собора.
Первый камень в фундамент ринальдиевского собора был заложен в 1768 году, а освящение монферрановского состоялось в 1858-м. Три поколения петербуржцев были свидетелями небывалой стройки. Многие из них ушли из жизни, так и не подозревая, что первый собор не достроят в мраморе, а второй вообще разберут до основания и на его месте начнут сорокалетнюю эпопею по возведению третьего.
Кирпичная кладка, появившаяся в царствование Павла I, действительно не соответствовала парадной застройке центральной части Петербурга. В 1809 году Александр I объявил конкурс на проектирование нового Исаакиевского кафедрального собора, торжественная закладка которого произошла 26 июня 1818 года. Проект создал молодой французский архитектор Огюст Монферран, за два года до этого приехавший в Россию. В 1820 году он опубликовал альбом чертежей собора, в которых допустил ряд грубых ошибок и технических просчетов. Это вызвало резкую критику проекта со стороны ведущих петербургских архитекторов. Был создан специальный комитет по рассмотрению претензий к «императорскому архитектору». Комитет признал проект Монферрана неудачным и по распоряжению Александра I в полном составе принял участие в его исправлении. Строительство приостановилось и возобновилось только через пять лет.
Учитывая особенности петербургской почвы, в основание фундамента забили 10 762 сваи. Только через три года началась изумившая и восхитившая современников установка колонн, каждая из которых весом 114 тонн и высотой 17 метров поднималась и занимала свое место при помощи специальных кабестанов (рычагов) всего за 45 минут. Довольно оригинальной особенностью строительства стала установка колонных портиков при полном отсутствии стен собора. Затем возвели стены, увенчанные купольным барабаном из 24 колонн, поддерживающих сам купол. Один только процесс золочения купола, колоколен и крестов продолжался восемь лет.
Во внутренней отделке собора принимали участие лучшие скульпторы и художники того времени. 103 росписи по штукатурке и 52 стенные картины выполнили К.П. Брюллов, Ф.А. Бруни, П.В. Басин и другие. 350 рельефов и статуй как внутри, так и снаружи созданы по моделям П.К. Клодта, И.П. Витали, Н.С. Пименова и других крупнейших мастеров XIX века.
Смерть Монферрана
Согласно давнему предсказанию, Монферран должен был умереть сразу после окончания строительства Исаакиевского собора.
В наружном скульптурном оформлении Исаакиевского собора есть группа святых, поклоном приветствующая появление Исаакия Далматского. Среди них находится и скульптурное изображение Монферрана с моделью собора в руках. Во время освящения храма один из приближенных царя обратил внимание Александра II на то, что все святые преклонили головы перед Исаакием, и только архитектор, преисполненный гордыни, этого не сделал. Император ничего не ответил, однако, проходя мимо Монферрана, руки ему не подал и слова благодарности не проронил. Зодчий не на шутку расстроился, ушел домой до окончания церемонии, заболел… И через месяц скончался.
Монферран действительно умер через месяц после торжественного открытия собора в возрасте 72 лет, более половины которых отдал строительству главного храма Петербурга. Уверенный в посмертной славе, он задолго до конца жизни начертал на своем гербе девиз: «Не весь умру». А в 1835 году составил завещание, в котором просил о «всемилостивейшем соизволении, дабы тело [его] было погребено в одном из подземных сводов <…> церкви» (Исаакиевского собора), как это было издревле принято в Европе. Однако Александр II решил, что для архитектора, хоть и придворного, это слишком высокая честь. И хотя всего за месяц до этого Монферрану была пожалована золотая медаль с бриллиантами и сорок тысяч рублей серебром за строительство Исаакиевского собора, гроб с телом зодчего лишь обнесли вокруг собора и затем установили в католической церкви на Невском проспекте. Вскоре вдова зодчего увезла тело мужа на родину во Францию.
Чернильница
Так называют Исаакиевский собор за сходство его силуэта с огромным чернильным прибором.
Теперь, по прошествии стольких лет, когда страсти более или менее улеглись, можно только догадываться, что «чернильница» далеко не единственное и не самое обидное прозвище, брошенное в громаду собора.
Появление Исаакиевского собора в ансамбле главных площадей сразу же вызвало общественный протест, переросший в полемику, длящуюся до сих пор. Особенно острое критическое отношение к нему было среди современников Монферрана, затем оно начало постепенно затухать, чуть ли не через сто лет неожиданно ярко на короткое время вспыхнуло вновь во время пресловутой борьбы с космополитизмом и, наконец, вовсе исчезло в наши дни, когда в десятках путеводителей и буклетов, проспектов и открыток собор предстает чуть ли не символом Петербурга, чуть ли не его архитектурной характеристикой наряду с Адмиралтейством и Медным всадником, решеткой Летнего сада и Стрелкой Васильевского острова. И если говорят о недостатках собора, то вскользь, мимоходом и так непропорционально мало, что это бесследно растворяется в море восторженных эпитетов. Между тем, по мнению многих исследователей, масса собора, удручающе огромная, несоразмерная ни с человеком, ни с окружающими постройками, не может считаться признаком хорошего тона в городе, где именно эти качества всегда ложились в основу всякого проектирования. Да и соотношение объемов собора между собой не поддается никакой логике. Так, прекрасный сам по себе вызолоченный купол покоится на очень высоком по отношению к основному объему барабане, отчего купол не кажется ни величественным, ни монументальным. А посаженные по сторонам барабана курьезные колоколенки вообще представляются карикатурой на традиционное русское пятиглавие. Собор, как отмечают почти все источники до 1950-х годов, излишне темен, удручающе тяжел и грузен в своей пышности. В 1913 году отрицательное отношение к собору выразил и авторитетный В.Я. Курбатов.
Что тут сыграло роковую роль? То ли требование Александра I включить стены ринальдиевского собора в проект монферрановского, то ли постоянное вмешательство других архитекторов, что приводило не только к переделкам, но и к созданию новых вариантов проекта, то ли действительно, как утверждают многие, отсутствие истинного таланта у Монферрана…
Собор за золото
В конце 1920-х – начале 1930-х годов, пользуясь тяжелейшим положением в сельском хозяйстве Советского Союза, Америка предложила купить Исаакиевский собор. Предполагалось разобрать его в Ленинграде на отдельные части, погрузить на корабли, перевезти в Соединенные Штаты и там собрать вновь.
В 1927 году страну охватил острейший сельскохозяйственный кризис: урожай товарного хлеба составил менее половины собранного в 1913 году. Положение усугубилось гибелью озимых в следующем 1928 году. Даже тот хлеб, что был в деревне, в город не поступал. Крестьянам было невыгодно продавать его по низким закупочным ценам, в то время как цены на промышленные товары были подняты. Хлеб нужен был государству не только для обеспечения городов, но и для продажи его на внешнем рынке. На вырученную валюту закупали машины и оборудование для начавшейся индустриализации…
Начатая Сталиным война с крестьянством («чрезвычайные меры»), а затем и насильственная коллективизация вызвали голод по всей стране. Умирали миллионы крестьян даже в самых хлебных губерниях страны. В городах была введена карточная система.
Но продажа хлеба за границу не прекращалась. Однако и этот канал валютных поступлений в конце концов мог иссякнуть. К этому же времени относится широко организованная государственная распродажа музейных ценностей – картин знаменитых художников, церковной утвари, икон, антиквариата. Сведения об этом, тщательно скрываемые, все-таки просачивались и, трансформированные в народном сознании, превращались в невероятные легенды.
Ориентир при артобстреле
В начале Великой Отечественной войны, когда угроза фашистской оккупации пригородов Ленинграда стала реальной, началась спешная эвакуация художественных ценностей дворцов Павловска, Пушкина, Петродворца, Гатчины и Ломоносова в глубь страны. Однако все вывезти не успели, да и возможностей для этого не было. Тогда в исполкоме Ленгорсовета собралось совещание, на котором рассматривался вопрос о создании надежного хранилища для скульптуры, мебели, фарфора, музейных архивов. Выдвигалось одно предположение за другим, и одно за другим по разным причинам отклонялось. Наконец поднялся пожилой человек, бывший артиллерийский офицер, и предложил создать центральный склад музеев в подвалах Исаакиевского собора. Свое предложение он объяснил тем, что немцы, начав обстрел Ленинграда, воспользуются куполом собора как ориентиром и постараются сохранить эту наиболее высокую точку города для пристрелки. С предложением старого артиллериста согласились. Все 900 дней блокады музейные сокровища пролежали в этом, как оказалось надежном, убежище и ни разу не подверглись прямому артобстрелу.
Говоря об Исаакиевском соборе, как правило, в первую очередь пользуются точным языком цифр. Высота – 101,5 метра. Площадь – 10 862 квадратных метра. Диаметр купола – 22,15 метра. Кубатура внутреннего объема – 155 900 кубических метров. Снаружи установлено 112 колонн цельного гранита, высота которых 17 метров.

Внутреннее убранство Исаакиевского собора
Не считая 122-метрового шпиля Петропавловской крепости, это самое высокое здание города при его большой массе могло представлять несомненный интерес для артиллеристов. Правда, легенда, скорее всего, родилась после войны и имела в основе своей конкретные факты: в подвалах собора действительно хранились художественные ценности пригородных дворцов, и действительно за все время блокады ни одного прямого попадания в здание собора, по счастливой случайности, не было.
Пеньковые склады
Огромное трехчастное сооружение на Тучковой буяне является вовсе не пеньковыми складами, а дворцом герцога Курляндского Бирона.
Это одна из наиболее живучих и наименее объяснимых легенд старого Петербурга.
Коротко история складов сводится к следующему. В поисках места, безопасного в пожарном отношении для хранения пеньки, обратили внимание на остров, вдруг появившийся после наводнения 1726 года на Малой Неве. На этом острове, названном впоследствии Тучковым буяном, в 1735 году были выстроены деревянные амбары, которые сгорели в 1761 году. С 1764 года проектированием и строительством новых, но уже каменных складов занимается придворный архитектор Антонио Ринальди. Зодчий с высокоразвитым художественным вкусом, Ринальди подходил к строительству утилитарных зданий с такой же требовательностью, как и к строительству дворцов. Не случайно центральный объем пеньковых складов – важня, имевшая в XVIII веке декоративное завершение со статуей, – так напоминает его же дворец Петра III в Ораниенбауме.
Однако остается загадкой, какое отношение ко всему этому имеет герцог Курляндский, если комплекс пеньковых складов построен более чем через двадцать лет после смерти Анны Иоанновны и опалы герцога Э. И. Бирона. И все же основания для легенды были. Дворцовый облик, островной характер постройки и связанная с этим некоторая таинственность, недоступность свободного посещения, смутная память о мрачной фигуре фаворита, его известное участие в торговых операциях с пенькой – все это дало повод для возникновения такого фольклорного названия, как «Дворец Бирона».
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе