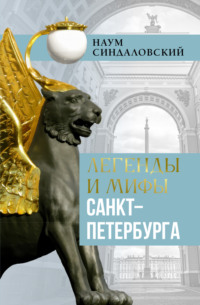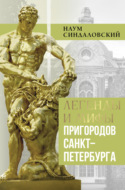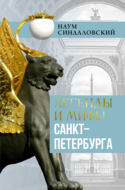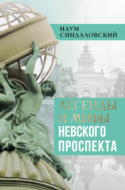Читать книгу: «Легенды и мифы Санкт-Петербурга», страница 3
Чесменский дворец
Гонец с радостной вестью о великой победе русских под Чесмой настиг Екатерину II на пути в Царское Село в районе огромного Лягушачьего болота. Не скрывая радости по случаю долгожданного известия, императрица приказала в честь этого на месте встречи с посланцем выстроить дворец.
Чесменская битва произошла 26 июня (7 июля) 1770 года в Эгейском море. Горстка русских военных кораблей, основательно потрепанных длительным и тяжелым переходом из Кронштадта, под командованием А.Г. Орлова одержала блистательную победу над турками, уничтожив практически весь вражеский флот. Говоря красочным языком XVIII века, «турок [был] сожжен и в воздух пущен». Екатерина II всегда полагала себя политической наследницей Петра I и Богом посланной продолжательницей его дела. Она не без основания считала, что эта выдающаяся победа окончательно завершила длительный процесс превращения России из континентальной в морскую державу. В честь Чесменской победы слагали оды и писали картины, ставили спектакли и возводили памятники, строили дворцы и закладывали города.
Чесменский дворец задумывался как путевой, для отдыха на дороге между Петербургом и Царским Селом. Задумывался с размахом – со служебными корпусами, с церковью. Проектировал и строил ансамбль архитектор Ю.М. Фельтен, который в качестве образца использовал средневековый английский замок Лонгфорд. Это соответствовало господствовавшей в то время в архитектуре моде на английскую готику. По углам дворца располагались башни с бойницами. Дворец окружали рвы, заполненные водой, над которыми нависали подъемные мосты. В 1780 году невдалеке от дворца Фельтен построил церковь, тоже в стиле английской готики. В ознаменование десятилетия Чесменской победы и церковь, и весь ансамбль назвали Чесменскими.

Чесменский дворец
Для торжественного обеда по случаю окончания строительства в Англии у знаменитого Веджвуда был заказан специальный столовый фаянсовый сервиз. Он состоял из 592 предметов, каждый из которых имел изображение герба дворца – зеленой лягушки.
За 200 лет Чесменский дворец не раз переделывался и во многом изменил свой первоначальный облик. Но и в настоящем виде, овеянный романтическими легендами и сохранивший свое название, он является памятником истории государства. А Чесменская церковь превращена в филиал Военно-морского музея, где развернута экспозиция в память и в честь героев Чесмы.
Строгановский дворец
На медальонах, украшающих фасад дворца Строгановых, изображен профиль графа Сергея Григорьевича Строганова.
Это предание пересказал в интервью ленинградскому радио известный знаток Петербурга Ю.А. Раков. В том же интервью он сообщил, что им проделана работа с применением логических, математических и чуть ли не генетических методов по определению изображенного на медальонах мужского профиля. Раков пришел к выводу, что на фасаде Строгановского дворца помещен автопортрет его автора – архитектора Б.Ф. Растрелли. Действительно, зодчие Петербурга иногда включали в декоративное убранство здания собственное изображение как бы в качестве автографа. Так, Антонио Ринальди оставил свой автопортрет над главной лестницей Мраморного дворца, а менее скромный Огюст Монферран позволил изобразить себя равным среди святых на фронтоне Исаакиевского собора. Есть примеры, когда архитекторы оставляли свои имена на фасадах построенных ими зданий. Одни вписывали их незаметно в углу цокольной облицовки, другие – на специальных досках и на видных местах.
В живой язык каменного города вносится, таким образом, особая образность и дополнительная выразительность, не говоря уже о высоком информативном значении подобных знаков.
Дача Дашковой
Однажды, во время загородной прогулки Екатерины II по Петергофской дороге, одна из лошадей потеряла подкову. Суеверная императрица переглянулась с находившейся в ее экипаже Екатериной Дашковой и тут же приказала построить для своей подруги особняк в форме подковы – символа счастья.
Екатерина Романовна Дашкова – одна из образованнейших женщин XVIII века, президент Российской Академии и директор Академии наук. Активнейшая участница дворцового переворота 1762 года, близкая подруга Екатерины Великой, Екатерина Малая, как называли ее современники, сыграв при русском дворе короткую, но блестящую роль, неожиданно сошла со сцены, и имя ее, недостаточно оцененное потомками, почти затерялось среди имен более удачливых современников.
В наше время это имя привлекает все больший интерес как историков, так и любителей русской старины. Появились книги и статьи о Дашковой, в которых дана достойная оценка ее роли в истории русского просвещения. Впрочем, в Петербурге это имя никогда не предавалось забвению. Скульптурное изображение Екатерины Романовны Дашковой сохранилось в композиции памятника Екатерине II в сквере на площади Островского, а фольклорная традиция создала неофициальное название «Дача Дашковой» (особняк на проспекте Стачек, 45).
Автором проекта дачи считается Джакомо Кваренги, хотя документальных свидетельств этому не найдено, а сама Дашкова приписывала авторство себе. Здание в плане действительно имеет форму подковы, и ни Екатерине Великой, ни хозяйке дачи, ни гипотетическому автору проекта и в голову не могло прийти, как подковообразная форма особняка будет соответствовать его новому назначению через двести лет. В 1975 году после реставрации здания в нем открылся Дворец бракосочетаний и торжественной регистрации рождений. И романтический ореол древних символов в сочетании с прекрасной архитектурой и старинными сказаниями создают столь необходимое для будущего чувство непрерывности истории и ощущения себя в ней.

Усадьба Кирьяново
Михайловский замок
Основание
Однажды во время караульной службы у Летнего дворца Елизаветы Петровны солдату явился в сиянии юноша, назвавшийся архангелом Михаилом. Архангел велел часовому тотчас же идти к императору и сказать, что старый Летний дворец должен быть разрушен и на его месте построен храм во имя архистратига Михаила. Солдат исполнил приказание святого, на что Павел I ответил: «Воля его будет исполнена».
Это место на берегах сразу двух рек – Мойки и Фонтанки, в виду Летнего сада, – облюбовала еще Екатерина I, начав здесь строительство скромного Летнего дворца. Дворец закончили уже в царствование Анны Иоанновны, которая полюбила его и охотно проводила в нем летние месяцы. Но именно поэтому следующая царица, Елизавета Петровна, при вступлении на престол велела разрушить дворец, остро напоминавший ей долгие годы обид и унижений. Одновременно она приказала Б.Ф. Растрелли возвести новый деревянный Летний дворец. На старинных изображениях можно увидеть, какое это было роскошное, огромное сооружение с садом, галереями для прохода в Летний сад, террасами и фонтанами. Не случайно именно этот дворец избрала Екатерина II для приема официальных поздравлений по случаю восшествия на престол.
Для Павла I этот дворец имел особое значение. Здесь в 1754 году он родился. Отсюда начинался мучительно долгий, более чем в сорок лет, путь к престолу. Склонный к мистицизму, Павел однажды проронил, что хотел бы и умереть на этом святом и заклятом для него месте. Пожалуй, можно предположить, что изложенная легенда имеет официальное происхождение. Так важно было императору подчеркнуть как божественное возникновение замка, так и обязательность исполнения предначертаний свыше. В одном из вариантов легенды Павел, выслушав часового, ответил: «Да, я тоже видел это во сне». Так или иначе, Павел приказал снести здание Летнего дворца и на его месте начать строительство Михайловского замка по проекту В.И. Баженова. Новый царский дворец был построен в стиле средневекового замка, в облике которого было угадано суеверно-мистическое состояние души императора. Замок со всех сторон был окружен водами Мойки, Фонтанки и двух специально прорытых каналов – Церковного и Воскресенского – и соединялся с внешним миром при помощи цепного моста, поднимаемого на ночь. Вооруженная охрана круглосуточно дежурила у входа в мрачный колодец восьмиугольного двора. Изолированный от города, замок внушал одновременно и почтительный трепет, и панический страх.
Цвет фасадов
Когда строительство Михайловского замка приближалось к завершению, на одном из дворцовых балов взволнованная танцами Анна Лопухина вдруг обронила перчатку. Оказавшийся рядом Павел I, демонстрируя рыцарскую любезность, первым из присутствующих мужчин поднял перчатку и собирался было вернуть владелице, но вдруг обратил внимание на ее необычный, красновато-кирпичный цвет.
На мгновение задумавшись, император тут же отправил перчатку архитектору Бренне, под руководством которого велось строительство, в качестве образца для составления колера.
Павел торопил со строительством замка, и в этом тоже увидели впоследствии зловещее предзнаменование. Остро ощущая недостаток в строительных материалах и рабочих, император прервал работы по возведению многих культовых и светских зданий в столице. Вопреки здравому смыслу, логике и строительному опыту рытье рвов под фундаменты начали глубокой осенью, а кладку стен – зимой. Штукатурные и отделочные работы велись почти одновременно. Не оставалось времени на просушку и необходимую выдержку. Освящение замка состоялось 8 ноября 1800 года, через три года после его торжественной закладки.
Вряд ли перед Павлом всерьез стояла проблема выбора цвета фасадов замка, и вряд ли в этом выборе такую решающую роль сыграла будущая фаворитка Анна Лопухина, идущая на смену Екатерине Нелидовой, хотя чего только не было в российской истории. Скорее всего, архитектура Михайловского замка, необычная для северной столицы, исключала применение традиционных классицистических тонов петербургских зданий. Так или иначе, загадочный цвет Михайловского замка оказался настолько удачным, что другую окраску этого «памятника тирана» невозможно представить. История с окраской фасадов Михайловского замка на этом не закончилась. Легендарная рыцарская любезность императора по отношению к даме вызвала волну верноподданнических чувств у приближенных. И фасады многих петербургских особняков были поспешно перекрашены в мрачноватый цвет царской резиденции.
Изречение над главным входом
В самом конце XVIII века в Петербурге на Смоленском кладбище, что на Васильевском острове, появилась юродивая. Она предрекала скорую кончину императору Павлу Петровичу, добавляя при этом, что жить ему на земле столько лет, сколько букв в тексте изречения над главными воротами в Михайловский замок.
Из уст в уста передавалось в Петербурге это мрачное предсказание, пока не стало повсеместно распространенным поверьем. С суеверным страхом и тайной надеждой ждали наступления 1801 года. Считали и пересчитывали буквы библейского текста…
Это изречение было предназначено для украшения фасада Исаакиевского собора. Но вместе с облицовочными мраморными плитами и другими строительными материалами каменная надпись была взята у строившегося храма, что, возможно, и стало поводом для суеверных предположений. Вообще история Михайловского замка, как, впрочем, и жизнь его владельца, насквозь пронизана мрачными тайнами и мистическими предзнаменованиями. Каждый более или менее значительный факт рассматривался современниками сквозь некую мистическую призму допущений и предположений. Шло какое-то фантастическое соревнование в интерпретации всякой случайно оброненной фразы, каждого явления и события, связанного со злосчастным замком. Когда замок освятили, он был еще не готов. Весь ноябрь, декабрь и январь следующего года пытались закончить внутреннее убранство и изгнать из помещений чудовищную сырость. Ни того, ни другого не успели. Нетерпеливый и настойчивый в своем нетерпении, Павел вместе со своим многочисленным семейством 1 февраля 1801 года въехал в новую резиденцию. А в ночь с 11 на 12 марта он был убит. Смерть императора, как утверждают многие современники, превратилась в какой-то праздник. На улицах открыто, не стесняясь радостных слез, словно во время Пасхи, целовались и поздравляли друг друга совершенно незнакомые люди. Особенно много народа собиралось у Михайловского замка. Вчитывались в чеканные буквы библейского изречения:
ДОМУ ТВОЕМУ ПОДОБАЕТЪ СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ ВЪ ДОЛГОТУ ДНЕЙ
Вновь считали и пересчитывали буквы. По странному и необъяснимому совпадению количество их равнялось количеству лет, прожитых императором Павлом Петровичем.

Михайловский замок
В 1901 году в очерках, изданных к 200-летнему юбилею Петербурга, В.М. Суходрев упоминает об этом тексте как о существующем. То же самое повторяет В.Я. Курбатов в 1913 году. В дальнейшем упоминания о нем как будто исчезают. Исчезает и сама надпись, памятью о которой осталась петербургская легенда да темные точки на чистом поле фриза над Воскресенскими воротами замка – давние меты крепления мистических знаков.
Тень императора Павла
Вскоре после того, как пустовавший Михайловский замок был передан Инженерному училищу, по ночам, ровно в 12 ча-сов, в окнах его стала появляться тень убитого императора с горящей свечой в руках.
Почти два десятилетия после смерти Павла I замок, с такой поспешностью возведенный, пустовал. «Пустынный памятник тирана, забвенью брошенный дворец», – писал о нем Пушкин в 1817 году в оде «Вольность».
Правда, этот образ имеет более художественную ценность, нежели документальную. В разное время в Михайловский замок вселяли различные малозначительные учреждения, которым, по выражению Столпянского, «не находилось другого места». Здесь располагались Капитул российских орденов, помещения для совершения богослужений магометан, Комиссия духовных училищ и т. д. Дошло до того, что в замке отводились квартиры частным лицам.
Наконец, в 1819 году его передали Инженерному училищу, а с 1823 года замок официально стал называться Инженерным. Скорее всего, гамлетовская история с тенью императора связана с юношескими проказами кадетов. Но нам важно, что она и после смерти Павла последовательно продолжает логический ряд мистических преданий об императоре, незримая тень которого вот уже два столетия окрашивает биографию Михайловского замка в сумрачные тона недосказанности и тайны.
Казанский собор
Семейная реликвия дома Романовых
Народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Михайловича Пожарского в 1612 году шло освобождать Москву от поляков с иконой Казанской Божией Матери впереди. Эта икона впервые явилась в Казани в 1579 году, а с 1613 года, после избрания на русский престол первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича, стала семейной реликвией царского дома.
Петр I стремился утвердить в сознании современников мысль о божественном предначертании создания новой столицы. Не град Антихриста, но град Благословенный. Так было с культом Александра Невского. Так было и с иконой Казанской Божией Матери.
В 1710 году царь повелел перевезти икону в Петербург и хранить в церкви Рождества Богородицы на Посадской улице Петроградской стороны. Затем долгое время икона находилась в одном из главных храмов столицы – Троицком соборе.
При императрице Анне Иоанновне в 1737 году специально для иконы на Невской «першпективе» возвели церковь Рождества Богородицы. Полагают, что она была построена по проекту Михаила Земцова, одного из первых петербургских архитекторов. Рождественская церковь стояла на месте, где сейчас разбит сквер перед Казанским собором. Ее величественная многоярусная колокольня со шпилем являлась заметным украшением Невской перспективы, которая еще не успела стать главной улицей города и была застроена в основном двухэтажными зданиями.

Общий вид Казанского собора
Во второй половине XVIII века роль этой магистрали стала меняться. К концу века облик ветшавшей церкви уже не соответствовал новому назначению Невского проспекта. И с 1801 года начинается строительство нового храма.
Проект собора
Воронихин составил проект Казанского собора по плану, начертанному Баженовым для парижского Дома инвалидов.
В чем только не обвиняли А.Н. Воронихина его недоброжелатели и соперники. Одни утверждали, что Казанский собор является копией собора Святого Петра в Риме. Другие – что колоннада собора заимствована у В.И. Баженова из его неосуществленного проекта одного из крыльев Кремлевского дворца. Третьи обвиняли Воронихина в прямом использовании баженовского проекта парижского Дома инвалидов. Поводом для таких слухов послужило неожиданное назначение архитектором и строителем собора мало кому известного Андрея Воронихина, бывшего крепостного президента Академии художеств графа А.С. Строганова. Это казалось тем более странным, что в конкурсе проектов собора участвовали очень известные архитекторы: Камерон, Кваренги, Тома де Томон. А Воронихина среди них не было.
Желание Павла I сделать собор похожим на собор Святого Петра в Риме противоречило замыслу Воронихина органично включить собор в структуру Невского проспекта, так как этому мешали жесткие каноны культового строительства. В соответствии с ними алтарная часть должна располагаться в восточной части храма, а главный вход – в западной. Но тогда колоннада располагалась бы со стороны Большой Мещанской (ныне Казанской) улицы. Блестящая догадка архитектора связать Невский проспект с собором грандиозной 96-колонной четырехрядной колоннадой коринфского ордера удовлетворила тщеславие Павла и превратила собор в центр одного из первых в Петербурге архитектурных ансамблей.
И если колоннада собора Святого Петра в Риме, описывая почти полный круг, создает замкнутую средневековую площадь, то роль колоннады Казанского собора в архитектурной среде окружающего пространства прямо противоположна. Ее раскрытый и в то же время собирательный, организующий характер однажды и навсегда определил художественный и смысловой центр всего Невского проспекта.
Полностью проект осуществлен не был. По замыслу Воронихина такая же колоннада должна была украсить противоположный, южный фасад храма. Будь этот проект осуществлен, Петербург обогатился бы ансамблем, грандиозный масштаб которого был бы равен масштабности городских ансамблей Карла Росси, появившихся только через два десятилетия после выдающегося произведения Андрея Воронихина.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе