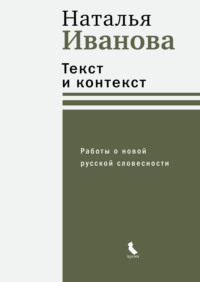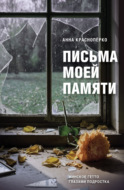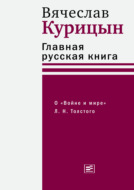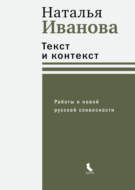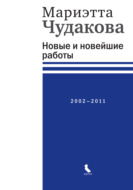Читать книгу: «Текст и контекст. Работы о новой русской словесности», страница 4
Отсюда – стыд, о котором не стесняется говорить в своих рассказах Ф. Абрамов. Стыд – если твой собеседник «из народа» отворачивается и молчит.
Есть свои преимущества в прямом и нелицеприятном, во многом – публицистичном разговоре с читателем, который мы наблюдаем во многих «бесфабульных» рассказах. Есть и опасность. Действуя по новейшим канонам и трафаретам литературной нравоучительности, прозаики повествуют о Путешествии, о неожиданной Встрече на Дороге, о душевном Разговоре и т. п. Каждое новое знакомство представляется здесь полным смысла, каждое движение тела и души – многозначительным. Отсюда и рождается тип короткого рассказа-эссе («Мгновения», «Зерна», «Затеси» – так обозначают этот жанр известные прозаики); но отсюда же берут начало всяческие подделки под литературу. Один-два незатейливых пейзажика, лирическая интонация, демонстрация задумчивой эмоциональности – и такой «рассказ» готов. «Ориентация на бессюжетность, – замечал В. Белов, – очень выгодна… посредственным прозаикам. Под видом краткости они публикуют все свои блокнотные записи. Ложная многозначительность таких коротышек не всегда очевидна». Но не будем задерживаться на подделках. И серьезно относящиеся вроде бы к своему делу прозаики порой выдают за рассказ сырье. Возможно, хорошего качества, но – материал для рассказа, предрассказ. Легко впасть в роль эдакого наставника, вещателя истины. Вспомним еще раз незабвенного Фому Опискина, задумавшего «написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия».
В жанре рассказа, близкого к очерку, постоянно работает В. Солоухин. Писатель прямо выходит к читателю, то повествуя о своем пребывании в родном Олепине, то рассказывая о зарубежных поездках и путешествиях… Прямое авторское слово нашло себе точный жанровый адрес в маленьких притчах-наставлениях («Камешки на ладони»).
Если мы откроем один из последних томов А. Чехова, то в разделах «Записные книжки», а также «Дневники 1896–1903 гг.» и «Записи А. П. Чехова в мелиховском дневнике П. Е. Чехова» обнаружим богатейшие россыпи записей – свидетельства ума и таланта, юмора и иронии Чехова. Однако в примечаниях сказано: «Большая часть записей представляет собой вырезки из рукописей Чехова, некоторые заметки написаны на оборотах писем, полученных Чеховым». Представить себе Чехова публикующим эти записи в качестве размышлений и изречений (хотя они таковыми объективно являются) просто невозможно, сам жанр таких публикаций – при чеховском-то чувстве собственного достоинства – показался бы ему не совсем ловким…
Однако литературные нравы, как известно, меняются, и то, что являлось литературным бытом, на наших глазах выходит подчас в авангард литературного процесса.
В жанре «Камешков на ладони» писатель не столько изображает, сколько философствует, и, надо сказать, делает это с чрезвычайной серьезностью.
Зарубежные путешествия… Их отображение в литературе тоже образует своего рода поджанр. Автор, приехав из недолгой поездки, стремится, видимо, зафиксировать в слове самые глубокие из своих впечатлений. Фабула в рассказах такого рода одинакова: встреча. Так, встрече со средиземноморской Францией посвящен один из рассказов В. Солоухина. Афоризмы Солоухина в зарубежных рассказах исполнены в слегка иронической, более подходящей, видимо, по мнению автора, к иностранному фону манере. Например: «Жизнь должна искриться, играть, как шампанское, а не тяжелеть в стакане серым неподвижным напитком с мертвым привкусом». Особенно огорчило повествователя то, что переводчица ему попалась необязательная. Как бы заиграла жизнь, если бы можно было прибавить их отношениям чуточку аромата, флирта… По ходу рассказа отпускается много шпилек по поводу французских художников, в частности – Матисса. Вот и все содержание рассказа.
Опыт личности – вот что ищет читатель в такого рода рассказах. И ценность такого повествования прямым образом зависит от качества того опыта, которым делится с нами автор. Повествователь интересен своей «личной жизнью в истории», а не подробностями своего ежедневного существования, возводимыми путем печатного слова в некую ценность.
В рассказе В. Солоухина о его средиземноморской поездке есть один короткий абзац, посвященный «частному делу» – визиту на могилу Герцена. «Герцен изображен в рост, на постаменте, но и постамент, и памятник непривычно малы. Мраморный человечек в половину натуры… Положил и я три цветочка к подножию Александра Ивановича Герцена.
Остальной день мы потратили на знакомство с Монте-Карло…»
Что ж, мы знаем и это печальное свойство: мерить людей размерами пирамид и надгробий. В истории, однако, остаются не надгробья, а личности и идеи. Своеобразным памятником Герцену стали письма «С того берега», тоже посвященные зарубежным впечатлениям. Вот та высокая мерка, с какой и нынешний писатель должен бы приступать к рассказу о своих заграничных путешествиях… Однако это лишь мечта. Вернемся к действительности, к зарубежным впечатлениям современных наследников Герцена и Достоевского.
В рассказе В. Поволяева «В Булонском лесу» повествование ведется от лица советского человека, волею судеб заброшенного в заграничную командировку – в одну из европейских столиц, где летом, как утверждает В. Поволяев, «воздух бывает тяжелым, дымным, – как в кухне, где подгорели котлеты». Но кухонных сравнений (оставим грех на совести автора. Могу сослаться на личный опыт – воздух в Париже совсем неплох) для автора недостаточно: и пруд-то в Булонском лесу загнивающий – «серая, застойная вода» (тоже неправда. – Н. И.), и хозяин собаки – негодяй, да и в самой собаке есть «что-то ущербное», и даже в утках («у нас в России я никогда не видел таких уток») повествователь отмечает нечто демоническое – они летают «со светящимися люминесцентными глазами». Настырные буржуазные утки, конечно же, «клянчили подачку» и возню «затевали из-за куска хлеба». Но это, так сказать, гарнир к «подгоревшей котлете»: повествователь возмущается злостным издевательством хозяина по отношению к собаке «яркой гнедой масти» (?!). Описание и осмысление этого факта лирическим героем и стало сюжетом рассказа.
Параллельно – в «неких позывах, что возникают у человека в думах» – повествователь размышляет о жизни: «Невольно захотелось втиснуться в землю (? – Н. И.), скрыться под зеленым дерном: надо же, каким в сущности хреновым животным может быть человек!» Небрежность или неумение строить литературную фразу оборачивается двусмысленностью: можно подумать, что человек, желающий скрыться под дерном (?!), – хреновое животное… Итог повествования заранее ясен – несмотря на вполне приличную погоду, в Париже конечно же «было сыро и неуютно на душе, хлестал там холодный дождь, пузырились лужи». Капиталистическая действительность осуждена. Может ли вызвать доверие читателя подобная заметка о летних европейских впечатлениях, преподнесенная в качестве рассказа?..
Вполне броско звучит такое название рассказа о зарубежной поездке: «Какого цвета звезды в Севилье?» Обычная для В. Поволяева сюжетная завязка: очередная зарубежная поездка, на этот раз – в Испанию. Тем же бойким пером набросана обстановка («в мадридском аэропорту было грязно», «взгляды на нас бросали настороженные», «в здании было душно», «город показался темным», «дома мрачные» и т. п.). Внимание туристической группы неожиданно привлекли – что, вы думаете? люди? памятники архитектуры? городские достопримечательности? – выставленные в витрине «диковинные настенные мыльницы, отлитые из толстого пузырчатого стекла». Вокруг этих мыльниц и затевается сюжет. «Заграница есть заграница, тут ведь всякое бывает», – мудро замечает повествователь. Владелец магазина, где продаются замечательные мыльницы, – «белокурый капиталист» – отдает мыльницы и крючки для ванной почти задаром, сбавляя цену и бывшему летчику Генриху, и Сане, тоже прошедшему боевой путь. Фашистский полк собирался навалиться на польский городок, но встала на его пути Санина батарея: «Занозой в глазу сделалась та батарея». Не стоит удивляться стилю – это обычная манера автора. Славный Саня, или, на испанский манер, Алехандро, «извозюканный кровью», потерял в бою руку: «в могиле у него (это – образ! – Н. И.) осталась отсеченная взрывом рука».
«Белокурый капиталист» поразил своей щедростью воображение творческих интеллигентов. Но и интеллигенты не ударили в грязь лицом. И Саня, лихо запаливая «ронсоном» водку («над рюмкой, будто над неким олимпийским сосудом, занялось прозрачное, беловато-аметистовое пламя»), показывает фокус – опрокидывает горящую водку себе в рот: «Щеки, нос, губы Алехандро мгновенно засветились прозрачно-сине…» Гусарские забавы советских туристов приводят – с полного авторского одобрения – в невероятный восторг зарубежную публику, а читатель, видимо, должен с придыханием следить за нынешними «подвигами» бывших фронтовиков, в качестве «пропаганды» дарящих «капиталисту» банку красной икры…
«Так, так, тихим шагом, как будто в лунную ночь, в мечтах и меланхолии из пивной возвращаетесь», – советует в известной пьесе Баян Присыпкину. Неувядающие слова! После бара с «горящей» водкой Алехандро «поднимал высоко голову, чтобы взглянуть на дивные, редкой величины и яркости звезды Севильи». Комментарии, я полагаю, излишни… Стоит, однако, посочувствовать самому повествователю и пожалеть его героя, обрекших себя на столь специфическое познание Испании, на столь своеобразные знакомства и впечатления.
Прошу прощения за резкие эстетические перепады, но от дивных севильских звезд приходится возвращаться на родную почву. К русскому рассказу.
Пример ассоциативного, свободного по композиции, фабульно ослабленного рассказа – «Вкус» Андрея Битова. В этом рассказе, являющемся и самостоятельным, целым произведением, и одновременно частью «романа-пунктира» «Роль» (так обозначает жанр сам прозаик), А. Битов как бы воплощает в художественном слове свои теоретико-литературные размышления о развитии жанра. Если в ранних своих рассказах А. Битов новеллистичен, обращается к ярко выраженному сюжету, к «отделенным» от автора «самостоятельным» героям, то сейчас он все больше склонен к «выветриванию» сюжетности и к герою, который одновременно является повествователем (передоверяя ему и свои личные впечатления, свое видение, свои оценки окружающего). При чтении рассказа «Вкус» вспоминается замечание Достоевского: «Попробуйте разделиться, попробуйте определить, где кончается ваша личность и начинается другая?» Рассказ начинается и развивается так, как будто мы уже давно знаем героя; А. Битов не знакомит нас с ним, а просто отдает нас в поток его сознания, ощущений, размышлений. Сознание это причудливо, может показаться даже хаотичным; его «параллельные» то и дело пересекаются, множатся, отражаются во внутренних зеркалах, опять сталкиваются, разбегаются… Внешнее включается во внутреннее, не изображается, а становится переживанием, как, скажем, известный переделкинский пейзаж, включенный в сложный душевный мир героя. Не вещь, а ощущение от вещи – его хрупкий субъективный, мгновенный оттиск. Вкус. Вкус пирожка, заполняющий рот своим отсутствующим объемом. Вкус женщины. Ощущение местности. Даже не вкус, а, как говорят виноделы и дегустаторы, послевкусие. Не пейзаж сам по себе, а его интерпретация – вот то, что, на мой взгляд, характеризует принципиально новое видение в рассказе «Вкус». Эта интерпретативность и организует повествовательную – внешне-ассоциативную, но глубоко продуманную и почти математически выверенную, гармонически уравновешенную – структуру. В самом деле: все в этом только на первый взгляд хаотичном рассказе как бы рифмуется, перекликается, взаимно поддерживается; почти все симметрично. Постоянный, не прекращающийся ни на мгновение мерцающий самоанализ героя, бесконечная цепь рефлексий и интерпретаций становятся явлением эстетического порядка. Вкус как миросозерцательная эмоция – это единственное, что осталось у героя. От всех иных эмоций он свободен. Его вкус безупречен; его коробит от неловкого безвкусного жеста женщины, ему трудно, невозможно работать в «высосанном» великим поэтом пейзаже. Вкус – единственное, что осталось герою. У него нет ни любви, ни душевной близости с другими живыми людьми – ничего, кроме вкуса. И даже тогда, когда, кажется, в герое просыпается живой человек (умерла бабушка его жены), то он просыпается, как это ни странно звучит, благодаря мертвому. Но и это – иллюзия; целуя бабушку в холодный лоб, герой мгновенно вспоминает шокирующую цепочку ассоциаций: холодноватый вкус аккумулятора, вкус женщины. Вкус оборачивается и замыкается вкусом. Пристальное слежение героя рассказа за самим собой замыкается одиночеством, кончается душевной изоляцией.
А. Битов изображает множественность душевных противоречий, разнообразие мотивов поведения, сложное взаимодействие мыслей и поступков своего героя. Писатель уходит от традиционного изображения характера и обстоятельств к воплощению отражения противоречий действительности во множественности психологических импульсов одного сознания.
Оказывая больше доверия самой жизни, нежели «художеству», переходя на исповеди-проповеди, не уводим ли мы самое литературное слово от литературы? Прислушаемся, о чем пекутся сами писатели. «Прежде всяких литературных достоинств я ставлю качества душевные» (В. Распутин). «Опоры литературы – правда, любовь и совесть» (Ю. Бондарев). Писатель углубляется в этику, уходит в публицистику.
Намеренно демонстрируемая антилитературность (идущая от неприятия литературы – «все прочее – литература» – как беллетристики) связана и с процессом все нарастающего внимания к самой личности писателя, к основам его этики, к началам его работы. К писателю идут как к исповеднику и ждут от него подчас прямых «указаний», прямых и авторитетных советов. (А. Курчаткин в одном из выступлений перед читателями объяснил, что раньше, мол, были священники, перед которыми исповедовались, каялись, от которых ждали проповеди, – теперь место священников заняли прозаики. Хотя такое мнение вызвало у читателей улыбку, но доля истины здесь есть.)
Противоположен такому бессюжетно-исповедальному типу рассказа, где авторская позиция выражена недвусмысленно и однозначно, рассказ, где автор умышленно «убирает» свой голос.
Авторская позиция может быть развита в самом повествовании, во взаимоотношениях героев. Для выражения авторской позиции писатель в этом случае пользуется иными, не дидактическими и не риторическими средствами.
Буйвол Широколобый в рассказе Ф. Искандера – своеобразный патриарх расстилающегося вокруг прекрасного мира; правда, есть и свои опасности, есть и свой «ад» – бойня, или «там, Где Лошади Плачут». В спокойной, неторопливой эпической манере повествования, столь соответствующей, аккомпанирующей характеру и поведению главного героя, мы не найдем ни единого слова от автора. Перед нами постепенно разворачивается житие буйвола, картины его детства сменяются эпизодами зрелости; а непонимание буйволом того, куда и зачем его везут, вступает в резкий контраст с нашим читательским априорным знанием того, что непокорного, сильного, мудрого буйвола везут не куда-нибудь, а на бойню.
Ф. Искандер подключился здесь к авторитетной отечественной традиции изображения действительности через взгляд и изображение сознания животного (вспомним «Холстомера» Толстого, «Изумруд» Куприна, «Каштанку» Чехова). Буйвол Широколобый являет собой саму естественную красоту здоровой жизни природы, ее соразмерность и величие, простоту и уравновешенность. В самом деле, буйвол – вседержитель своей вселенной: «…и ворона, выклевывающая клещей, и черепахи, лежащие на спине, были приятны главным образом тем, что они были признаками мира, спокойствия, отдыха. И он чувствовал всем своим мощным телом, погруженным в прохладную воду запруды, этот мир и спокойствие, это высокое голубое небо и это жаркое солнце, сама жаркость которого и дает почувствовать блаженство прохладной воды». Буйвол спокоен, окружающий живой мир природы живет под его защитой. Он – олицетворение силы, исполняющей «закон жизни».
Как и в рассказе В. Астафьева «Медвежья Кровь», мир в «Широколобом» принципиально разделен на живой (мир жизни природы, культуры, счастья, земли и неба, добрых людей и сильных, прекрасных, здоровых животных) и мертвый (мир насилия, смерти, тлена, вони). Вольному воздуху луга и моря противостоит не только запах равнодушного железа и разгоряченного асфальта, по которому везут Широколобого на убой, но и вонь, идущая из пасти разъяренного медведя, посягнувшего на буйволенка. В мире природы тоже есть своя жизнь и своя смерть, свет и тень, прекрасное и безобразное. Но в основном, как и в рассказе В. Астафьева, прекрасный мир природы противопоставлен насилию над ней. Люди четко разделяются по своему отношению к живому миру. Если для весовщика буйвол – это всего лишь мясо, «девятьсот пятьдесят пять килограммов», то для пастуха Бардуши Широколобый – это чудо природы, перл создания, яркая индивидуальная личность: «– Такого буйвола… – сказал Бардуша, и вдруг в голове у него смешалось все, что он думал о Широколобом – могучая память, трогательная привязанность к буйволицам, сила, храбрость, чувство собственного достоинства, – и он, не зная, о чем сказать, добавил: – Больше на свете нет… Он рог сломал в драке другому буйволу. Понимаешь, рог!»
Был когда-то Великий Буйвол, сломавший деревянные ворота бойни, ушедший в горные леса; а Широколобый воспринимается пастухом как последний Буйвол на свете.
Ф. Искандер воссоздает наивное сознание, наивное восприятие мира. Хотя повествование ведется от третьего лица, на многое мы смотрим глазами Широколобого, и слово в рассказе не просто воспроизводит действие, а находится в постоянном контрасте с реальным событием. Отсюда – особое эмоциональное напряжение рассказа. Ф. Искандер тормозит действие. Если представить себе фабулу рассказа как отрезок прямой линии – от начала, где буйвола вгоняют в машину, до конца, где к упавшему буйволу стремительно приближается катер с отстрельщиками, то сюжетом рассказа будет постоянное нарушение этой прямой, постоянное и настойчивое возвращение к предыдущим событиям жизни буйвола. Прямая неожиданно обогащается ветвящейся и изгибающейся, живой, пульсирующей «кривой», как бы пытающейся укрепиться, уцепиться за предыдущую жизнь; но прямолинейное движение вперед неизбежно и неумолимо. И когда в самом финале Широколобый уплывает в море – наконец-то осуществляя свою мечту о вольном морском просторе, – то это не что иное, как последний изгиб живой «кривой», борющейся с прямой линией. Борьба сюжета с фабулой, изгибы сюжетной кривой – это борьба Широколобого за свою жизнь, за свое достоинство. И хотя мы понимаем, что печальный конец неизбежен, автор завершает рассказ не на смертельном исходе (последней точке отрезка прямой), нет, он оставляет это за пространством рассказа; несмотря на жестокую реальность, финал построен на резком контрасте, несовпадении с сюжетной развязкой. «Свобода моря была такой огромной, а люди, даже если они несут несвободу, были по сравнению с морем такими маленькими в своей маленькой лодке, что при столь смехотворном соотношении сил и беспокоиться было нечего. Шум мотора нарастал». Но и это еще не финал.
Неожиданно завершая повествование пейзажем, облитым мягким светом закатного солнца, Ф. Искандер парадоксально добился гораздо более сильного эффекта, чем от прямого изображения убийства буйвола (или даже сухого авторского сообщения о происшедшем). Почему же примиряющий этот свет так сильно действует на нас, больно сжимая сердце? В возвышенно-торжественном утопическом пейзаже, где и горы, и море, и город едины и обласканы солнцем, заключен идеал автора: «Белые дома города и мягкие, пушистые холмы над ними, и цепи дымчатых гор, уходящие в бесконечность неба, и далекие, но различимые для любящего глаза пятна голых утесов над Чегемом – все, все утопало в примиряющем свете закатного солнца». Автор завершает на наших глазах картину прекрасного мироздания, указывая нам – нет, не морально, не назиданием или нравоучением, а невероятной красотой мира – истинную высоту предназначения всего живого.
Размышляя о знаменитом бунинском рассказе «Легкое дыхание», Л. Выготский писал: «Это рассказ не об Оле Мещерской, а о легком дыхании; его основная черта – это то чувство освобождения, легкости, отрешенности и совершенной прозрачности жизни, которое никак нельзя вывести из самих событий, лежащих в его основе»18.
Именно контрапункт внешнего и внутреннего, подспудного течения в рассказе обеспечивает его многомерность, глубину. Иначе повествование останется лишь материалом к рассказу, может быть, и забавным, и сюжетно организованным – но не более того.
Вспомним историю создания гоголевской «Шинели». В основе ее лежит анекдот, рассказанный Гоголю друзьями, история о том, как некий чиновник, долго копивший деньги на ружье, совершив наконец драгоценное приобретение, на первой же охоте его потерял и с горя чуть не умер, если бы сердобольные собратья-чиновники, скинувшись, не купили ему новое ружье. Работая от этой точки, Гоголь написал совершенно о другом: не об умилительных товарищах, а о растоптанном, поруганном и восставшем человеке. Какое это имеет отношение к истории с ружьем? Самое косвенное. Наши же рассказчики зачастую останавливаются именно на самой первоначальной ступени зарождения рассказа. На анекдоте. Фабуле.
Так, в рассказе В. Муссалитина «Помоги подняться» («Новый мир», 1984, № 10) бес попутал героя – привел он домой некую Зиночку-Зинулю, а неожиданно нагрянувшая жена застала их в соответствующем виде. Герой выпутывается из создавшейся неприятной ситуации, ибо любит жену, а не Зиночку. Изменять плохо? Плохо. А не изменять – хорошо. Нравоучительно? В высшей степени. Прямолинейность названия – «Помоги подняться» – соответствует прямолинейности содержания.
Еще один рассказ В. Муссалитина – «Старые шрамы». Дядька, вернувшийся с фронта, сидит на берегу речки с племяшом Женькой. Мальчик восторженно слушает рассказы дяди, с восторгом включается в игру, представляя себя взрослым, отвоевавшим солдатом. Вокруг мир и тишина. Мораль? А вот и она: «Но если не найдут нас с тобой медали – не больно огорчайся. Ради них разве воевали?.. Вот награда нам, – он широко обводит рукой небо, реку, поле. – Это все наше, братец! Во веки веков».
В рассказе того же автора «Утренний разговор» повествователь, просыпаясь утром в «неперспективной» деревне Киселевке, слушает бабку Федосью. Тут, конечно, и уменьшительные суффиксы («спинушка», «спасибушки»), и восторженные восклицания («Ты полюбуйся, какой денек ноне!»). Читатель попадает как бы в перенасыщенный раствор восторженного умиления.
Остановимся на маленьком лирическом авторском отступлении (прошу прощения за длинную цитату, но она здесь необходима): «Ах, Федосья, ах, баба Федосья, как хочется верить тебе, что с твоим уходом, с уходом твоих товарок-соседок с этой земли не опустеет, не осиротеет твоя Киселевка, что снова возродится в ней жизнь, будут кричать и озоровать пацаны, будут плакать и жаловаться на свою долю бабы, будут хорохориться, пить горькое вино и горланить отчаянные песни мужики… Как хочется мне, чтобы осталась услышанной эта твоя потаенная мольба!»
Ясно, что хочет нам поведать автор: хорошо бы не исчезла в деревушке Киселевке жизнь, чтобы она продолжилась. Этого хочет и Федосья, потому и не перебирается на центральную усадьбу.
Автор старается выражаться, так сказать, литературно. Поэтому он и прибегает к известным синтаксическим приемам, в частности – повторам, дабы усилить, укрепить у читателя впечатление. В. Муссалитин и начинает-то с жаркого восклицания, которое, скажем, совершенно невероятным стилистическим «казусом» смотрелось бы в эстетически безупречной прозе В. Распутина: двойное «ах». И наконец, пожелание повествователя, которое будто бы совпадает с Федосьиным: ему очень хочется верить, что после смерти Федосьи здесь опять «будут плакать и жаловаться на свою долю бабы», а также «будут… пить горькое вино» мужики. Завела, заманила ветвистая фраза, и объективно оказалось, что «потаенная мольба» Федосьи – это мольба о пьянстве мужиков и слезах женщин!
Так стилем разрушаются и моральные выводы В. Муссалитина. Навязчиво-очевиден нравоучительный «антипотребительский» вывод в рассказе А. Ткаченко «Моторный друг».
Как только прочтешь про то, что из салона разбитого «жигуленка» выпал роман А. Хейли «Аэропорт», этот типичный пример «моторной» масскультуры, а также про «мертвенный холодок настывающей поролоновой куртки», – сразу поймешь, против чего выступает автор и за какие моральные ценности он голосует.
Вот этот-то слишком короткий «привод» – от текста к выводу – и тревожит. Настораживает меня эта прямая – как известно, кратчайшее расстояние между точками.
Обратимся опять к Л. Выготскому, к его классическому анализу «Легкого дыхания». Выстроив сложный структурно-композиционный рисунок рассказа, ученый пишет: «Прямая линия – это и есть действительность, заключенная в этом рассказе, а та сложная кривая построения этой действительности, которой мы обозначили композицию новеллы, есть его легкое дыхание… События соединены и сцеплены так, что они утрачивают свою житейскую тягость и непрозрачную муть; они мелодически сцеплены друг с другом, и в своих нарастаниях, разрешениях и переходах они как бы развязывают стягивающие их нити; они… соединяются одно с другим, как слова соединяются в стихе».
Проста фабула рассказа В. Кондратьева «Асин капитан». Лейтенант, идущий из госпиталя к «своим», случайно встречает знакомую девушку, в которую он был влюблен до войны. Ночной разговор, появление близкого Асе (так зовут девушку) сильного человека, капитана; его деликатный уход, последние часы встречи. Вот и все. Но рассказ очень непросто выстроен. Начнем с названия: почему «Асин капитан»? Ведь рассказ-то не о нем? Уже название намечает ту линию, которая будет идти параллельно истории Аси. В. Кондартьев всячески уходит от «прямой». Рассказчик уводит то в одно, то в другое время, то в «настоящее» – время рассказывания, то в военное прошлое, а уже оттуда – в довоенное время. Слои времени как бы просвечивают один сквозь другой, переливаются; и сквозь облик встреченной на фронте Аси, жестокой, нервной, испытавшей много горя за прошедшие три года, мерцает та, прежняя калужская девушка, к которой так боялся подойти герой. Вроде бы и не виноват он перед Асей, но томит, мучает его чувство душевной вины, которую он никак не может избыть сегодня… Ведь не он же, в самом деле, виноват в ее тяжелой судьбе! Никакого морализирования, никаких «выводов» нельзя обнаружить в этом рассказе, но смысл его богаче прямолинейных нравоучений.
Ни авторских размышлений, ни авторских отступлений не обнаружим мы и в рассказах Б. Екимова. Лаконичные, «подбористые» рассказы Б. Екимова построены на той или иной социально важной (чаще всего – социально тревожной) жизненной ситуации. Глаз у Б. Екимова на такие ситуации и детали снайперский. Рассказы Б. Екимова словно бы неторопливо поведаны самой крестьянской жизнью; там, где следует, – с остановкой, с подробностью; там, где ничего существенного, на сельский взгляд, не происходит, – с прочерком. Каков из себя, скажем, герой рассказа «Музыка в соседнем дворе» Матвей, мы так и не узнаем; однако автор не преминет сообщить, что свояк и свояченица, приславшие Матвею и его жене Таисе вызов на хорошо оплачиваемую работу на Север, – «оба тýшистые, на подбор», что в селе сейчас «иные бабы весь рот золотом залепили». Слово героя явно окрашивает слово повествователя, вступает с ним в непосредственный контакт – и благодаря этому читатель допущен во внутренний мир героя.
Давая выговориться самой жизни, представляя ее объективно, без какого бы то ни было авторского нажима, лирического либо иронического «окраса», Б. Екимов не оценивает прямо поступки и действия своих героев. Оценку должен вынести сам читатель. Представим себе, сколько возмущения и горечи вызвал бы у В. Астафьева стреляющий в голубей бездельник Сапов, незадолго до голубей перестрелявший всех кур у себя на дворе. Нет, не хочет работать Сапов, ни за что ни хочет, хочет он лишь, как сам выражается, «жрать». Посылает жену пасти личных коров да кормиться у людей; катится он неостановимо, все ниже и ниже, и ничего не выходит из благих предприятий управляющего колхозным отделением Чапурина по «спасению душ» таких, как Сапов. Логика Чапурина («Как не стыдно?») недоступна ни Сапову, ни его приятелю, пришедшему из тюрьмы. Чапурин из последних сил бьется, а Сапов знай себе ворует, да еще и жеребую кобылу забивает до смерти… Интонация повествования остается в высшей степени ровной. Но – не бесстрастной, ибо авторская точка зрения на происходящее является более чем оправданной. Но авторская позиция, позиция Б. Екимова, сложна, невзирая на всю очевидную простоту его рассказов. Рассказы рождены из потребности уяснить, понять жизненную проблему, поставить вопрос, поделиться своей болью – по поводу вот таких Саповых, ни за грош спускающих собственную жизнь. Проза Б. Екимова живо наблюдательна, точна и социологична. Не «художественностью» берет Б. Екимов, а искренностью и неравнодушием к предмету. Б. Екимов остро ставит ту или иную наболевшую проблему, не предлагая решения (да оно и невозможно), но призывая читателя задуматься – над такими типами отношения к жизни, скажем, как тип, воплощенный им в «мертвой душе» – Сапове или в прирожденном хозяине Чапурине.
Но из всего вышесказанного не следует, что Б. Екимова волнуют в первую очередь – и прежде всего – лишь хозяйственно-экономические проблемы. «Живая душа» – так называется один из его рассказов. Души живые и мертвые души – вот где проходит четкая граница между героями Б. Екимова. Живая душа – это и многострадальная молодая вдова Раиса («Человек для Раисы»), оставшаяся с двумя детьми без мужа, умершего по пьяному делу у чужой бабы, Раиса, которая все «по дружечке» тоскует (а бабки все ищут ей «партию», и иного, чем переписка с заключенным, придумать не могут – нет свободных, да работящих, да непьющих мужиков в деревне); это и мальчик Алеша Тебякин по прозвищу Быча, спасающий брошенного людьми, неучтенно появившегося на свет бычка (корова яловой числилась; главное для «мертвых» душ – как числится! О бессмертная «арифметика»!), это и Матвей («Музыка в соседнем дворе»), которого, несмотря на соблазн больших денег, не отпускают родные места. В этой своей твердой надежде, в уповании на душу живую, естественную, добрую Б. Екимов близок к Ф. Искандеру.
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе