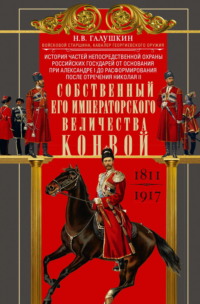Читать книгу: «Собственный Его Императорского Величества Конвой. История частей непосредственной охраны российских государей от основания при Александре I до расформирования после отречения Николая II. 1811— 1917», страница 3
После него короткое время был имамом Гамзат-Бек, павший от рук убийцы, и имамом Чечни и Дагестана стал Шамиль, родившийся в 1797 году в Гимрах. Сделавшись имамом, Шамиль помирил враждовавших между собою горцев и собрал десятки тысяч отчаянных храбрецов мюридов, давших обет посвятить все свои силы и жизнь газавату. Война между горцами и русскими отличалась невероятным упорством и стоила огромных жертв. Обе стороны были достойны друг друга. Русская Кавказская Армия прославилась своей доблестью, ее противник – горцы – храбростью и упорством в бою. Первое чувствительное поражение было нанесено Шамилю в 1839 году, когда, несмотря на упорное сопротивление горцев, русскими был взят аул Ахульго, причем был захвачен в плен один из сыновей Шамиля; ему же самому удалось прорваться и бежать.
6 июня 1845 года после ожесточенного боя была взята сильно укрепленная и неприступная резиденция Шамиля, аул Дарго. Шамиль ушел в Кабарду. В дальнейшей борьбе Шамиль нес поражение за поражением. Ряды его приверженцев таяли, и многие горские племена перешли на русскую сторону. В 1859 году был взят аул Ведено. Шамиль с остатками горцев укрепился на горе Гуниб. 25 августа после отчаянного сопротивления горцев пал последний оплот Шамиля – аул Гуниб, в котором он с 600 мюридами, оставшимися ему верными, сражался до конца с геройскими, как и его горцы, Кавказскими войсками.
С взятием Гуниба закончилось покорение Восточного Кавказа, и в дальнейшем понадобилось еще пять лет для покорения Западного Кавказа, когда и была закончена многолетняя Кавказская война. Сдавшемуся князю Барятинскому Шамилю, по Высочайшему повелению, в знак уважения к его храбрости, было возвращено оружие.
В память доблести всех кавказских героев в городе Тифлисе был учрежден военный музей – Храм Славы. В нем было собрано много батальных картин лучших русских художников, посвященных богатырям Кавказа: Ермолову, Воронцову, Барятинскому, Котляревскому, Слепцову, Мадатову и героям офицерам, солдатам и казакам; Кази-Мулле, Шамилю и его храбрым мюридам и всем кавказцам, покрытым ореолом славы, чести, доблести и благородства.
Вождь горцев имам Шамиль с семьей, родственниками и слугами был отправлен в Калугу, где свободно жил без каких-либо моральных унижений в предоставленной ему обстановке. На его содержание Русское Правительство ассигновало 20 тысяч рублей. Сам Император часто навещал Шамиля и подолгу с ним беседовал. Шамиль искренне жалел о войне с русскими и завещал горцам всегда быть верными России.
14 февраля 1865 года Шамиль из Калуги писал князю Барятинскому по случаю окончательного покорения Кавказа: «…от души радуюсь великому событию, которое принесет для Кавказа полное спокойствие и счастье…» Тот же Шамиль на призыв из Константинополя возобновить борьбу против русских ответил: «Глуп тот человек, который при сиянии солнца зажигает свечу, чтобы ему было еще светлее. Государь дает мне много очень ясного света. Зачем же я стану зажигать свечу?..»
Те западноевропейские государства, которые поддерживали Шамиля в его борьбе против русских и обещали ему корону «Королевства Кавказского», бросили его и его семью после падения Гуниба. Многие кавказские племена последовали их примеру. И только Русский Царь и победитель Шамиля князь Барятинский приняли великодушное, воистину достойное участие в этом благородном и исключительно одаренном человеке и в судьбе его семьи. Особенно трогательна сердечная дружба, которая была заключена между побежденным имамом Шамилем и его победителем князем Барятинским. Дружба эта сохранилась нерушимой до самой смерти Шамиля. Чувствуя приближение своей смерти, Шамиль, с разрешения Государя Императора Александра II, оставил Россию и уехал в Мекку. Умер Шамиль в Медине в 1871 году.
Прошли годы. Забыты были вражда и войны на Кавказе. Почти 70 лет народы Кавказа жили в мире и дружбе со своими победителями, перенимая взаимно друг у друга лучшие стороны каждого, как то: одежду – черкеска стала законной формой Кубанских и Терских казаков, адаты куначества (кровная дружба) и прочее. С другой стороны, горцы принимали от русских культурный уклад жизни, просвещение и образование. Горцы пользовались правами наравне с Кавказскими казаками. Как у одних, так и у других был один и тот же земельный надел. Надел этот колебался, в зависимости от местности и качества земли, в среднем от 7 до 14 десятин. Горцы, храня свой уклад жизни и обычаи, были совершенно свободны в пользовании родным языком и в исповедании своей религии. Кроме этой свободы, им Высочайше было даровано право иметь свои суды – «по шариату» (законы, основанные на мусульманской религии). Все проступки горцев против Российских законов могли быть судимы этими судами (исключение – уголовные дела).
Дабы предоставить народам Северного Кавказа полную свободу, они были освобождены от отбывания воинской повинности. Но, помня завет Шамиля быть всегда верными России и желая это доказать на деле, в Русско-японскую войну горцы добровольно сформировали Терско-Кубанский конный полк.
В 1-ю Великую войну, на основании единодушного постановления Съезда представителей всех народов и племен Северного Кавказа, горцами была создана Кавказская Конная Туземная дивизия в составе шести полков. По личному желанию Государя Императора Николая II командование этой дивизией принял брат Его Величества Великий Князь Михаил Александрович.
В борьбе с большевиками горцы приняли самое активное участие. В состав Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) они входили целыми бригадами и дивизиями, как Черкесская дивизия и Кабардинская бригада (одно время – дивизия).
Вторая мировая война принесла горцам много надежд, но еще больше горя, унижения и страдания. В 1945 году они вместе с казаками были преданы на расправу большевикам. Их вождь, доблестный генерал Султан Келеч Гирей, погиб в Москве лютой смертью вместе со своими кунаками, казачьими боевыми генералами. По приказу палача Сталина, после жестокостей и избиения, были высланы в Сибирь на верную смерть десятки тысяч горцев, в том числе полностью племена чеченцев, ингушей, кабардинцев и других народов Северного Кавказа.
Входившие в состав 1-го взвода Л.-Гв. Кавказского Горского эскадрона грузины были лучшими представителями древнейшего христианского Царства Грузинского, которое в течение многих веков отстаивало свою самостоятельность от турок и персов. В результате этой борьбы православные грузины просили помощи у русских еще во времена Иоанна Грозного и Бориса Годунова.
В 1725 году грузинский царь Вахтанг с князьями, дворянами, 6 епископами, 14 архимандритами, монахами и слугами (1185 душ) бежал в Россию. Все беженцы получили жалованье и продовольствие от русской казны. В дальнейшем грузины-беженцы выразили желание принять российское подданство и вступить на русскую военную службу. Государыня Анна Иоанновна повелела исполнить просьбу грузин, учредив для отправления ими военной службы «Грузинскую гусарскую роту». Указом от 25 марта 1738 года было повелено отвести грузинам-беженцам землю на Украине в вечное потомственное владение.
В XVII веке положение Грузии было настолько трагично, что для нее существовало только два выхода: сделаться добычей Турции и Персии или же искать обеспечения спокойствия для мирного развития и гражданского правопорядка в тесном единении с единоверной Россией. Грузия, лишенная в борьбе с врагами цветущей православной цивилизации, истощенная внутренними раздорами, не могла сохранять политическую самостоятельность.
В 1783 году было формально установлено покровительство России над Грузией. Успешное выполнение этого покровительства всего более зависело от слияния Грузии с Россией, к чему обстановка на Кавказе и привела.
В 1801 году Император Павел I издал манифест об окончательном присоединении Грузии к Российской Империи.
В присоединении Грузии к России совершенно нет элемента завоевания; здесь только помощь изнемогающему, единоверному, благородному грузинскому народу. Но для связи с присоединенной новой обширной областью надо было устранить с путей сообщения России с Грузией беспокойный элемент, гнездившийся в горах Кавказа и препятствовавший мирной жизни на сотни верст кругом.
Когда эта задача была выполнена, началась новая эра в жизни Кавказа. Русские внесли свою лепту в сокровищницу седых обычаев Кавказа, обратившихся постепенно в целый кодекс нравственных норм и законов для блистательной Кавказской Армии.
…Честь быть первым командиром Собственного Его Императорского Величества Конвоя, по Высочайшему повелению, принадлежала представителю Грузии флигель-адъютанту полковнику князю Петру Романовичу Багратиону.
Кроме горцев Кавказа, в Императорском Конвое известное время имели честь служить и представители крымских татар. В 1825 году, при посещении Императором Александром I Благословенным Крыма, местное татарское дворянство во главе с генерал-майором князем Балатуковым изъявило желание сформировать один эскадрон крымских татар, на что тогда же последовало Высочайшее соизволение. Порученное генералу князю Балатукову формирование Л.-Гв. Крымского татарского эскадрона через два года было закончено.
В 1860 году среди населения крымских татар и ногайцев разнесся ложный слух о насильственном переселении их в Россию и о рекрутском наборе жителей Крыма. Татары заволновались, и до 230 тысяч семейств их ушло в Турцию. Ногайцы ушли все поголовно. В Крыму осталась У бывшего населения.
Ввиду этого Государь Император 26 мая 1863 года повелел Л.-Гв. Крымский татарский эскадрон упразднить. Взамен его содержать из остающегося в Крыму татарского населения, в составе Собственного Его Величества Конвоя, особую команду Л.-Гв. Крымских татар, с причислением ее, сверх комплекта, Л.-Гв. к Кавказскому Казачьему эскадрону.
Команду приказано было разделить на три смены и присылать в Петербург через каждые два года. Состав смены: 1 унтер-офицер и 6 рядовых. При этих трех сменах иметь по одному офицеру, но только из крымско-татарских фамилий и не выше чина штабс-ротмистра. Кроме того, в каждую смену допущен, сверх комплекта, один юнкер из татарских мурз.
18 мая 1890 года команда Крымских татар Конвоя была расформирована.
Глава 3
Линейцы (1832–1861)
В 1832 году по повелению Государя Императора Николая I сформирована команда Кавказских Линейных казаков Собственного Его Величества Конвоя.
Команда была выбрана из находившегося тогда в Царстве Польском Сборного Линейного казачьего полка. Полк состоял из представителей восьми полков Кавказских Линейных казаков и находился в ведении Главнокомандующего армией графа Паскевича-Эриванского.
Линейцами именовались казаки, находившиеся на укрепленной линии Кавказа, служившей защитой против вторжения и набегов горцев.
Впервые на Кавказе русские войска появились в 1559 году, но еще задолго до этого у берегов Каспийского моря и на гребне Кавказских гор, среди горских племен, поселились казаки – предки Гребенских и Терских казаков. Уже в 1550 году Волгскими казаками был основан город Терки.
Вначале у поселившихся на Кавказе казаков с горцами были мирные отношения, но потом горцы стали вторгаться в казачьи земли, для защиты которых строились укрепленные линии.
Первая укрепленная Линия, Азовско-Моздокская, была основана в 1774 году. Эта Линия, согласно проекту князя Потемкина, утвержденному Императрицей Екатериной II в 1777 году, была заселена Волгскими и Хоперскими казаками.
Жизнь Линейцев на Кавказе, как и их братьев Черноморцев, была исключительно тяжелой: вечные нападения горцев, постоянная борьба как с ними, так и с природою, тяжелая воинская повинность – все это создавало особую суровую боевую обстановку. Кавказская Линия состояла из отдельных небольших крепостей, постов и батарей, находившихся друг от друга в 10–15 верстах; они были окружены небольшим рвом, огорожены терном и колючим кустарником. Все эти крепости, посты и батареи помещались на каком-нибудь открытом месте, часто на кургане, имея традиционную вышку, где находились часовые.
Тут же, на посту, устанавливалась высокая жердь, обмотанная пенькой и смолой, так называемая «фигура» или «веха». Вспыхнувшая во мраке смоляная фигура и зловещий колокольный набат ближайшей станицы по тревоге поднимали кордонные посты Линии, и казачьи конные команды неслись к угрожаемому месту или же атакованному горцами пункту.
Как и посты, станицы огораживались рвом с плетнями и оградами из терновника. В ограде оставалось несколько ворот, у которых стояли сторожевые вышки с постоянными наблюдателями-часовыми. По углам станицы находились пушки. В то неспокойное время казачьи станицы были в постоянной опасности и в готовности отразить врага. Это создавало особый уклад жизни и всего казачьего обихода. При нападении горцев по всей Линии зажигались сигнальные вехи, служа казакам своеобразным «телеграфом», объявлявшим тревогу.
Пространство между постами и станицами было занято пикетами («бикетами») и резервами («лизертами»). На ночь высылалась «залога», состоявшая из одного-двух казаков, которые залегали в особо важных местах. Обычно залога линейцев была в камышах, плавнях и вообще в таких трущобах, которые были известны только им одним и где проводили они целые ночи под дождем, вьюгою и непогодой, составляя все вместе «живую изгородь» на рубеже Русской земли. День и ночь казаки зорко и бдительно несли сторожевую службу: на постах, в разъездах, в секретах и в заставах.
Горцы, в своих отважных и беспрерывных набегах на Линию, проникали в глубь пограничных станиц, поджигали и уводили в плен жителей, грабя их имущество. Линейцы, следуя примеру своих воинственных соседей и переняв от них не только их нравы, одежду, вооружение и снаряжение, но и приемы борьбы, со своей стороны совершали набеги на горцев, ведя в течение многих лет упорную и кровавую борьбу. Характерны названия станиц Линейных казаков: Сторожевая, Отважная, Бесстрашная, Преградная, Надежная, Упорная, Передовая, Прочноокопская.
По поводу формирования команды Линейцев Конвоя, назначенной специально для личной охраны Его Величества, генерал Бенкендорф сообщил графу Паскевичу-Эриванскому следующий Высочайший Указ: «Его Императорское Величество, желая ознаменовать свое благоволение Линейным казачьим полкам за оказанную ими храбрость и усердие, Высочайше повелеть соизволил: избрать из среды их 50 человек казаков, которые составят Конвой Императорской Главной Квартиры, и, вместе с тем, дать всем чинам сего Конвоя преимущества Старой Гвардии и особенный мундир. Выбор сих 50 человек Его Величество изволил предоставить собственному распоряжению Вашей светлости».
Вновь формируемую команду было предположено наименовать Л.-Гв. Кавказско-Линейным казачьим полуэскадроном Конвоя Его Величества, в составе которого быть: командиру, не выше ротмистра, 2 младшим офицерам, 8 урядникам, 42 казакам, казначею из классных чиновников, писарю и фельдшеру. Срок службы и все содержание полуэскадрона определить по примеру Л.-Гв. Казачьего полка.
1 февраля 1832 года команда выступила из Варшавы, 7 апреля прибыла в Петербург, и уже 9-го Государь Император изволил смотреть команду в Михайловском манеже. Первыми офицерами Л.-Гв. Кавказского Линейного казачьего полуэскадрона были есаул Левашев и сотник Рассветаев. Линейцам были дарованы особые преимущества:
1. Выслужившие в Конвое положенные сроки службы получают, по возвращении в полки, синий конвойный мундир.
2. Сохраняют право на увольнение от службы по положению Гвардейской легкой кавалерии.
3. Не употребляются ни на какую службу, исключая оборону собственных станиц, если на них случится нападение горцев.
В Петербурге команда Линейных казаков была размещена в Нарвской части города, на старой 12-й роте. Во время лагерных сборов под Красным Селом они жили в палатках на том месте, где в последнее время находился вокзал железной дороги. Для лошадей был устроен деревянный навес.
В лагерях конвойцы, кроме учений, принимали участие в общих маневрах, смотрах, парадах, тревогах, а также несли ординарческую службу. Ординарцы от Конвоя, по приказанию Государя Императора, всегда стояли на правом фланге от всех других частей.
В марте 1833 года состав Линейных казаков Конвоя увеличен вдвое и разделен на две смены: служащую в Петербурге и льготную. Выбор людей и лошадей предоставлен Войсковому начальству. Срок службы в Петербурге назначен трехлетний; время смены не позже половины июля.
«Во избежание утраты воинственного духа» чины льготной части Линейцев, сохраняя гвардейский мундир, прикомандировались к полкам для участия в делах против непокорных горцев.
Л.-Гв. Кавказский Линейный казачий полуэскадрон находился главным образом в Петергофе, где казаки несли охрану Петергофского дворца, во время пребывания в нем Их Величеств. Вообще же все передвижения и служебные наряды Конвоя всегда делались на основании личных приказаний Государя Императора.
Неся службу в Петергофе, команда Линейцев, кроме наряда в сады «для наблюдения», выставляла посты: «Один казак к дому на берегу, по пути в Александрию, другой к Монплезиру и третий к Марли. Кроме того, ежедневно посылался в Александрию «на вести» конный урядник, который оставался там целые сутки».
Во время весенних прогулок Государя Императора и посещения им загородных дворцов конные Линейные казаки находились «при поставах», то есть были расставляемы в заранее намеченных местах; при этом обер-шталмейстер Высочайшего Двора заблаговременно извещал, когда и на какое место нужно выслать наряд конвойцев.
Государь Император, отбывая в 1833 году за границу для свидания с австрийским и прусским монархами, повелел команде Линейных казаков Своего Конвоя, во время его отсутствия, быть на службе при Государыне Императрице. По отбытии Государя за границу Высочайший Двор находился сначала в Царском Селе, откуда перешел в Петербург, на Елагин остров.
В 1834 году Линейцы переведены в Царское Село. С этого времени Царское Село стало постоянным местом пребывания Л.-Гв. Кавказского Линейного полуэскадрона. Находясь в Царском Селе, казаки Линейцы образцово несли службу при Высочайшем Дворе. Государь иногда лично проверял исправность и бдительность Своих конвойцев.
«19-го мая 1835 года Его Величество произвел команде линейное учение по тревоге, закончившееся стрельбою с джигитовкою. За изумительную быстроту сбора по тревоге, ловкость стрельбы и лихую езду офицеры удостоены Монаршего благоволения, казакам Государь объявил Свое Царское спасибо и приказал выдать в награду каждому по 2 рубля и улучшенный обед с двумя чарками вина».
В том же году Линейцы выступили в поход, составляя охрану Императорских лошадей и обоза, отправленных в город Калиш. В Калише, при штаб-квартире Действующей Армии, состоялся Высочайший смотр в присутствии короля Прусского, во время которого Государю Императору угодно было представить королю Своих конвойцев. За лихую джигитовку все казаки Императорского Конвоя, с разрешения Государя Императора, королем были награждены прусскими медалями.
После смотра Государь Император Николай I отбыл за границу, повелев командировать в город Данциг урядника Подсвирова и казака Рубцова, которые за все время пребывания Государя в Богемии находились при нем.
В 1836 году урядник Подсвиров определен к Высочайшему Двору камер-казаком. По свидетельству генерала Бенкендорфа, Подсвиров выделялся «отличным поведением, трезвостью, а в повиновении начальству всегда служил примером своим товарищам, а с тем вместе росту очень большого и наружности самой удовлетворительной». Таков был первый камер-казак, впоследствии выбираемый из казаков Императорского Конвоя.
Ввиду предстоящей поездки Государя на Кавказ туда же выступил походным порядком взвод казаков Линейцев Конвоя под командою хорунжего Фирсова и взвод горцев под командою князя Айдемирова. Конвойцы направились в город Ставрополь, откуда были переведены в крепость Владикавказ. Место встречи Государя было предоставлено распоряжению командира Кавказского корпуса, генерала барона Розена.
Кроме взвода хорунжего Фирсова, выехал в город Вознесенск Херсонской губернии штабс-ротмитстр Рассветаев с нарядом Линейцев для встречи Государя и с казаками, сопровождавшими Царских лошадей. В Вознесенске, в ожидании Царского смотра, находился в полном составе 5-й пехотный корпус и конница с конной артиллерией.
Государь прибыл в Вознесенск 18 августа, и в тот же день состоялся Высочайший смотр кавалерии. Просторное поле близ города было заполнено 350 эскадронами конницы и 144 орудиями конной артиллерии. Встреча от Конвоя, штабс-ротмистр Рассветаев и четыре конвойца, находилась на главном пункте общей встречи. В Вознесенске собралось все Царское Семейство, прибыл и Великий Князь Михаил Павлович.
После смотров и парадов, завершившихся маневрами, Государь с Наследником Цесаревичем и Великим Князем Михаилом Павловичем отбыл в Одессу, откуда направился в Крым, в Бахчисарай и Массандру.
22 сентября «Северная Звезда» под Императорским Штандартом стала на Геленджикском рейде и через пять дней прибыла в Редут-кале. Седой Кавказ сверкал и переливался своими вечными снегами. Император Николай I на Кавказе был встречен генералом бароном Розеном и в его сопровождении направился к Кутай су. В нескольких верстах Государя ожидал владетель Мингрелии князь Дадиани. Его Величество изволил остановиться на ночлег в доме князя, в Зугдиди. Почетный караул из князей Мингрельских приветствовал Императора. 28 сентября Государь отбыл далее, провожаемый знатнейшими лицами Мингрелии и князем Дадиани. На границе Имеретии мингрельцев сменили знатные князья и дворяне имеретинские. В Кутаисе был царский ночлег, охранявшийся почетным караулом от тех же лиц. 29-го числа Императору Николаю I представились владельцы сванетские, князья Михаил и Татархан, Додешкильяни, и князья Цебельдинские.
После осмотра города Государь с блестящим конвоем направился к границам Грузии и был встречен цветом грузинской аристократии и почетными старшинами ближайших осетинских аулов.
От самого Редут-кале Государь следовал по дороге, вновь устроенной для удобного сообщения Грузии с берегом Черного моря. Через Сурамский перевал Государь прибыл в Ахалцых. У «Страшного Окопа» он принял почетнейших беков и армян-переселенцев из Эрзерума. В Ахалкалаках приветствовали Государя беки и почетнейшие старшины ахалкалакские; в Гумрах (Александрополь) – армянские старшины, переселенцы из Карса. Государь Император, сопровождаемый чинами Собственного Конвоя, все время следовал и среди конвоя от местных национальностей, быстро сменявшихся. В Гумрах Государь принял эрзерумского сараскира, прибывшего с поздравлениями от турецкого султана. На границе Армении ожидали Русского Императора знатные беки, мелики и куртинские старшины.
Конница Кенчерли, под командованием нахичеванского наиба полковника Эсхан-Хана, встретила Царский кортеж на пути к Эчмиадзину. У монастыря ожидал патриарх всех армян Иоаннес, верхом, с двумя шатирами (скороходами) и почетной стражей из 50 армян. Осмотрев достопримечательности монастыря, Государь посетил патриарха и принял от него в дар частицу Святого Креста Господня. Патриарх обратился к Императору Николаю I со следующими словами: «Знамение победы Животворящего Креста да сопутствует Тебе и всему потомству Твоему, против видимых и невидимых врагов, отныне и до века. Аминь!»
Пребывание в Эчмиадзине закончилось смотром знаменитой конницы Кенчерли, после чего Государь Император отбыл в Эриван, где принял персидское посольство, во главе с наследным принцем Валиатом, прибывшим с поздравлениями от падишаха.
8 октября Государь прибыл в Тифлис и принял представителей Закавказского края. 11-го числа грузинские князья и дворяне собрались верхом на площади перед дворцом и в Высочайшем присутствии произвели джигитовку, закончившуюся разными национальными играми. В течение четырехдневного пребывания в Тифлисе Государь посетил бал, данный грузинским дворянством, подробно ознакомился с городом и произвел смотр войскам гарнизона.
12 октября в шесть часов утра Император Николай I отбыл во Владикавказ и ночевал у подножия главного Кавказского хребта, в Квишхети. Дальнейший переезд через горы был совершен исключительно верхом. Путь этот был труден и опасен, так как вся дорога при сильном морозе покрылась льдом. Государь Император Николай I в письме к князю Паскевичу от 21 октября 1837 года, подробно описывая путешествие по Кавказу, подтвердил эту трудность и опасность, закончив письмо следующими словами:
«…Да, забыл было сказать, что, выезжая из самого Тифлиса, на первом спуске, Бог нас спас от явной смерти. Лошади понесли на крутом повороте вправо, и мы бы непременно полетели в пропасть, куда уносные лошади и правые коренные и пристяжная упали через парапет, если бы Божия рука не остановила задних колес у самого парапета. Передние колеса на него уже съехали, но лошади, упав, повисли совершенно на воздухе за одну шею, хомутами на дышле, сломали его, и тем мы легко опрокинулись налево с малым ушибом…
Признаюсь, думал я, что конец мне; ибо мы имели время обозреть и разглядеть, что нам не было никакого спасения, как в Промысле милосердного Бога, что и сбылось. Ибо «живый в помощи Вышнего в крове Бога небесного водворится». Так я думал, думаю и буду думать…»
Перевалив горы, Государь ехал верхом вдоль Терека до Казбека и прибыл на ночлег во Владикавказ. Штабс-ротмистр Рассветаев, с нарядом Линейцев-конвойцев, сопровождавший Государя во время путешествия по Кавказу, во Владикавказе соединился с взводами Конвоя, ротмистра князя Айдемирова и хорунжего Фирсова. 14 октября удостоены представления Его Величеству депутаты от разных горских народов, проживавших за Тереком.
Из Владикавказа Государь в сопровождении Своего Конвоя проследовал в Екатеринодар, где особенно торжественно был встречен Атаманом и представителями всего Черноморского Войска. Дальнейший маршрут Государя Императора был: Пятигорск с его минеральными водами, города Георгиевск и Ставрополь. Во всех этих местах царские ночлеги охранялись Собственным Императорским Конвоем.
За отличную службу конвойцам Высочайше пожалованы награды: штабс-ротмистру Рассветаеву – орден Св. Владимира 4-й степени и тысяча рублей, хорунжему Фирсову – чин поручика Гвардии, уряднику Евсееву – чин хорунжего, с определением в один из казачьих линейных полков, 4 урядникам – по 100 рублей и 21 казаку – по 50 рублей. Все казаки Конвоя, сопровождавшие Государя в его путешествии по Кавказу, произведены в урядники, с оставлением в Гвардии, на казачьих окладах. Из горцев Конвоя князь Айдемиров получил 2 тысячи рублей, 5 юнкеров произведены в корнеты армейских кавалерийских полков, 4 юнкера и 3 оруженосца награждены золотыми медалями «За усердие» на Анненской ленте, для ношения на шее, и 8 оруженосцев произведены в юнкера, но с оставлением на старом окладе.
Покинув Кавказ, Государь отбыл на Дон. Собственного Конвоя казаки были отпущены на льготу, так как в Петербург прибыла их смена. Горцы получили трехмесячный отпуск в свои дома.
10 декабря в Петербурге, в Зимнем дворце, взвился Императорский Штандарт, возвестивший о благополучном прибытии Государя Императора Николая I из далекого и опасного путешествия. Выражение покорности горскими представителями давало светлые надежды на умиротворение всего края. Но, к сожалению, потребовалось еще четверть века борьбы с враждебными племенами горцев, усмиренных только силою русского оружия.
В сентябре 1840 года состоялся торжественный въезд в столицу Государыни Императрицы с высоконареченной невестой Наследника Престола, принцессой Марией Гессен-Дармштадтской. В этом торжестве участвовал весь Конвой Его Величества, включая и вновь прибывшие на смену команды Линейных казаков.
3 сентября Высочайший кортеж двинулся по дороге из Гатчины в Царское Село, в сопровождении двух команд Линейных казаков Собственного Конвоя и эскадрона Лейб-Гусар.
В июле команды Линейцев были командированы в местечко Княжий Двор, Новгородской губернии, в города Варшаву и Гомель. Каждая команда, в составе 1 офицера и 5 казаков, обязана была следовать за Государем Императором на все смотры, учения и маневры, составляя часть Государевой Свиты. Кроме того, при Государе всегда находились 2 трубача Собственного Его Величества Конвоя.
В Варшаве, на Высочайшем смотре войск, присутствовал король Прусский, пожаловавший поручику Фирсову орден Красного орла 4-й степени и 4 казакам прусские серебряные медали и золотые часы.
Линейцы получили эти награды за лихую ординарческую езду, для чего требовалась большая ловкость и умение владеть своим оружием. Перед представлением Государю Императору ординарцы производили джигитовку с пальбой из ружей и пистолетов. На земле, на известном расстоянии, раскладывались бумажные листы. Казаки выскакивали вперед и на полном карьере давали залп по этим листам, щеголяя меткостью своей стрельбы. В Царском Селе Линейцы не имели своего постоянного помещения и находились в одной из Кирасирских казарм, в то время как лошади их стояли в конюшне Л.-Гв. Гусарского полка. Такое неудобство было прекращено Высочайшим повелением: «Для помещения казаков Собственного Его Императорского Величества Конвоя построить вновь казарму и конюшни с принадлежностями, на избранном для того месте в Царском Селе». Новое двухэтажное здание с конюшней, ледником и кладовой было выстроено на одном из обширных дворов при артиллерийских казармах. Казаки Конвоя заняли его 23 сентября 1845 года.
Находясь в Царском Селе, команда Линейных казаков Конвоя ежедневно выставляла наружные посты под колоннадой и у Зубовского подъезда; на ночь к ним прибавлялось еще два – у Александровского нового дворца и у Большого старого. О постах внутри дворцов сведений не сохранилось, «потому что наряды были словесные». Иногда внутренние посты занимались согласно личному приказанию Государя Императора.
Офицеры в Линейный полуэскадрон не всегда назначались из природных Линейцев. В 1843 году был принят корнет Л.-Гв. Атаманского полка Леван Гурьели, племянник правительницы Мингрелии, Ее Высочества Нины Георгиевны. Точно так же был случай приема слишком молодого для должности офицера Императорского Конвоя, где требовались боевая опытность и знание службы. Так, со сменою 1843 года прибыл 13-летний корнет Алпатов. Но это был уже Георгиевский кавалер, получивший орден и офицерский чин за подвиги и мужество, проявленные в сражениях с непокорными горцами, и зачисленный в Императорский Конвой по личному желанию Государя.
14 февраля 1845 года Высочайше утверждено положение о Кавказском Линейном Казачьем Войске и в связи с этим изменен штат Гвардейских Линейных казаков. Изменение в штате последовало согласно личному указанию Государя Императора. По новому штату Линейцы имели, вместо двух, три смены. Офицеров положено шесть – по одному поручику и одному корнету в каждой смене. Казаки, прослужившие положенный срок, по возвращении в свои полки имели светло-синие мундиры конвойного образца. Правил на производство офицеров в следующие чины не было, а повышались они по усмотрению начальства, в награду за усердие к службе.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+24
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе