К классическим произведениям, особенно к русским классикам, я подхожу с большой осторожностью. Пока у меня не нашлось среди них любимых, за исключением "Горя от ума", но вот Салтыков-Щедрин уверенно приближается к тому, чтобы стать любимым автором в этой категории. Буквально с первых страниц книги я пришла в восторг от языка. Фраза:
Находясь в таких отношениях, они пользовались совместною жизнью в продолжение с лишком сорока лет
моментально стала моей любимой. Абсолютно точное и емкое описание происходящего. "Господа Головлевы" - это калейдоскоп историй, в каждой из которых на первый план выходит один из представителей семейства. Это настоящая семейная сага, которая рассказывает историю трех поколений довольно большой семьи. Правда, в каждом из них все заканчивается довольно печально - и это даже не спойлер. Для меня в первую очередь эта книга о беспросветности жизни в отсутствии любви. Не было любви между Ариной Петровной и Владимиром Михайловичем, выросли дети, не знавшие родительской любви и неспособные к ней в отношении своих детей. И получается, что нет у них в жизни опоры. Только Иудушка (вот уж действительно меткое прозвище) нашел другой стержень для жизни. Смысла, правда, в нем в итоге не оказалось, а результат весьма печальный. Пожалуй, вот это самое яркое впечатление - отсутствие смысла жизни. Вроде бы каждый персонаж постоянно чем-то занят, но занятия эти по сути бессмысленны и бесцельны. Нажитое Ариной Петровной богатство не приносит ей счастья, остаток жизни она проводит по сути в бедности. Деятельность Иудушки вообще не поддается разумному объяснению. Анничка с сестрой пытаются искать любовь, но находят только суррогат. Отдельно интересно описание быта. В частности, проскальзывает та же тема, что и в "Пошехонской старине":
Недаром у головлевской барыни была выстроена целая линия погребов, кладовых и амбаров; все они были полным-полнехоньки, и немало было в них порченого материала, к которому приступить нельзя было, ради гнилого запаха. Весь этот материал сортировался к концу лета, и та часть его, которая оказывалась ненадежною, сдавалась в застольную. — Огурчики-то еще хороши, только сверху немножко словно поослизли, припахивают, ну да уж пусть дворовые полакомятся, — говорила Арина Петровна, приказывая оставить то ту, то другую кадку.
Если во времена Пушкина бессмысленным и беспощадным был русский бунт, то у Салтыкова-Щедрина бессмысленной и беспощадной становится такая вот жизнь. Только вот неясно, будет ли толк от смены Головлевых на Галкиных...
Произведение прекрасно и самобытно, но чтобы поставить 5 из 5 не хватило чувства, которое возникает само собою и случается химия любви. Возможно от того, что сложно было ассоциировать себя с героями, которые зачастую, вызывали отторжение и оставалось восхищаться мастерством Салтыкова-Щедрина, который создал неповторимые образы бичевавшие пустословие, ложь, лицемерие и скупость.
Было безумно жаль Степку-балбеса, как первую жертву скупости Арины Петровна, но с другой стороны я себе напоминала, что это времена крепостного права и многим приходилось за кусок хлеба тяжко работать и терпеть волю барина покрепче плохого настроения маменьки. От чего Степка-балбес был таким? Какой ни была Арина Петровна, но «кусок» она ему выкинула, почему же он его так бессовестно промотал? Возможно это последствия держания в «черном теле» и когда появилась свобода Степка просто не знал, что с ней делать и пустился во все тяжкие. Как и Анинька с Любинькой вырвались из плена скучной деревенской жизни. Сыновья Иудушки практически повторили судьбу Степки. Из романа можно вывести закон причинно-следственных связей: если пометить слабый характер в тиски, вырвавшись он не сумеет совладать с собою под ударами судьбы.
А интересно то, что ни Арина Петровна, ни Иудушка всю свою жизнь не осознавали, того что творили и оказавшись одинокими на краю могилы поняли, что дороже всего на свете это близкие люди, которых уже не вернуть. Хотелось бы, чтобы автор немного копнул глубже момент осознания неправоты и раскаяния.
Читательский год только начался, но уже понимаю, что «Господа Головлевы» останутся одним из самых сильных переживаний. Пройдет немного времени, обязательно прослушаю озвучку в исполнении Бориса Клюквина.
Из личной семейной переписки покойного академика А.А. Крупицы, которую он вел в период своего путешествия по Российской Империи в конце 1880-х годов. Дорогие мои и хорошие Любочка, Лизонька и Володя! Пишу вам из милой душе и сердцу Тверской губернии, в коей оказался после того, как моя давешняя петербургская авантюра окончилась полным фиаско. Не буду вдаваться в подробности, только скажу, что деньги, занятые мною у Володи, я обязательно ему верну - как сумма необходимая сыщется, так сразу и верну. Уж не серчайте на меня, дорогие мои, хорошие... Милая моя Любочка, обещаю тебе, что впредь тятенька тебя не подведет.
Пишу, собственно, не только и не столько с тем, чтобы как-то дать отчет о моем теперешнем положении, но и затем, чтобы поделиться некими соображениями, которые возникли у меня на фоне нахлынувших воспоминаний. Да, местные пейзажи прямо-таки заставляют с головой окунуться в дни былые, а в дни юности - особенно. Все-таки для любого мужчины юность - это пора становления и взращивания в себе самом наиболее важных "внутренних черточек", тех черточек, без которых дальнейшая его жизнь не представляется ни полной, ни праведной. Любочка, я надеюсь, что у Володи хватит сил эти черточки в себе выпестовать - передавай ему сердечный от меня привет, и пусть уж он на меня не серчает.
Я, кстати, давеча почему эти черточки в кавычки взял: говоря о воспоминаниях, очень много в голове возникает образов касательно моих царскосельских однокашников, так вот один из них, помнится, постоянно оное выражение употреблял - и к месту, и не к месту. Потому и взял его в скобочки - дескать, на правах цитирования. Нам, ученому люду, подобные тонкости все одно что хлеб с маслом... Но речь не об этом. Вспоминал я тут еще одного однокашника своего - Михаила Евграфовича. С ним забавная оказия была, все над ним относительно отчества потешались - дескать, что это за имя такое "Евграф"? Почему не "Эраст" или "Олег", прости Господи?.. Знаю, что нехорошо это, да и не смешно, только вот детишки по юности часто жестокими бывают. Очень рад я поэтому, что Лизанька у вас такая сознательная и добросердечная растет - только пусть уж она на меня не серчает...
А относительно Михаила того - необычный был паренек. То ли оттого, что посмеивались над ним, то ли по иным, необъяснимым для меня причинам, был он юношей остро реагирующим и чрезвычайно требовательным ко всему, что его окружало. Чуть видел в чем-то или в ком-то какой порок - тут же такая мина у него грустная появлялась, страшно посмотреть. И наблюдательный был - этого не отнимешь. Он мне этим Володю напоминает. Помнится, как-то сказал он мне: "Отчего, дескать, столько в России имений, сама судьба которых будто бы отражена в их именовании? Погорелово, Головлёво... Отчего все у нас так паскудно названо?" (он это слово "паскудно" очень любил, этим тоже мне Володька его напоминает, только у Володи вокабуляр чуть поярче даже). Ну тут я ему и заметил (достаточно резонно): "Но помилуйте, что плохого в слове "Головлёво"? Оно же по внутренней форме своей будто бы и на слово "голова" похоже? Это разве нечто плохое подразумевает?" И тут он меня ошарашил: "В слове этом, ваша правда, голова имеется. Только голова эта тлеет и разлагается, еще при жизни владельца своего становясь головёшкой. В этом заключаются следствия тяжелого душевного запоя..."
Почему так потрясли меня эти его слова - не знаю. Но стал я с тех пор почаще с ним общаться, и общение наше с переменным успехом продолжалось вплоть до семидесятых, когда мне с кафедры пришлось уйти из-за якобы растрат казенного капитала (клевета, ей-богу, клевета, не верьте, дорогие мои и любимые, ежели кто на старика вашего наговаривать станет)... Так вот - виделся я с ним редко, но беседовать в моменты редких встреч старался с ним подольше. А так я о нем все больше слухи некоторые слышал да сплетни. Он вроде бы и в ссылке бывал, и управленцем поработать успел - хотел даже реформы какие-то на местах проводить... Стоит ли говорить, что не случилось реформ никаких. Как он мне говорил - это от отсутствия у нас в державе нужного типа. Уж не знаю, правда или нет, но по части русских типов была у него своя теория, да такая, что послушаешь ее - и прямо-таки страшно становится. По ней если русский человек не лицемер-накопитель, то однозначно беспутный растратчик, а ежели ни то и ни другое, то обязательно вообще какой-нибудь пустой фантом без свойств и без поступков. Страшно подумать - он ведь и старика вашего в свою теорию записать умудрился, только вы-то знаете, что я к вам со всей душой и деньги все верну и Лизаньке обучение оплачу потом только пожалуйста не травите меня когда я вскоре приеду я деньги найду и верну и все в срок только пусть Володя баночки свои уберет куда-нибудь хоть в подвал а то мне страшно будет не травите меня пожалуйста........*
[* - Примечание редактора: далее следуют две страницы, на которых аккуратными рядами выведены в определенной последовательности кружки и треугольники. Дальнейший текст выглядит так, как будто бы он является частью другого письма, однако криптографическая экспертиза доказала обратное. Мы печатаем его в том виде, в котором он хранится в архивах]
и на учебу Лизоньке не дал, хотя я давал, просто нужно было в одном дельце помочь - тут уж одному Богу известно, отчего дельце оное не выгорело... Ну не суть. Вспоминаю я Михаила Евграфовича и думаю - до чего же, наверное, трудно ему приходилось в окружении всех этих беспутников и распутников! Хорошо, что Бог ему меня послал - рядом со мной хоть какое-то отдохновение получить можно было. Без лишней скромности говорю, не подумайте, что возгордиться решил на старости лет! Помню, сидим мы с ним на крылечке и видим, как движется мимо нас нетвердо человек - одет прилично, стрижен недавно, а вином от него разит - хоть святых выноси! И в глазах пустота такая, будто в бездонный колодец уставился, а не на свет божий. Тут мне Михаил Евграфович говорит: "Смотри, головёшка домой покатилась". Я ему: "Это в каком таком смысле?" А он мне и отвечает: "Катаемся мы головёшками по земле. Кто на одном месте зацепиться успевает, тот подоле потлеет, а кто мечется где-то - в два дня в пепел обращается. Только истлевать всегда домой идем. Дом для не только очаг, но и костер поминальный". Сказал - и молчит. И куда-то вдаль смотрит...
Простите, дорогие мои и сердечные, что утомил вас подробностями юных моих лет, только история эта как нельзя кстати вспомнилась. Скоро буду я у вас с визитом, можно сказать, что домой вернусь, потому как, хоть у ученого люда домом считается родная кафедра, жить без вас не могу!.. Очень постараюсь найти сумму, которую Володе должен, но если не найду - уж пусть он на меня не серчает и пузырек синенький уберет я знаю что в нем я нюхал я не химик но понятия имею не травите папку не надо, а впрочем главное, чтобы все живы-здоровы были. Любонька, крепко обними и поцелуй от меня Лизашу, а Володе большой привет! К слову, есть у меня дельце, которое я бы хотел с ним обсудить - чрезвычайно новый прожект, под который можно было бы сообразить начальный капитал... А, впрочем, это потом.
Крепко целую в ожидании скорейшей встречи, Ваш преданный отец, дед и тесть Крупица А.А.
P.S. не травите меня только пусть володя пузырек уберет синий а лиза пусть мне чай не приносит я сам заварю у меня фляжечка есть
В это сложно поверить, однако погиб достопочтенный А.А. Крупица вовсе не от рук своей разоренной им же семьи, как можно было подумать ввиду содержания этого письма. Смерть опального академика, изгнанного из университета за растрату казенных денег, пьянство и систематические приставания к молодым аспиранткам, до сих пор остается загадкой. Известно лишь то, что летом 1888 года он был найден лежащим на обочине деревенской дороги со свернутой шеей, причем голова его была обращена в ту сторону, в которой в нескольких тысячах верст находится Собор Василия Блаженного. К слову, с упоминаемым в письме М.Е. Салтыковым-Щедриным Крупица знаком не был, равно как и не учился никогда в упоминаемом в письме Царскосельском лицее.
Признаю, как и многие, что насиловать детей этой мрачной прозой - если не преступление, то не самый мудрый поступок. Под принципы классовой борьбы этот роман попадает едва ли - жертвами в нем становятся и небедные дворяне, по контрасту с которыми "дворня" показана хитроватой, практичной, но намного более жизнеспособной. Вывод, что государственный строй породил таких вот Головлевых - достоверен не слишком. Конечно, в какой-то мере частное зависит от общего (как и наоборот), но силу характера из людей "выбивают" не только "на службе", но прежде всего в семье. В силу неправильного воспитания, когда дома создана нездоровая обстановка, люди даже талантливые, даровитые не могут позже воспрянуть духом и начать чего-то достигать. Я категорически не согласна в том, что в каждой неудаче виновны родители; но то, что в успехе есть их заслуга - верно почти всегда. Здесь героям с родителями не особо повезло.
Перечитав книгу в зрелом возрасте, я обнаружила в ней множество достоинств: красивый литературный язык, с контрастами в виде разговорных просторечий и вкраплением французских устойчивых фраз, внятный сюжет (назвать его "интересным" я не решаюсь, ибо кончается роман полной безысходностью) и живые иллюстрации простых постулатов морали (в основном - сводящейся к евангельским поучениям, но разве они, кроме специфических моментов, связанных с религией, за это время сильно устарели?)
Скажу честно, для меня еще с детства любимыми моментами были те, что связаны с Аннинькой и Любинькой. Конечно, тогда я не особо понимала контекст и подтекст, но в них, по крайней мере, история куда-то движется, в отличие от угасания мужа Арины Петровны, Степана, Павла и позже - самого Порфирия-Иудушки. Быстрое превращение Анниньки из застенчивой девушки в уверенную в себе молодую женщину, а затем - в бледную тень себя прежней, но уже с чахоткой, алкогольной зависимостью и страшным прошлым - поразительно, но весьма правдиво. Мне, кстати, не верится, что она выправится и надолго переживет дядю, хотя казалось бы, теперь она могла бы распоряжаться той собственностью, что накопили Головлевы.
Книга отлично показывает, что сам климат России, то замирание, что происходило каждой зимой из-за обильного снегового покрова и короткого светового дня, не способствовало душевному здоровью (к слову, и сейчас не способствует), а невежество, бездушие и безжалостность порождают лишь тиранов и рабов, а не здоровые, сильные, устойчивые личности. И мы в итоге получаем готовый "рецепт" вымирания рода, причем сказать уверенно, что в этом виноват кто-то один или что-то одно - невозможно. Просто как-то все катится вникуда, и сложно сопротивляться этой инерции.
Читать о таком страшно, но думаю, жить в подобном - еще страшнее. Хотя в деревнях одинокие старики примерно так и живут до сих пор. Государственный строй в данном случае, думаю, скорее следствие, чем причина.
«Господа Головлёвы» написаны в девятнадцатом веке. На дворе двадцать первый. Окружение модернизировалось, а в душах ничего не изменилось. У русского человека все также во главе стола – праздность, неспособность сделать что-либо и пьянство.
На моих глазах было возведено и разрушено имение Головлевых. И не столь имение было разрушено, сколь их существо – внутренний дух обитателей его. Они сломались или были сломлены уже давно? Удивительно-ужасное торжество материи над духом.
У Иудушки Головлева нет сердца, лишь камень. И хотя под конец в нем все же взыграла совесть, было поздно. Так же было поздно, как и осознание Ариной Петровной кого же она взрастила, да ради кого капитал хранила. Жаль мне Арину Петровну, маменьку-старушку. Жаль Любиньку. Жаль Анниньку. И Павла-тихоню. И Степку-балбеса. Очень жаль. Человека всегда жаль, когда его поймешь.
Эх глубока книга. Так глубока, что и не вынырнешь после прочтения. Несомненно, это самое сильное, самое лучшее, что я прочитал за этот год. Буду перечитывать.
Написать достойную рецензию на произведение русского классика можно лишь прочитав пару-тройку книг критиков периода жизни писателя. Не ставлю перед собой подобной задачи. Поэтому подходя ближе к "эмоциональному восприятию художественной литературы", после прочтения "Господа Головлевы", можно, держа правую руку на сердце, а левую положив на голову, впечатляюще провозгласить "Как страшно-то!", закрыть книгу и...как ни странно, обратиться к экранизациям. Есть такие книги, нравственная цель которых - научить человека добру, приблизить его к положительным сторонам главного героя, заставить полюбить его и несколько уподобится. Мощь и сила этой книги - в полностью противоположном. Ни один член семьи Головлевых не сможет вести за собой здравомыслящих людей, не сумеет быть достойным примером, не научит ничему светлому и доброму. Поэтому смело можно поставить сие произведение в ряд таких, которые показывают нам, как "не быть такими, как они были". Принять как данное, как часть автобиографии писателя, так тяжело страдавшего от собственных семейных неурядиц и несправедливости, что и вдохновило его на создание подобной "семейной саги", прототипами которой стали его отдельные родственники. Щедрин попал в любимые писатели. Понравился его размеренный, флегматичный стиль повествования, которой легкостью пера описывает злобные, животрепещущие, насущные проблемы дворянства, а еще спокойнее пишет о тех мерзостях и пакостях, грехах и страстях, стоящих за душами всего семейства Головлевых, о жестоких и поистине зверских семейных отношениях между Головлевыми. Весьма рада, что прочла роман не в школе, а сейчас, потому как мировосприятие школьное оставило бы иной след после ознакомления с этим классическим произведением.
Помнится мне, что в школе мы проходили у Салтыкова-Щедрина, кроме коротких сказок и рассказов, длинный сатирический текст "История города Глупова". Как и жесткая сатира Платонова, это произведение прошло мимо меня, да так, что и перечитывать не хочется. Кажется мне, что "Господ Головлевых" проще было бы школьникам проходить, чем выверты глуповского житья. Сперва я послушала старый спектакль Малого театра. Актеры поддали персонажам яркости, характерности, трагичности их положению. Сперва маменька Арина Петровна показалась сущим демоном. Честно говоря, Кровопивца назвали Иудушкой издалека, Из реплики не было понятно, кто и кого так обозвал. В той сцене на совете, кроме матери, явно присутствовали Порфирий и Павел. Раньше еще был папенька, и Степан подслушивал. Подвякнуть втихомолку и слуги могли. Только из полного текста романа мне стало ясно, что метким языком обладал талантливый Степка балбес, промотавший деньги, московский дом, свое образование и другие дарования. У Гоголя в "Мертвых душах" череда помещиков просто демонстрируют свои недостатки, у Салтыкова-Щедрина - вереница Головлевых топит себя и родственничков. Незавидна судьба особо не блистающих провинциальных актрис. Как тут не вспомнить "Яму" Куприна? Тот же итог при более пышных декорациях. Мелкое дворянство вырождается и проматывает имения, разбрасываясь незаконнорожденными детьми. Очень жестко показана вторая половина 19 века. В спектакле Порфирий удался на славу. После трех минут его приторных излияний и отсылок к Священному Писанию уже хотелось рявкнуть что-нибудь непечатное и облить его заваркой. Все Головлевы кругами спускаются все ниже и ниже. Легко отделалась только невидимая Анна, умершая после рождения дочерей-двойняшек. Горько и страшно, но сочинения по Головлевым писать было бы проще, чем по глуповцам. Как бежать бы от такого мнимого благочестия? Как по жизни пройти между Сциллой и Харибдой, между скупостью и бездумным разбазариванием нажитого? Как не растерять врожденные таланты? Как избежать скуки и праздности? Яркая иллюстрация первой части Великопостной молитвы Ефрема Сирина: "дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми". Все четыре недостатка в наличии, сверху еще и гневливость, обидчивость и накопление обид, неумение прощать и представить себя на месте другого. Все это разрушило большую богатую семью. Крепостное право и отмененное никуда не делось. В безволии тоже недостатка не было. В декабре 2016 моя сокомандница по ДП Дзера читала "Господ Головлевых" как русскую классику. С тех пор роман и поселился в моем више. Очень рада, что своевременно оттуда вынырнул и даже со спектаклем.
Наконец дошли мои глаза и руки до классики. После некоторой современной литературы так приятно погрузится в прекрасный глубокий текст, богатый на сравнения и описания. Одно удручает – в романе так много смертей, будто это не книга, а семейный склеп Головлёвых. Тоской, серостью и безнадёжностью веет от страниц этого произведения. Но, несмотря на то, что в романе поднимаются серьёзные, подчас даже трагичные темы, она читается на удивление легко.
Помещики Головлёвы возможно когда-то и были известны, уважаемы, сильны. Но мы наблюдаем вырождение их рода. В их доме нет места любви, заботе, нежности, состраданию. Во главу угла здесь ставятся деньги. Все члены семейства погрязли в грехах и пороках. Никчемный, бесхребетный отец, властная, жесткая мать, несчастные, нежеланные дети.
Арина Петровна волей автора попала не в то время и не в то место. Её бы сейчас к нам сюда, вот уж где она б развернулась, стала б олигаршей. Но увы! Прожила бедняжка всю жизнь без любви, никто её не любил и сама никого не любила. Домочадцев держала в строгости и экономии, доходящей до скупости, копила, наживала, расширяла. Для кого? Постылых детей: Стёпки-балбеса, кровопивушки Порфирия, дурака Павла, покойной Анны? Для внучек Анниньки и Любиньки, сироток и дармоедок? Вроде бы старалась всё для семьи, всё в семью, а на деле семьи как таковой нет и никогда не было. Есть люди, которых объединяет власть, страх, деньги.
Воспитанные в гнетущей атмосфере, с рождения чувствовавшие себя ненужными, нелюбимыми, дети так и не смогли устроить свою жизнь. Дочь сбегает с первым встречным, сыновья – спиваются. Лишь Порфирий живёт да здравствует.
Средний и самый живучий сын Арины Петровны Порфирий, в семье называемый кровопивушкой и Иудушкой, вызывает чувство гадливости, отвращение. На вид он приличный человек, воспитанный, вежливый, маменьку уважает, молится да на Бога не ропщет, а на деле под маской святоши скрывается лицемерный, подлый, жадный человечишка. Но, на мой взгляд, автор перегнул с Иудушкой, слишком уд гротескным получился образ.
Основная мысль, которую я, как обыватель, вынесла для себя из этой книги, что нелюбовь к детям стоит приравнять к смертным грехам, потому что несет она в себе такую разрушительную силу, что в первую очередь самим родителям не поздоровится. Детей надо любить, уделять им внимание, воспитывать. Арина Петровна бросала своим детям куски, чтоб отвязались и ничего больше от неё не ждали. Неудивительно, что на старости лет она осталась одна, что её дети так плохо закончили.
Эх, Арина Петровна, матушка вы дорогая, что ж вы наделали-то? И жизнь свою, вопреки расхожим представлениям о женской доле и женском счастье, достойно прожили, и богатств разных усердными трудами да скопидомством бережливостью нажили, для детишек своих родненьких накопили, и именьице, родовое гнездышко, несмотря на «выкинутые куски», существенно приумножили.
И самое-то главное – все честь по чести у вас получилось: и сироток бедных не обидели, в люди, можно сказать, вывели, и на старость лет сыночек ваш ласковый, самый почтительный да умненький, стал хозяином, потеснив заменив вас в деле хозяйствования. А что не всех природа-матушка оставила вам – так на то и пенять не стоит: у Бога-то им, вестимо, лучше будет, а тут дележа меньше. Кругом, как оглянешься, устроено все хорошо.
Только вот тоска заедает, пустословие да благочестие сыночка вашего похуже запоя всамделешного на поверку оказывается. И страшненько становится, как остановишься да вдумаешься… Срашненько? Ан нет. Лампадку засветить, помолиться усердно – да и вновь мир ладно устроенным будет видеться… А мысли тоскливые долой гонИте! Так-то оно и лучше.
И спокойнее…
Да и опять же гнездышко родимое – не разорено, не пустует. Сынок помрет – другой хозяином станет. Внучок опередит бабушку на погосте – внучка приедет. У Бога, как говаривает Иудушка, милостей много: одного Володеньку взял, другого дал. Что ж тут не жить? Можно жить. Очень даже можно! Не удавиться бы только с тоски…
Кажется, во всем виновата Арина Петровна, да и Аннинька с Любинькой себя не соблюли, да и Евпраксеюшку чтой-то на барские хлеба (ан нет, на квасок барский – совестливая девка все ж была) потянуло… Но мне вот именно их больше всех и жалко: их дорога была уже предопределена такими вот Иудушками… И как-то все так Салтыков-Щедрин рассказал, что думаешь – давно это было и не в здешних краях. Да и было ли? И может ли быть? Задумаешься – и как-то не по себе становится. Тревожно. Тоскливо. Страшненько…
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе


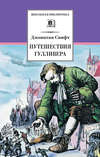







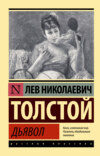



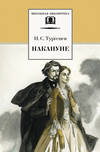

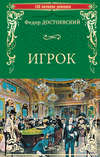
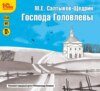
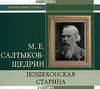
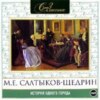



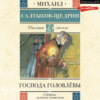


Отзывы на книгу «Господа Головлевы», страница 5, 137 отзывов