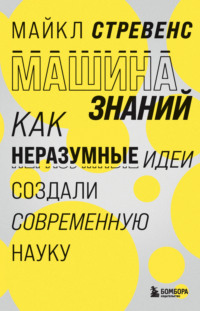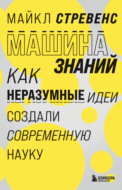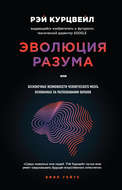Читать книгу: «Машина знаний. Как неразумные идеи создали современную науку», страница 4
До сих пор мы говорили в основном о теоретических исследованиях, опирающихся в первую очередь на личный энтузиазм ученых, но, понаблюдав за проверками исследований, спонсируемых промышленностью, мы только убедимся в правильности моего суждения о мотивах, лежащих в основе научных вердиктов.
Торговые компании порой финансируют независимые научные исследования в надежде обнаружить факты, способствующие их прибыли. При этом нередко выясняется, что из двух групп ученых, работающих над неким вопросом, одна из которых финансируется промышленностью, а другая нет, группа, поддерживаемая промышленностью, со значительно большей вероятностью придет к коммерчески благоприятным выводам, даже если эта группа состоит из университетских ученых, не связанных с отраслью напрямую.
Исследователи, финансируемые Coca-Cola, PepsiCo и другими производителями газированных напитков, в пять раз чаще, чем другие, обнаруживают отсутствие прямой связи между употреблением подслащенных газированных напитков и ожирением. Те, кого финансируют табачные компании, в семь раз чаще других обнаруживают, что пассивное курение не оказывает вредного воздействия на здоровье. Исследователи эффективности новых лекарств, не финансируемые фармакологической отраслью, получают доказательства эффективности препарата всего в 80 % случаев, в то время как ученые, финансируемые создателями лекарств, обнаруживают положительный результат почти в 100 % случаев. Похоже, наукой руководят не только холодные, беспристрастные факты, но и неумолимые деньги.
Как же выходит так, что наука со всеми ее протоколами, процедурами и статистическими алгоритмами остается настолько податливой, до такой степени подчиненной в своих проявлениях личным, общественным и финансовым интересам? Разве ученые сознательно и преднамеренно ниспровергают или игнорируют научный метод, приветствуя его публично, а затем в частном порядке делая то, что лучше всего соответствует их частным целям? Или сам научный метод – это некая химера (то есть то, чего на самом деле нет), заставляющая ученых слепо бродить во тьме, опираясь на столь же беспочвенные предубеждения, как и тысячи лет назад? Ни одно из объяснений, я думаю, нельзя назвать полностью соответствующим действительности.
Но урок, который отсюда можно извлечь, достаточно несложен: на результат научного процесса сильно влияют цели и интересы ученых, от стремления Эддингтона к объединенному европейскому научному миру до более прагматичных интересов исследователей, финансируемых различными корпорациями. Это один из аспектов, в котором наука, вопреки надеждам методистов, несомненно субъективна.
В описанных мною случаях «субъект» – исследователь – навязывает ходу исследования, вольно или невольно, свои цели. Наряду с этим подвидом субъективности, есть и еще один смысл, в котором наука пронизана субъективностью от и до: ученые навязывают науке не только свои цели, но и свои предпочтения. Позвольте мне рассказать еще одну историю. И начинается эта история с публикации новой книги.
До появления Интернета ничто не давало настолько полной, подробной и очевидной информации, как сложная карта, за исключением, пожалуй, нескольких томов карт одновременно. В 1911 году молодой немецкий ученый и исследователь по имени Альфред Вегенер заглянул в такой том, новое издание почтенного Allgemeine Handatlas, в котором впервые были опубликованы замеры глубины океана, проведенные британской экспедицией «Челленджера». То, что Вегенер увидел в атласе, поразило его.
Многие прежние геологи, картографы и просто любители рассматривать карты замечали любопытное сходство между береговыми линиями Южной Америки и Африки, заставлявшее предположить, что они были «вырезаны» из одной огромной тектонической плиты и «растолканы» по разные стороны Атлантики. Но географы XIX века знали, что уровень моря значительно изменялся на протяжении веков. При изменении уровня моря меняется форма берега; береговые линии, таким образом, крайне подвижны, и поэтому тот факт, что прямо сейчас американское и африканское побережья удивительно схожи по форме, по сути ничего не говорит нам о происхождении этих континентов.
Благодаря данным «Челленджера» в новый немецкий атлас были включены очертания не только форм рельефа, но и континентальных шельфов, тех относительно неглубоких участков морского дна, что находятся в границах литосферных плит, образующих континенты. Формы континентов и их шельфов фиксированы, в отличие от береговых линий: они не меняются по мере изменения уровня моря. На страницах атласа Вегенер увидел почти идеальное совпадение между восточным континентальным шельфом Южной Америки и западным шельфом Африки. Такое совпадение, подумал он, не может быть случайностью.
Вдохновленный, он написал книгу, которой суждено было стать одной из самых противоречивых публикаций нового века. В этой книге, «Происхождение континентов и океанов», опубликованной в том же 1915 году, что и теория гравитации Эйнштейна, использовались геологические и палеонтологические данные, доказывающие, что Африка и Южная Америка в прошлом должны были быть одним континентом. Во-первых, их береговые линии идеально совпадают; во-вторых, ряд скальных образований и ископаемых остатков на обоих континентах также совпадают в том месте, где когда-то, предположительно, эти континенты соединялись друг с другом (рис. 2.5). Как же тогда они оказались разделены одним из крупнейших мировых океанов? Вегенер предположил, что континенты должны были каким-то образом перемещаться по поверхности земли. Так родилась теория дрейфа материков.

Рисунок 2.5. Карта из более позднего издания «Происхождения континентов и океанов» Вегенера, основанная на работе южноафриканского геолога Александра дю Туа, показывающая геологическую и палеонтологическую (мезозавр) преемственность на суше Южной Америки и Африки
Представление о миллионах квадратных километров гор, лесов, речных долин, пустынь и степей, беспечно путешествующих через океан в неизведанные края, даже сегодня нелегко принять. Скептики не могли поверить в теорию Вегенера без убедительной гипотезы о механизме дрейфа, гипотезы, которая была бы достаточно правдоподобной и для которой существовали бы некоторые прямые доказательства. Вегенер же мог предложить только необоснованные гипотезы – он имел не больше представлений о том, как происходит дрейф, чем скептики, – но он думал, что доказательства того, что это произошло тем или иным образом, неопровержимы. Судьба теории качалась на волоске: в одних кругах на гипотезу о дрейфе смотрели вполне благосклонно, в других – с сомнением, граничащим с недоверием. Однако в 1943 году гипотезу Вегенера атаковал выдающийся биолог-эволюционист Джордж Гейлорд Симпсон, и она рухнула под тяжестью его репутации. К тому времени сам Вегенер был уже не в состоянии защитить себя. Он погиб в 1930-м, пытаясь пополнить запасы научной станции в Гренландии накануне приближающейся зимы. Его научная карьера была вполне успешной, но массовое недоверие, возникшее после публикации теории о дрейфе материков, подмочило его репутацию.
Почему Вегенеру не удалось убедить мир в своей правоте? Он был совершенно прав, полагая, что сумма собранных им данных достаточно достоверно отражает различные последствия дрейфа континентов. Но его критики, в том числе Симпсон, также были правы, считая отсутствие убедительного объяснения механизма для столь глобального процесса основным аргументом против этой теории. Чья же правота оказалась ближе к действительности? Как это часто бывает в науке, аргументы свидетельствовали в равной степени и за выдвинутую теорию, и против нее.
Если континенты движутся, должен существовать некий физический процесс, посредством которого осуществляется это движение. Современники Вегенера не знали ни одного достаточно подходящего механизма. Те, кто выступал против дрейфа, ошибочно полагали, что они достаточно хорошо разбираются в геологии Земли, чтобы исключить любую гипотезу, обосновывающую физическую природу дрейфа. Те, кто выступал в его пользу, были готовы предположить, что механизм существует, но им оставалось только догадываться о его природе. Противники дрейфа были в высшей степени самонадеянными; сторонники – необычайно смелыми и, возможно, даже безрассудными.
Вы можете подумать, что самым разумным ответом на идеи Вегенера было бы просто переждать спор. Но это было бы ошибкой. Научные суждения иногда приходится выносить на основе явно неполных данных – бездействие же может иметь катастрофические последствия, как сейчас, по-видимому, и произошло в случае с исследованиями глобальных изменений климата. Что еще более важно, как подчеркивали и Кун, и Поппер, – чтобы должным образом проверить теорию, и исследовать все наиболее красноречивые доказательства как за, так и против нее, нужны сторонники. Только те, кто посвятил себя доказательству истинности теории – куновские ученые, ограниченные парадигмой, принципиально неспособные сомневаться, – или доказывающие ее ложность – попперовские сторонники фальсификации любой гипотезы, – будут иметь достаточно мотивации для проведения многолетних экспериментов. Если бы каждый ученый, вместо того чтобы отреагировать на теорию Вегенера, решил подождать и понаблюдать, мы бы ждали до сих пор.
Таким образом, ученые должны принимать решения относительно того, как данные соотносятся с теорией, в тот момент, когда обе стороны приводят свои аргументы. Достаточно часто подобные решения принимаются, исходя из личных вкусов или внешних обстоятельств. Человек из высшего общества, такой как Симпсон – профессор Колумбийского и Гарвардского университетов и обладатель нескольких престижных премий, – может чувствовать себя спокойнее, исповедуя более ортодоксальные взгляды, в то время как такой аутсайдер и авантюрист, как Вегенер (бывший среди всего прочего воздухоплавателем-рекордсменом), возможно, больше склонен к риску, предполагая, что доказательства, необходимые его теории, находятся непосредственно за научным горизонтом. Иногда решения и вовсе принимаются на основаниях, в высшей степени поверхностных: ученые в Соединенных Штатах, где Симпсон был более авторитетным, как правило, гораздо более скептически относились к теории дрейфа, чем в Великобритании и Европе.
Выдвигая свои прямо противоположные суждения, Симпсон и Вегенер не игнорировали имеющиеся данные, но не меньше, чем эмпирические данные, на их мнение влияли темпераменты обоих исследователей, репутация в научном мире, отношение коллег и, несомненно, огромное количество других психологических аспектов. Так работает человеческое мышление. Таким образом, мы получаем великолепное разнообразие гипотез и, как следствие, ожесточенные споры между их приверженцами.
Согласно мыслителям, которых я называю методистами, исключительность науки состоит в первую очередь в стандартизированной методологии и протоколах проведения эмпирического исследования. Однако все истории, изложенные в этой главе, прямо противоречат умозаключениям методистов. Не метод побеждает человеческую слабость; человеческая слабость побеждает метод. Именно тогда, когда объективность важнее всего, ученые – и наиболее великие из них будут здесь в первых рядах – склонны использовать весь свой политический вес и ораторские таланты, чтобы исказить ход исследования в собственную пользу. Не существует ни высшей власти, способной обуздать этот хаос, ни единого беспристрастного судьи, выносящего вердикты, под которыми обязаны подписаться все исследователи, есть лишь множество противоборствующих трибуналов в духе пастеровского, каждый из которых состоит из сторонников определенного круга интересов или определенного взгляда на мир.
Я начал «Машину знаний» с рассказа об идеях двух великих мыслителей-методистов не только потому, что методизм прост, привлекателен и крайне значим в историческом аспекте, но и потому, что сам я тоже своего рода методист: я хочу обратиться к общему научному коду, чтобы объяснить способность науки разыскивать теории, обладающие наибольшей познавательной и прогностической силой. И здесь я, похоже, столкнулся с проблемой: от кода мало толку, если его игнорировать как раз тогда, когда это важнее всего. Я еще не закончил даже вторую главу, а методизм уже избит, стоит на коленях и молит о пощаде.
Но здесь на помощь мне приходит идея, которой придерживаются многие заинтересованные ученые, выдвинутая все тем же Карлом Поппером и окончательно сформулированная писателем и хирургом Атулом Гаванде:
«Отдельные ученые… могут быть знамениты упрямством, нерассуждающей приверженностью определенным теориям, пренебрежительностью к новым доказательствам и игнорированием ошибок… Но как общественное начинание [наука] прекрасно самокорректируется».
О том, что «наука самокорректируется», часто можно услышать после разоблачения мошенничества или методологического безрассудства. Те, кто защищают научную объективность, вроде Гаванде, с сожалением признают, что неэтичное или, по крайней мере, небрежное поведение таких ученых, как Эддингтон или Пастер, является серьезным препятствием для научного прогресса в целом: оно может замедлить, отклонить, даже временно обратить вспять рост знания. Но научное исследование одновременно конкурентно и кооперативно, и поэтому ученые-практики постоянно проверяют друг друга, надеясь либо продемонстрировать надежность исследований, на которых базируются их собственные теории, либо опровергнуть работу, которая противоречит результатам, полученным ими самими. Даже если ученым не хватает пропагандируемого Поппером критического взгляда на свою собственные работы, у них есть много причин относиться с должной требовательностью и скептицизмом к работе других.
Таким образом, по мнению большинства сторонников «самокоррекции», нарушения, задокументированные в этой главе, вполне реальны, но совершенно нерепрезентативны. Это самые крайние случаи, служащие скорее примерами любопытных единичных казусов, чем отражением фактического положения дел. Если бы вы заглянули в какую-нибудь научную лабораторию, то обнаружили бы, что подобные сомнительные спекуляции – огромная редкость, и работа ведется ни в коем случае не идеально, но по большей части вполне прилично: ученые искренне пытаются следовать методологии ведения исследования и в основном преуспевают в этих попытках.
И в самом деле, может быть, заглянуть в лабораторию – не такая уж плохая идея.
В 1975 году молодой французский антрополог по имени Бруно Латур отправился наблюдать за представителями необычной южнокалифорнийской субкультуры. Его испытуемыми были исследователи, работавшие в лаборатории эндокринолога Роже Гиймена – ученого, которому два года спустя предстояло получить Нобелевскую премию по медицине за открытие структуры тиролиберина.
В то время у Латура «понимания науки не существовало», как писал он позже, добавляя, что он «совершенно ничего не знал о социологии науки», но именно поэтому он и находился «в классическом положении этнографа, посланного в совершенно чуждую среду», как Маргарет Мид на архипелаге Самоа или Наполеон Шаньон среди яномамо в тропических лесах Амазонки.
Латур провел два года в лабораториях Гиймена в Институте Солка в Сан-Диего и обнаружил там своего рода самовосполняющийся цикл бытия. В лабораторию Гиймена поступало огромное количество препаратов, лабораторных животных и энергии, которые поддерживали сложнейший физический и социальный процесс, в ходе которого составлялись научные отчеты посредством «устройств записи», функция которых заключалась в «преобразовании кусочков материи в письменные документы» (рис. 2.6). Эти документы, статьи, опубликованные в научных журналах, в свою очередь превращались в некий «кредит» – научную репутацию, которая представляет собой не столько самоцель, сколько некий ресурс, который может быть израсходован на приобретение новых препаратов, лабораторных животных и энергии, новые устройства для записи, а также оплату труда ученых и техников, следствием работы которых станут новые тома отчетов и накопление новых «кредитов». Научная лаборатория, как писал Латур и его коллега Стив Вулгар в книге «Лабораторная жизнь», – это не столько сложная техника, сколько некое подобие живого организма, и его главная задача – выживание и размножение.

Рисунок 2.6. Машина знаний Гиймена в представлении Латура
Но что же насчет правил мышления, которые, согласно Гаванде и Попперу, управляют большинством обычных научных исследований? Что насчет кодекса интеллектуального поведения, которым периодически поверяются рассуждения ученых, позволяя науке «самокорректироваться» и, таким образом, оставаться более или менее объективной?
Латур действительно увидел много объективного в лаборатории Гиймена. Процедуры измельчения мозговой ткани и извлечения таких веществ, как ТРГ, были известны всем техникам и тщательно соблюдались. То же можно сказать и о подготовке данных, которые использовались для проверки гипотез о структуре ТРГ и других молекул. В ходе применения одного из этих методов было создано синтетическое вещество с аналогичной структурой. После его сравнили с оригинальным ТРГ. Для сравнения взяли хроматограммы – изображения, созданные с использованием двух исследуемых веществ. Если два (правильно приготовленных) вещества дают в результате одинаковые хроматограммы, то и их компоненты тоже одинаковы; идентичность хроматограмм в данном случае является свидетельством в пользу предполагаемого строения исследуемого вещества. Хроматограмма готовится с использованием аппарата, который можно заказать у производителей научного оборудования, и к этому аппарату прилагается руководство пользователя, в котором изложены алгоритмы применения аппарата; если ученый не следует руководству, он объективно и явно ошибается, и эту ошибку можно исправить, как утверждают Гаванде и Поппер.
Как обнаружил Латур, подготовка материалов исследования была вполне объективной, в отличие от интерпретации результатов. Между двумя хроматограммами одного и того же вещества всегда будут небольшие различия, точно так же, как есть незначительные различия на двух фотографиях одного и того же человека. Поэтому ученые должны определиться, с какого момента подобные различия становятся пренебрежимо малыми. Но если и существовало какое-то правило для решения подобных вопросов, то ученые, за которыми наблюдал Латур, ему не следовали. Скорее они прибегали к «частным молчаливым переговорам, постоянно меняющимся оценкам и неконтролируемым бессознательным жестам». Так же обстояло дело и со всеми остальными вопросами интерпретации: чтобы сделать выводы о том, как эмпирические данные соотносятся с выдвинутыми гипотезами, не использовались ни общие правила, ни объективные критерии. Вместо этого были споры, интуиция, личные договоренности и корпоративные традиции. Подводя итог, Латур и Вулгар написали: «Мы не обнаружили никакого явного обращения к нормам науки».
Таким образом, в лаборатории Гиймена проводилось вполне объективное измерение мозга и его составляющих, однако ученые получали довольно мало объективных доказательств. Когда дело доходило до выяснения, что могут сказать тщательно сопоставленные данные о структуре ТРГ и смежных вопросах, даже младшие ученые не следовали единым правилам. Не обращая внимания на официальные протоколы, они продолжали ставить на одну полку эмпирические данные, свое личное мнение, культурный багаж и политическую позицию.
И так обстоят дела во всем научном мире. Гематолог Джеймс Цимринг сообщает о смятении начинающих ученых, впервые оказавшихся в настоящей лаборатории:
«Работа, которую выполняли они сами и их коллеги-исследователи, казалась “неудачной”. Все было хаотично, научную форму этому хаосу придавали вручную… Часто рациональные объяснения придумывались задним числом, чтобы обосновать полученный прогресс».
Таким образом, гипотеза о «самокорректировании» тоже ставится под сомнение: наука не сможет «исправлять» себя, если никто не будет обращать вообще никакого внимания на стандарты и протоколы.
Где же тогда научный метод? Его не существует, говорят последователи и сторонники Латура. Нет ни одной структуры или системы, которая делала бы науку более объективным, более достоверным, более ориентированным на истину способом познания мира, чем любой другой. Спор о великом методе – не более чем чертежи на песке. Этот тезис, поддерживаемый многими современными социологами и историками науки, я называю радикальным субъективизмом. Это антитеза методизму.
Таким образом, согласно субъективистам, мир научного исследования, при всем его своеобразном исследовательском и методологическом аппарате, а также наросшей на методологию идеологии, представляет собой, по существу, не более чем миниатюрную модель человеческого общества, включающего десятки тысяч участников, каждый из которых имеет собственное представление о том, что стоит делать и как. Ученые чаще преследуют противоположные цели, нежели общие. Иногда они вообще не разговаривают друг с другом, иногда спорят, иногда яростно опровергают друг друга. Иногда они видят только то, что хотят, иногда – только то, что им сказали, иногда – в первую очередь свою репутацию и статус в сравнении с соперниками, вследствие чего материал научных теорий начинает рассматриваться скорее как средство саморекламы, чем как цель. Наука с точки зрения радикального субъективизма, не более чем еще один способ человеческого бытия с достижениями и изъянами, присущими человечеству в целом.
Но как же быть с эмпирическими фактами? «Мир природы играет незначительную роль или даже вовсе не имеет значения в построении научных знаний», – пишет социолог науки Гарри Коллинз. Точно так же социолог Стэнли Ароновиц говорит: «Наука узаконивает себя, предлагая открытия власти, и эта связь полностью определяет (а не просто влияет), что считается надежным знанием». Короче говоря, факты – не более чем пешки в игре, в которой «самая сильная команда решает, что считать правдой».
Уверенность Поппера во всесилии фальсификаций, теория Куна о смене парадигм, любая другая система или метод, которые требуют от ученых отказаться от собственной индивидуальности, по мнению радикальных субъективистов, безнадежны все до единого.
Ученые слишком человечны. Они не готовы следовать ни общепринятому, ни даже локальному сценарию. Они предпочитают вести бесконечные споры, оставаться в плену контекста и выдвигать парадоксальные суждения.
Радикальные субъективисты, я думаю, правы в отношении субъективности науки. Но они обречены на ошибку в своем дальнейшем утверждении, что нет ничего, что отличало бы науку от повседневного мышления или философского созерцания. Это объяснило бы все грязные подтасовки и скандалы, связанные с научными исследованиями, но не смогло бы объяснить главное: великую волну прогресса, последовавшую за научной революцией. Медицинский прогресс, технологический прогресс и прогресс в понимании междисциплинарности знания и алгоритмов научного исследования. Огромный, бесспорный, радикально изменяющий человеческую жизнь прогресс.
Некоторые из субъективистов намекают, что предполагаемый вклад научного прогресса в то, как изменилась жизнь человечества после научной революции – не более чем пропаганда, и утверждают, что технологические прорывы происходят скорее вследствие множества проб и ошибок, чем вырастая из глубокого понимания структуры лежащей в основе всех вещей. Однако в большинстве своем даже субъективисты готовы согласиться как с теоретическими, так и с практическими достижениями науки. «Наука остается… безусловно, самой надежной совокупностью естественных знаний, которая у нас есть», – пишет социолог Стивен Шейпин. Этот внезапный вывод об устройстве науки со всеми ее метаниями, противоречиями и заблуждениями, мало чем отличается от следующего пересказа сказки о Золушке: Золушка росла в ужасных условиях, мачеха и сводные сестры постоянно обижали ее. Потом она вышла замуж за прекрасного принца и жила долго и счастливо. Не кажется ли вам, что здесь отсутствует часть истории, и притом лучшая ее часть?
В груде обломков, оставшихся после бала, среди скрытых мотивов, корыстных объяснений, игр власть предержащих, раздавленных цветов, разбитых кубков, невыполненных обещаний, вы все еще можете надеяться разглядеть блеск хрустальной туфельки, ключ, который соединит две части сказки. Туфелька – это научный метод, объективное правило, устанавливающее стандарт поведения ученого, которому следовали даже Эддингтон и Пастер, отвечая на философский вопрос о том, почему наука в поисках знания обладает настолько огромной и несомненной силой.
Если этот ключ существует, он должен быть тонким и изысканным. Он должен соответствовать всему, что было сказано ранее о предвзятости мнений и действий ученых, и в то же время предлагать альтернативу позиции радикальных субъективистов. Он должен доказать, что научное исследование – это не рядовое человеческое занятие. Он должен продемонстрировать, что в функционировании науки есть что-то уникальное, позволяющее объяснить ее успехи. Он должен одновременно признавать значение нашей человечности и показывать, что эта человечность может и должна быть преодолена.
Не кажутся ли вам эти требования невыполнимыми? Я покажу вам, что удовлетворить его еще труднее, чем можно было бы предположить. Не только человеческая природа, но и сами законы логики борются против объективности научного мышления.
Начислим
+19
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе