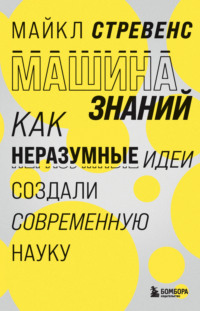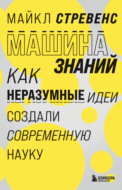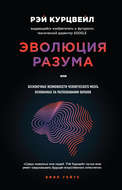Читать книгу: «Машина знаний. Как неразумные идеи создали современную науку», страница 3
Геохимик и биолог Хоуп Джарен провела лето в Колорадо, наблюдая за цветением каркасов. Исследование, проведенное ею в рамках защиты докторской диссертации в Калифорнийском университете в Беркли, состояло в том, чтобы определить влияние температуры и химического состава воды на плоды. Но деревья в том году не зацвели, и плодов попросту не было. Лето Джарен было потрачено впустую. Хоуп спросила у флегматичного местного жителя, почему деревья не цветут. Он ответил: «Иногда так бывает». Ей оставалось только сесть в машину и поехать обратно в Калифорнию.
Но даже когда техника не дает сбоев, а статистические данные удается получить в достаточном количестве, результаты, как правило, касаются какого-то непонятного частного вопроса – строения семенной коробочки растения; времени, необходимого для реакции на надуманный визуальный стимул; образца яркого и темного, созданного пересекающимися лучами света, ценность которого полностью зависит от значения, приобретаемого им в более обширной теоретической структуре. Но что, если предположения, положенные в основу теории, были ошибочными? Некоторые тратят годы работы, годы жизни на подготовку эксперимента, который в первые же секунды разрушает своими результатами всю тщательно продуманную теорию.
Как следствие, перед наукой стоит проблема мотивации. И она состоит не в том, чтобы мотивировать студентов становиться учеными – на это есть много причин, и не в последнюю очередь – жажда открытий как таковая. Проблема не в том, чтобы мотивировать ученых ежедневно приходить в лабораторию – им за это платят – или проводить наблюдения, опыты и замеры, когда они уже находятся в лаборатории: это входит в их стандартные должностные инструкции. Проблема мотивации касается в первую очередь неподдельной и продолжительной увлеченности своим делом, с которой должны проводиться эмпирические испытания, чтобы вклад в науку, достигающийся сотнями опытов, оказался действительно ценным.
Как убедить ученых многократно повторять один эксперимент до получения предельно точных значений, когда в любой момент может оказаться, что полученные цифры не имеют никакого смысла? «Вы должны верить, что все, над чем вы сейчас работаете, – достаточно важная задача, и она должна давать вам энергию и страсть, необходимые для продолжения работы», – говорит физик Массачусетского технологического института Сет Ллойд. Эндрю Шелли так писал о своих поисках структуры ТРГ и других молекул:
«Только такому человеку, как я, с твердой верой в значимость моего исследования, хватило бы терпения сделать множество крошечных шагов, раз за разом проводя процедуру изоляции».
Куновский ответ на проблему мотивации состоит в следующем: необходимо формировать умы ученых так, чтобы они не замечали, что их исследования могут базироваться на ошибке, на ложном предположении. Если справедливость парадигмы принимается на веру, то и ценность долгого и кропотливого исследовательского труда не должна вызывать сомнений. Цель сужения кругозора ученых состоит в том, чтобы побудить их работать усерднее, копать глубже, идти дальше, чем они готовы были бы зайти, если бы могли ясно видеть свое предназначение в перспективе и если бы у них было точное представление о масштабах своего проекта.
В конечном счете вера ученых в важность их исследований базируется в первую очередь на их вере в какую-либо парадигму, и именно поэтому они чувствуют себя в достаточной безопасности, чтобы работать в рамках парадигмы всю жизнь – ставить максимально подробные и детальные эксперименты, и в ходе их выявлять недостатки парадигмы, продвигать науку навстречу кризису и таким образом создавать предпосылки для революции. Таков парадокс Куна: парадигма способна меняться лишь потому, что ученые, работающие над ней, не способны представить себе ее изменения. Именно уверенность ученых в непогрешимости парадигмы и обеспечивает ее неминуемый крах.
Поппер и Кун, будучи достаточно разными людьми и в плане опыта, и в плане убеждений, были одинаково правы в нескольких исключительно важных вещах. Во-первых, в том, что особенность науки – то, что отличает современную научную мысль от предшествовавшей ей натурфилософской – заключается не столько в способности генерировать новые теории, сколько в умении разрушать старые, навсегда выводя их из списка рабочих вариантов. По мнению обоих философов успех науки обусловлен неустанным поиском и безжалостной борьбой даже с самыми крохотными несоответствиями между теорией и фактами.
Во-вторых, Поппер и Кун были правы, полагая, что для объяснения могущества науки проприетарные формы мотивации не менее важны, чем проприетарные логические инструменты. Инструменты говорят вам, что делать с доказательствами, но это не имеет никакого смысла, если у вас нет нужных данных. Получение же таких данных требует, в большинстве случаев, интенсивного и длительного сосредоточения на деталях, которые сами по себе не представляют особого интереса. Таким образом, научному исследованию нужен какой-то стимул, побуждающий мыслителей посвятить свою жизнь делу, которое потребует от них кропотливой каждодневной рутины, зачастую еще и ничем не вознаграждаемой в итоге, – одновременно отговаривая их от головокружительной альтернативы в виде изобретения новых концепций и новых стилей мышления.
Поппер находит мотивацию для научной рутины в безграничной тяге к опровержению, присущей каждому хорошему ученому. Мотивация Куна более тонкая и немного зловещая. Каждый куновский ученый сам по себе вовсе не склонен к критике научной парадигмы; более того, они принимают господствующую парадигму едва ли не с религиозной убежденностью. Но твердо вознамерившись выжать из этой парадигмы все ее познавательные и прогностические возможности, тем самым они уничтожают в ней жизнь.
Непримиримость и критичность науки и для Поппера, и для Куна могут существовать только потому, что ученые тщательно придерживаются научного метода. С точки зрения Поппера этот метод – фальсификация, и он универсален для всех времен и отраслей науки. В рамках представлений Куна метод задается господствующей парадигмой, и поэтому он меняется каждый раз, когда происходит научная революция и возникает новый алгоритм проведения исследований. Прелесть куновской гипотезы в том, что суть этого алгоритма не слишком важна при условии, что с его помощью можно оценивать познавательные, и, в особенности, прогностические возможности теорий. Таким образом, несмотря на то что сам научный метод постоянно мутирует, тот факт, что наука привязана к методу как инструменту и находится во власти господствующей парадигмы, наделяет ее значительным потенциалом к фальсификации. Таким образом, я бы назвал и Куна, и Поппера «методистами»: они верят в важность тщательного следования установленному алгоритму в любых теоретических изысканиях.
Метод имеет большое значение для науки, потому что он позволяет выявить недостатки гипотез, а также потому, что дает ученым веру в осмысленность и высшую цель проводимых ими экспериментов. Последователи Поппера знают, что, поскольку логика фальсификации универсальна, их коллеги будут придавать своим опытам не меньшее значение, чем они сами. Адепты учения Куна ожидают от коллег того же, потому что знают, что все они существуют в рамках единого набора правил, которые диктует господствующая парадигма, и в этом случае правила должны быть не только рациональными, но и получить общественное признание, утверждающее в глазах людей их рациональность. И в этом вопросе, я думаю, правы оба: и Поппер, и Кун.
В своей книге я изложу собственное объяснение успехов науки, базируясь на теориях Поппера и Куна и на вкладе, сделанном им в споры о научном методе. Но сначала я должен объяснить, почему современные теоретики науки в большинстве своем отвергают идеи обоих мыслителей.
Теории Поппера и Куна представляют собой нечто большее, чем абстрактная философская концепция; они пытаются рассказывать о том, как устроена наука изнутри и как ее устройство меняется с течением времени. Но в таком случае для оценки обоих теорий имеет смысл обратиться к специалистам в этих областях, а именно к социологам и историкам науки.
Можно ли утверждать, что современная наука существует в рамках парадигматической структуры, описанной Куном, и что всеми учеными во всех областях знания руководят единые идеология и методология? Спросите социологов. Действительно ли имело место внезапное и не похожее ни на что из существовавшего прежде появление коллективного мышления, базирующегося на господствующей парадигме, во время научной революции? Спросите историков. Воюют ли ученые за сохранение статус-кво, как предполагает теория Куна, или за его свержение, как хотел бы того Поппер? О современных ученых спросите, опять-таки, социологов; об ученых прошлого – историков.
За последние несколько десятилетий у нас появились ответы на перечисленные вопросы, и в большинстве случаев ответы эти отрицательные. Как вы увидите в следующих главах, существует крайне мало свидетельств беспристрастного критического духа Поппера, но также нет и каких-либо объемных свидетельств всеобщего подчинения парадигме. Действительно, на практике в своих размышлениях о связи между теорией и эмпирическими данными ученые, похоже, вообще не следуют каким-либо правилам.
Глава 2. Человеческая слабость
Ученые слишком противоречивы, а также морально и интеллектуально неустойчивы, чтобы последовательно придерживаться какого бы то ни было метода
Когда 29 мая 1919 года произошло полное солнечное затмение, новая теория гравитации повисла на волоске. Всего за несколько лет до этого Альберт Эйнштейн сформулировал свою общую теорию относительности, выдвинутую в качестве радикальной альтернативы теории гравитации, прославившей Исаака Ньютона на заре современной науки примерно за двести лет до этого. В то время как Ньютон считал, что массивные тела воздействуют друг на друга «силой гравитации», Эйнштейн утверждал, что они скорее искривляют пространство и время вокруг себя, придавая им характерную форму. Когда объекты делают все возможное, чтобы пройти через эту искривленную среду по прямолинейной траектории, они двигаются таким образом, который мог бы свидетельствовать о существовании силы гравитации, но на самом деле такой вещи не существует. Эти две концепции радикально отличаются друг от друга, но на их основании могут быть сделаны почти идентичные прогнозы о движении как крохотных частиц, так и огромных небесных тел. Почти идентичные, но не одинаковые. Выявить все различия между идеями Ньютона и Эйнштейна, а также осознать, чья теория на самом деле верна, по мнению ученых, должно было помочь полное солнечное затмение.
Двумя месяцами ранее из Ливерпуля вышел пароход «Ансельм» с тремя телескопами и двумя группами ученых на борту. Одна группа направлялась в Бразилию, другая – на остров Принсипи, расположенный у берегов Западной Африки. В пунктах назначения каждая группа должна была сфотографировать небо в тот момент, когда солнечный диск будет полностью скрыт луной. Фотографии звезд, окружающих затмение, должны были показать, насколько лучи света, проходя близко к Солнцу, отклоняются от курса мощным гравитационным полем нашей родной звезды. Точно так же, как частично погруженное в воду весло кажется изогнутым в точке, где входит в воду, из-за рефракции на границе воздуха и воды, так и звезды кажутся смещенными со своего обычного положения, и это смещение возникает вследствие искривления из-за гравитации Солнца. Новая теория Эйнштейна предполагала, что лучи света должны отклоняться в два раза сильнее, чем предполагала старая теория Ньютона.
Это был решающий эксперимент в парадигме Поппера. Измерьте видимое смещение положения звезд, и в ослепительном сиянии эмпирических данных выживет не более одной теории – либо теории Эйнштейна, либо теории Ньютона, а если неверными окажутся обе, то обе же нужно навсегда вычеркнуть из науки.
Через шесть месяцев после затмения руководитель экспедиции Артур Эддингтон объявил результаты: Ньютон был свергнут с престола, а Эйнштейна объявили новым законодателем физических теорий. Первая мировая война наконец завершилась, а мистическая немецкая физика Эйнштейна была подтверждена строгим британским экспериментом Эддингтона, научным триумфом, о котором услышал весь мир (в том числе молодой Карл Поппер) и который начал эру международного сотрудничества, прогресса и мира.
Но мир длился недолго, так как результаты эксперимента оказались поставлены под сомнение. Эддингтон проснулся утром во время затмения и увидел облачное небо над Принсипи; он смог получить только размытые, нечеткие фотографии звезд. Снимки из Бразилии были намного лучше, но и там возникла непредвиденная проблема. Бразильская команда привезла с собой два телескопа, и измерения, сделанные с помощью этих телескопов, противоречили друг другу. Один телескоп, 4-дюймовый, показал смещение положения звезд примерно в соответствии с предсказанием Эйнштейна. Но другой, собранный с применением линз для астрографа (телескопа, специально предназначенного для фотографирования звезд), показал почти точное ньютоновское смещение.

Рисунок 2.1. Пасмурный день на острове Принсипи
Как же тогда Эддингтон и его сотрудники пришли к выводу, что прогнозы Эйнштейна оказались верны?
У них под рукой было три набора данных. Во-первых, две фотографии с Принсипи, на которых звезды смутно виднелись сквозь облака и которые, согласно довольно сложным расчетам, проведенным Эддингтоном, показали сдвиг эйнштейновской величины. Во-вторых, было семь фотографий с бразильского 4-дюймового телескопа, которые также подтвердили эйнштейновский сдвиг (среди них рис. 2.2). В-третьих, еще 18 фотографий с бразильского астрографического телескопа, которые зафиксировали сдвиг, описанный теорией Ньютона. Стратегия Эддингтона заключалась в том, чтобы доказать, что при выполнении этой серии фотографий произошла какая-то системная ошибка. По факту они были значительно более размытыми, чем те, что сделаны с использованием 4-дюймового телескопа, возможно (как предполагали сам Эддингтон и его сотрудники), из-за искажений, вызванных неравномерно нагретым солнцем зеркалом, которое отражало свет от затмения в телескоп.

Рисунок 2.2. Фотоснимок, сделанный во время экспедиции Эддингтона 1919 года. Это негатив: затемненное солнце – это большой белый круг, его корона – темная вспышка вокруг диска, а соседние звезды – крошечные черные точки. Некоторые значимые положения звезд отмечены тонкими горизонтальными линиями
Некоторые из современников Эддингтона, однако, сочли его аргументацию довольно сомнительной, как и многие более поздние историки науки. Эддингтон мог объяснить размытость астрографических фотографий, но не обосновал, почему же искажения, полученные при использовании этого телескопа, так однозначно говорят в пользу ньютоновской теории. Кроме того, четкие фотографии с 4-дюймового телескопа дали значение гравитационного изгиба, значительно превысившее предсказанное Эйнштейном: до такой степени, что их можно было считать подтверждающими теорию Эйнштейна, только если предположить, что и этот телескоп тоже исказил снимки. Таким образом, Эддингтон, по-видимому, занимался какими-то довольно странными спекуляциями: он допускал, что телескопы «ошиблись», но их ошибки, по его мнению, говорили в пользу теории Эйнштейна. Как написал в 1923 году У. В. Кэмпбелл, американский астроном, директор Ликской обсерватории в Сан-Хосе, «логика ситуации не совсем ясна».
Если предположить, что Эддингтон стремился не только к устремлению научной истины, но и к чему-либо иному, но мотивация его поступков становится довольно понятной. Он очень хотел, чтобы теория Эйнштейна оказалась верной, не только из-за ее математической красоты и стройности, но и из-за его горячего интернационалистского желания побороть ненависть, толкавшую ряд британцев после войны к бойкоту немецкой науки. (Эддингтон, как квакер, был убежденным пацифистом; протестуя против этого бойкота, он писал, что «стремление к истине… есть связь, превосходящая человеческие различия».) Эти возвышенные цели он преследовал, используя свою немалую политическую власть. Он уже давно привлек к своему делу Королевского астронома сэра Фрэнка Дайсона – по заявлениям современников, «самую влиятельную фигуру в британской астрономии»; именно Дайсон, не имея личного интереса к теории относительности, тем не менее, предложил экспедицию по исследованию затмения, а затем занял почетное место главного автора отчета об экспедиции, – и все это по настоянию Эддингтона.
Когда экспедиция представила свои результаты, Эддингтон получил одобрение президента Королевского общества, а также поддержку президента Королевского астрономического общества. Другие физики не были столь влиятельными людьми. Их мнения вычеркнули из истории: после затмения Эддингтон стал выдающимся представителем теории относительности в англоязычном научном мире, а его отчет об исследованиях солнечного затмения стал признанным справочником по этой теме. Однако в его отчете явное предпочтение отдается проэйнштейновским измерениям, полученным с помощью бразильских 4-дюймовых телескопов и телескопов из Принсипи, в то время как результаты, полученные с бразильского астрографического телескопа и свидетельствовавшие в пользу теории Ньютона были решительно отвергнуты и в конечном счете – позабыты и уничтожены.
Я начал эту главу с истории об Эддингтоне и затмении не в последнюю очередь потому, что в ней нет ничего примечательного: это довольно типичный (хотя и необычайно хорошо задокументированный) рассказ о сложных, запутанных или неоднозначных данных, определенной предвзятости и избирательности в их интерпретации, а также о согласованных усилиях по достижению консенсуса в направлении, желательном для интеллектуальных, моральных или прагматических устремлений автора. Это история человеческого разума, действующего в соответствии с тем, как он устроен, и следующего по маршруту, знакомому каждому историку, – по пути пристрастности и политического лавирования, описанному еще Фукидидом в истории Пелопоннесской войны, и после неоднократно повторявшемуся и неоднократно же засвидетельствованному: мы видим его черты в «Упадке и падении Римской империи» Гиббона, в междоусобных интригах итальянских городов-государств эпохи Возрождения, а равно и в нынешних закулисных интригах и кабинетных войнах.
Но предполагается, что научное рассуждение должно быть противоядием от этих первобытных порывов – и именно этим должны объясняться его необычайные успехи. Согласно Карлу Попперу, машина научного познания управляется могучим критическим духом и неумолимым принципом фальсификации. Но в эддингтоновской трактовке экспериментов с затмением мы не встретим ни того, ни другого. Эддингтон нянчил свою излюбленную теорию, ограждая ее от доказательств, которые могли бы ее сфальсифицировать, в то же время осуждая соперников, используя рассуждения, больше напоминающие обличительный монолог прокурора, нежели беспристрастную и прямую логику фальсификации.
Согласно Томасу Куну, научное исследование отличается от обычного коллективной готовностью ученых проводить свои исследования в рамках господствующей парадигмы, которая одновременно ставит перед ними цели и дает указания о том, как следует интерпретировать полученные данные. Но в случае с затмением мы не встретим ни следа подобных жестких рамок. Эддингтон использовал свою научную работу для достижения цели, лежащей вне целей, которые могла бы диктовать какая бы то ни было научная парадигма, а именно для преодоления пропасти между британскими и немецкими учеными. Кроме того, преследуя свои цели, более политические, нежели научные, он интерпретировал данные способом, опирающимся в большей степени на стремление к успеху, чем на какую бы то ни было официально принятую парадигму или процедуру приведения доказательств. Его последующие политические махинации и избирательность в публикации данных кажутся вдохновленными скорее личными, хотя и альтруистическими, амбициями, нежели соблюдением некоего общего кодекса научного поведения.
Наука столь могущественна, утверждал Кун, потому что верховенство парадигмы гарантирует ученым (как они считают), что их исследования имеют некое несомненное значение, подкрепленное заранее определенными целями исследования, экспериментальными методами и правилами оценки доказательств, из которых состоит ядро научной парадигмы. Однако манипуляции Эддингтона демонстрируют нам крайне гибкое отношение к правилам, податливость предопределенных рамок и, как следствие, неизбежную сомнительность любого научного результата. В рамках концепции Куна такое непостоянство кажется невозможным, но факты в данном случае отнюдь не на стороне Куна.
Затмение 1919 года – лишь один из примеров крайне избирательного использования экспериментальных данных. Века, прошедшие после научной революции, полны случаев, когда самые прославленные умы отбрасывали или искажали сложные комплексные данные, чтобы создать впечатление, что эксперимент полностью подтверждает их гипотезу или по любой другой причине, зачастую даже не связанной с наукой как таковой.
Грегор Мендель, основатель генетики, почти наверняка исказил статистику, представленную им 1860-х годах в поддержку своего тезиса о том, что гены лежат в основе наследственности. Примерно в то же время Эрнст Геккель заметно приукрасил свои рисунки эмбрионов животных, чтобы поддержать выдвинутый им тезис о том, что «онтогенез повторяет филогенез» – то есть человеческий эмбрион, например, проходит стадии, на которых принимает формы, более или менее сходные в начале с формами эмбрионов рыб, потом – зародышей амфибий и птиц. Роберт Милликен, собирая воедино данные, на основании которых были сделаны выводы о заряде отдельного электрона – эта работа принесла ему Нобелевскую премию по физике 1923 года, – отбросил прочь многие измерения, которые «выглядели неправильно», заявив при этом, что рассмотрел все. Даже Исаак Ньютон манипулировал некоторыми эмпирическими величинами, чтобы они лучше соответствовали его теориям, используя тактику, которая в одном случае, как писал его биограф Ричард Уэстфолл, была «не чем иным, как преднамеренным мошенничеством».

Рисунок 2.3. Упорядоченное представление научных данных: таблицы, обобщающие результаты работы бразильского астрографического телескопа в экспедиции Эддингтона 1919 года
Должен отметить, что в одном отношении Эддингтон и другие современные ученые проявляют исключительную аккуратность и методичность. В оригинальном представлении Эддингтоном данных экспериментов с затмением вы найдете скрупулезное соблюдение определенных правил оформления сообщения. Посмотрите таблицы из отчета Эддингтона, представленные на рисунке 2.3. Они сделаны по-настоящему педантично. В них нет ни прямой лжи, ни искажения данных. В верхней таблице отображен тщательный учет всех 18 фотографий, сделанных бразильским астрографическим телескопом: отмечены время и продолжительность экспозиции, а также тип фотопластинки. В нижней таблице приведены результаты, рассчитанные по зафиксированному на этих снимках положению звезд (без учета снимков, на которых запечатлено недостаточное количество звезд). Наиболее важные числа находятся в правой колонке: они показывают величину гравитационного искривления света, отображенного на каждом снимке. В правом нижнем углу указано среднее значение этих величин, которое суммирует в рамках одного показателя все данные о влиянии гравитации на свет, полученные с помощью бразильского астрографического телескопа. Это «астрографическое число искажения» равно 0,86, что почти точно соответствует ньютоновскому предсказанию 0,87 и меньше половины рассчитанного Эйнштейном показателя, равного 1,74.
Если систематичность и объективность науки легко можно пронаблюдать в кропотливых измерениях и вычислениях, а также во вполне прозрачному представлению числа искажения, то субъективность и неуправляемость науки можно отчетливо различить в том, что произошло дальше: это число, свидетельствующее в пользу ньютоновской теории, было исключено из итогового отчета. Эддингтон в нескольких предложениях объявил его неважным в британском научном обществе и, в конце концов, вообще исключил из учебников, оставив показатели, более близкие к эйнштейновским, полученные посредством второго бразильского телескопа и телескопа из Принсипи, чтобы окончательно решить вопрос в пользу теории относительности Эйнштейна.
В мечтах методиста науки совокупность данных, полученных с трех телескопов, трех измерений способности гравитации преломлять свет, должна оцениваться с помощью процедуры, которая проверяет доказательную значимость каждого из них так же тщательно и так же беспристрастно, как это делал Эддингтон в первый раз, когда подсчитывал числа. Предполагается, что научный метод будет выступать в роли благородного трибунала, объективного и авторитетного, отделяющего правду от лжи, не позволяя личным соображениям, равно корыстным и идеологическим, участвовать в беспристрастной работе исследователя.
В случае с Эддингтоном ничего подобного не происходило: ни трибунала, ни скрупулезного следования методу, позволяющему отличить хорошие снимки от плохих. Дело решилось по старинке: некоторым количеством партийных споров, политических ухищрений и откровенной пропаганды.
Научные трибуналы по факту представляют собой довольно большую редкость, но время от времени они все же случаются, и из одного из них мы можем извлечь несколько немаловажных уроков для науки в целом.
Луи Пастер, пожалуй, самый известный из всех французских ученых и, безусловно, самый почитаемый среди самих французов. Еще при жизни (1822–1895 гг.) он впервые применил прививки от сибирской язвы и бешенства, помог открыть природу брожения, разработал технику стерилизации («пастеризации»), позволяющую предотвратить порчу молока и вина, заложил основы микробной теории болезни, а также обнаружил первое доказательство того замечательного факта, что живые организмы в подавляющем большинстве состоят из «правосторонних» молекул.
Несколько лет назад, когда я посещал Высшую нормальную школу в Париже, мне выпала честь на несколько недель воспользоваться старым кабинетом Пастера. (Пастер был научным руководителем этой школы с 1858 по 1867 год; в какой-то момент он запретил курение в школе, после чего почти все сотрудники уволились.) Сидя за старинным письменным столом, я надеялся, что величие этого человека, витавшее в воздухе кабинета, проникнет в меня через нервные окончания и кончики пальцев. Время от времени мое уединение прерывали посетители, стучащие в дверь, жаждущие вдохнуть величественную атмосферу открытий XIX века. В глазах французов Пастер – подлинное воплощение научного мышления.
Одной из величайших побед Пастера стало опровержение учения о самозарождении жизни. Вскипятите сено в воде и перелейте полученную жидкость в герметичный контейнер. Ничего не произойдет. Но впустите немного воздуха, и в контейнере тут же начнет расти плесень. Почему так происходит? Некоторые ученые XIX века считали, что неживая материя в настое сена вступала в реакцию с воздухом, спонтанно создавая жизнь, которой раньше не было. Пастер, напротив, считал, что с воздухом извне поступает пыль, содержащая невидимые «зародыши» или «споры» плесени, которые начинают активно развиваться, попав в настой. Чтобы взрастить жизнь, нужна жизнь.
В принципе было достаточно ясно, какую из этих противоположных точек зрения выбрать. Подайте в смесь воздух, полностью свободный от «пыли» или «спор». Если в этом случае в смеси разовьется жизнь, теория о самозарождении будет подтверждена.
На практике проблема заключалась в том, что очень трудно создать полностью стерильный воздух, учитывая, что споры, упоминаемые Пастером, неразличимы человеческим глазом, и на момент его исследований не было никаких способов достоверно определить степень чистоты изучаемого воздуха. Тем не менее было предложено много оригинальных решений. Воздух нагревали или пропускали через кислоту, чтобы убить споры. Эксперименты проводились в помещениях давно заброшенных архивов, где должна была давно осесть вся пыль. Воздух хранился в контейнере, покрытом жиром для улавливания пыли, или нагнетался в емкости через длинную изогнутую трубку, которая должна была выполнять все ту же функцию фильтра (рис. 2.4).

Рисунок 2.4. Колба с горлышком, напоминающим шею лебедя
Самый впечатляющий путь к получению достаточно чистого воздуха привел исследователей на вершины гор. В 1860 году Пастер взял с собой 20 тщательно приготовленных отваров на Мер-де-Глас, ледник на горе Монблан во французских Альпах, где подверг эти отвары воздействию холодного чистого альпийского ветра на высоте более 180 метров над уровнем моря. Вернувшись в Париж, ученый обнаружил, что плесень появилась всего в одном отваре. Таким образом, казалось бы, гипотезу о невозможности самозарождения жизни следовало считать доказанной. Однако у Пастера был конкурент. Его великий соперник Феликс Пуше в ответ повторил эксперимент Пастера высоко в Пиренеях, и на всех его отварах появилась плесень.
За год до этого Пастер и Пуше поссорились из-за противоположных взглядов на возможность самозарождения жизни. Был созван комитет Французской академии наук, чтобы присудить приз за лучшее практическое исследование этого вопроса – конкурс, исход которого, по мнению обеих сторон, должен был вынести окончательный вердикт о возможности возникновения слизи и плесени из полностью неорганических ингредиентов. Когда комитет собрался, Пуше обнаружил, что в нем полно сторонников Пастера. Он предпочел уйти, нежели предстать перед таким подозрительным трибуналом. Затем, после успешного эксперимента в Пиренеях, он и Пастер договорились о матче-реванше. Однако и в этот раз он обнаружил, что комиссия полностью состоит из его противников. Он предложил изменить правила, но сторонники Пастера не согласились. Пуше снова удалился, и это был конец идеи спонтанного зарождения.
Некоторые авторы обвиняли Пастера в том, что из-за него провалились оба суда; они указывают на его репутацию (которая была несколько запятнана выпуском его лабораторных журналов) воинственного и несправедливого участника научных споров. Однако я бы рассматривал этот эпизод скорее как некую притчу из жизни, иллюстрирующую тот факт, что в научном процессе взвешивание доказательств – задача, обычно возлагаемая на беспристрастный суд – редко бывает объективным и тем более методичным, но всегда подвергается влиянию политических и личных мотивов, как в процессе рассмотрения доводов, так и во время вынесения окончательного решения.
Начислим
+19
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе