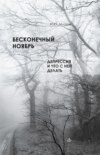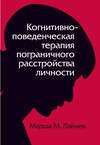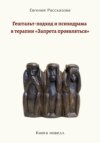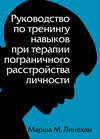Читать книгу: «Жизнь, которую стоит прожить», страница 4
Крах суицидального поведения
Вот что произошло. Доктор О’Брайен пришел ко мне и сказал: «Нам нужно поговорить». Его голос звучал не так, как обычно, – гораздо жестче. «Что ж, Марша, я наконец смирился, что ты можешь покончить с собой, – продолжил он. – Если это произойдет, я один раз помолюсь и закажу тебе одну панихиду».
Я была потрясена: «Вы хотите сказать, что даже не придете на мои похороны?!» «Не приду, – ответил доктор О’Брайен и, выходя из комнаты, добавил: – Сейчас я собираюсь уехать на две недели и надеюсь, что ты будешь жива, когда я вернусь. Хорошо?»
Он ушел, и я тут же впала в истерику. «Я убью себя, – кричала я медсестрам, – вы должны остановить меня! Вы должны остановить меня! Я знаю, что сделаю это. Я буду мертва, когда он вернется. Я не хочу умирать, пока он не вернется. Вы должны остановить меня!» Я хотела покончить с собой, чтобы избавиться от агонии той белой комнаты, но в то же время мне не хотелось умирать. Я рыдала и не могла остановиться.
Этот эмоциональный эпизод сильно повлиял на меня. Я находилась в среде, где никто не мог оказать мне действенную помощь, поэтому мне оставалось вынуждать медперсонал искать новые способы лечения. Мой шантаж суицидом или попытки самоубийства заставляли людей прикладывать больше усилий, чтобы помочь мне.
Это не было осознанной стратегией (как и у большинства людей, которые постоянно грозят покончить с собой). Я подозреваю, что мое суицидальное поведение только усиливалось благодаря активным попыткам помочь мне. Это настолько важное понимание отношений пациента и врача, что стоит повторить еще раз: у персонала не было эффективных инструментов вмешательства, поэтому мне не становилось лучше – наоборот, я все больше теряла контроль над собой. Никто не распознал цикл, подкрепляющий мое неуправляемое поведение.
Можно ли считать это медицинской ошибкой? Врачи не позволили мне умереть, и, наверное, это максимум, который они могли сделать. Увы, я гораздо больше нуждалась в навыках, чем в лекарствах, изоляторе, холодных компрессах, постоянном контроле и сеансах психотерапии. В навыках управлять собственными эмоциями и поведением, терпеть внутреннюю боль и эффективно просить и получать то, что мне нужно. Сегодня, после разработки диалектической поведенческой терапии, я могу дать людям с суицидальными наклонностями конкретные советы, которые помогут им сначала принять свою жизнь, а потом превратить ее из невыносимой в терпимую. Но в 1962–1963 годах сотрудники Института жизни при всех своих благих намерениях не могли помочь таким людям, как я.
Когда в тот день доктор О’Брайен озвучил свою позицию, я впервые осознала, что не хочу умирать. Это стало переломным моментом. Я поняла, что самоубийство несовместимо с моей клятвой выбраться из ада. Я должна была найти способ преодолеть желание умереть, и мне это удалось.
«Дорогой доктор О’Брайен!
Я знаю, что буду скучать по вам и нашему общению. Мне будет не хватать относительной безопасности и защищенности, которую я чувствовала рядом с вами. Но если не получается преодолеть препятствие, разве не лучше поискать какой-нибудь другой способ? Пожалуйста, не думайте, что я хочу вас обидеть – вовсе нет. Просто не вижу смысла находиться взаперти и тратить кучу денег. На что? Ни на что.
Я понимаю, что никогда не стану счастливой, что буду бояться себя и своих отношений с людьми, что, возможно, вся моя жизнь будет бессмысленным хаосом. А вдруг такова воля Бога? Может быть, мой путь в рай лежит через несчастье, страх и хаос? Может, мне стоит принять ситуацию, а не пытаться изменить ее.
Дорогой доктор О’Брайен, я надеюсь, что вы понимаете хотя бы часть того, что я хочу сказать.
Искренне ваша, Марша».
Когда я узнала, что руководство больницы сдалось и мои родители серьезно обдумывают мой переезд в государственную клинику, я решила доказать всем, что они ошибаются, даже если это будет последним, что я сделаю на этом свете. А еще я твердо решила, что не позволю родителям или кому-то другому помогать мне. Я самостоятельно пойду в вечернюю школу и получу аттестат. И из клиники я тоже выйду сама.
Меня вело желание доказать всем, что они не правы. Позже, когда я уже училась в колледже при Университете Лойолы в Чикаго, один профессор объяснил мне, что это вид гнева и он помогает человеку не сдаться.
Тридцатого мая 1963 года, в возрасте двадцати лет, я вышла из Института жизни, в котором провела два года. Я добралась до аэропорта, прилетела в Чикаго, где меня встретил мой брат Эрл, и мы вместе сели в самолет на Талсу. Я никогда не забуду тот перелет. Я пугалась звуков, и Эрл успокаивал меня, что все в порядке. Я столкнулась с новыми трудностями.
Глава 4
Травмирующая среда
Непостижимо, как из общительной и популярной девочки я превратилась в существо, о котором только что рассказала. Вторая загадка – как у меня получилось наладить самостоятельную жизнь после выписки из больницы?
После моего выступления в институте в июне 2011 года, когда некоторые детали моей истории появились в New York Times, почти все предположили, что у меня пограничное расстройство личности – ПРЛ. (Мне не раз приписывали это расстройство.) Правда ли это? Было ли у меня пограничное расстройство до и во время лечения? Есть ли оно сейчас?
Моя семья, и особенно сестра Элин, твердо уверены, что до клиники я и близко не подходила под критерии ПРЛ. Элин была волонтером в организации «Семейные связи» (Family Connections), которая помогает людям с диагнозом ПРЛ. «Я слушала, как пациенты описывают пограничное поведение и свои отношения с родными, – писала мне Элин, – и не видела никаких параллелей с тобой. Ты никогда так себя не вела – не проявляла гнев, не была странной и все такое. Я думаю, до лечения у тебя не было пограничного расстройства личности». Моя школьная подруга Диана тоже не замечала у меня признаков ПРЛ до попадания в клинику.
Да, у меня были головные боли, депрессия и, возможно, я остро реагировала на обесценивание и неодобрение – это распространенные признаки пограничного расстройства личности. И мое поведение в клинике соответствовало многим критериям ПРЛ: импульсивные поступки, суицидальные мысли, физические травмы, резкие перепады настроения на фоне постоянного ощущения внутренней пустоты и то, что психиатры называют «тяжелыми диссоциативными симптомами», – например, чувство, что кто-то преследует меня и заставляет причинять себе вред.
Я соответствовала примерно пяти критериям, и этого оказалось достаточно, чтобы диагностировать пограничное расстройство личности. Вопрос: как я к этому пришла?
Вдохновение святой Агаты
Мой брат Эрл вспоминает, что в детстве я «была забавной, энергичной, жизнерадостной, мы постоянно играли в карты и много смеялись». А другие люди видели не эту искрящуюся девочку, а отличницу – серьезную личность, интеллектуальную и духовную. Я обожала читать. Часами одна сидела в библиотеке. Возможно, я была нестандартно мыслящей интеллектуальной бунтаркой, подвергающей все сомнению. Но я росла в католической семье, ходила в церковную школу, и мой пытливый ум, скажем так, не всегда одобрялся.
Одно из немногих отчетливых воспоминаний детства – книга о жизни великомучеников, которые не отреклись от Бога даже под страхом пыток и смерти. Например, святому Исааку Жогу вырвали ногти, потому что он не отказался от своей веры в Иисуса, а потом убили. Святую Агнессу Римскую в возрасте двенадцати лет приговорили к сожжению, но хворост не загорелся, и ее закололи мечом. Святого Климента привязали к якорю и утопили в море по приказу императора Траяна.
Я очень дорожила этой книгой.
Больше всего я любила историю о святой Агате Сицилийской. В юном возрасте она решила посвятить душу и тело Богу. Сенатор Квинтиан воспылал к ней страстью, но Агата отказала ему, и он на месяц отправил ее в публичный дом, надеясь, что это заставит ее передумать. Но Агата снова отвергла его. Тогда Квинтиан отправил ее в тюрьму и подверг жестоким пыткам, самой варварской из которых было отрезание груди (на картинах святая Агата обычно изображается с подносом, на котором лежат две груди). Даже после пережитого ужаса – а ей было всего двадцать – она стойко хранила свою неколебимую преданность Богу.
Я взяла себе имя святой Агаты для церковного таинства миропомазания. Я никому не сказала, почему выбрала именно его. Причина была очень личной. Мои братья выпытывали у меня ответ, но так ничего и не узнали.
Эти мученики, а также святая Тереза из Лизье, чью автобиографию «История души» я часто перечитывала, вдохновляли меня. Я хотела быть такой же. Я защищала и боролась за то, что считала правильным, и старалась не нарушать заповеди. Мне действительно хотелось стать святой, но, когда много лет спустя я призналась в этом подруге, она сказала: «Марша, ты не святая».
К сожалению, она была права. Я много раз сбивалась с пути, но религиозный огонь поддерживал меня долгие годы. Еще в детстве я решила, что пусть мне вырвут ногти, сожгут на костре, утопят в море и отрежут грудь, но я не откажусь от веры.
Это стало началом моего любовного романа с Богом, который многие годы был смыслом моей жизни. Я скрывала от всех эту любовь. Я намеренно ограничивала себя – например, в какой-то момент решила спать без подушки в качестве жертвы Богу. Понятия не имею, как мне пришла в голову такая мысль, – наверное, от чтения всех этих книг о святых.
Любовный роман с Богом может показаться чем-то странным. Я и сама так думала, но все изменилось, когда я прочитала книгу Бруно Борхерта «Мистицизм: история и проблемы». Он пишет, что мистические переживания сродни состоянию влюбленности. И в этот момент я перестала считать себя странной. Все сошлось. Я едва не закричала от радости.
Подростковые выходки – серьезные и не очень
У меня есть двоюродная сестра Нэнси – она на два месяца младше меня и тоже из религиозной семьи. Мы жили рядом и часто встречались. Нэнси многое может поведать о тех годах, и некоторые ее истории пробуждают во мне смутные воспоминания. Я почти ничего не помню, поэтому рассказываю со слов Нэнси.
Помимо обычных занятий вроде прогулок и игры в теннис, мы любили устраивать вылазки. Вот как Нэнси описывает одну из них: «Когда нам было пятнадцать, еще до того, как мы получили водительские права, мы иногда ночью тайком ездили в круглосуточное кафе. Комната Марши была на первом этаже. Я выезжала на машине из гаража своих родителей и подъезжала к дому Марши. Она оставляла дверь во внутренний дворик открытой, чтобы я могла войти и разбудить ее. Я парковала машину поодаль от дома и шла за Маршей. Кафе находилось в восьми километрах. Мы приезжали, покупали колу. Был час ночи. Родители ни разу не поймали нас».
Мы с Нэнси могли часами играть дуэтом на фортепиано. В школе мы входили в состав вокального ансамбля «Тройное трио»: три альта, три сопрано и три меццо-сопрано. Я была лидером группы и, по словам моей верной подруги Марджи Пилстикер, «прекрасно пела».
Родители
Я просмотрела множество семейных фотографий, пока писала эти мемуары, тщетно надеясь, что это зажжет воспоминания-«лампочки». Зато я заметила кое-что удивительное. На многих фотографиях я рядом с папой – сижу у него на коленях, он обнимает меня за плечи. Это значит, что мы были эмоционально близки. Я приходила к нему в офис по выходным, чтобы помочь секретарю с телефонными звонками. Похоже, у нас с папой была тесная связь, пока меня не положили в клинику. Папино имя – Марстон, и меня назвали Маршей в его честь. Вероятно, его неспособность встать на мою сторону оказала на меня бо́льшее влияние, чем я думала. Папа считал, что никто из нас не должен расстраивать маму. Такое правило не сулило ничего хорошего ни мне, ни моему брату Джону – тем, кто чаще других огорчал маму своими проступками.
Папа был типичным консервативным южанином. Он не имел ни малейшего представления о психических расстройствах. Как и многие люди, даже сегодня, он был убежден, что я могу сама «преодолеть это», если постараюсь. А потому он не знал, что со мной делать. Почти все жители Талсы считали, что молодая девушка должна быть красивой, найти достойного мужчину и стать хорошей (то есть покорной) женой и матерью. Мужчинам положено занимать важные должности и прилично зарабатывать. Поскольку мужчина главный, а женщина второстепенна, мальчиков следует воспитывать уважительнее, чем девочек (я не уверена, что мама так считала, но вела себя именно так). Мальчики имели право выражать свое мнение, а девочки должны были быть послушными и милыми.
Мама не причисляла себя к элите. Она всегда помогала бедным и нуждающимся. Мне кажется, она спокойно могла бы убрать чужую ванную комнату в своей норковой шубе, если бы это было необходимо. Я в детстве восхищалась родителями и до сих пор ими горжусь. Папу считали честным и надежным человеком. Он ценил друзей и уважительно относился к подчиненным. Родители были уважаемыми людьми. Я любила, когда мама приходила в школу: так я могла похвастаться ею. Мне все нравилось в маме – и светящаяся красота, и сострадание к бедным, и религиозность. Иногда она брала меня с собой на мессу, и мы ранним темным утром вместе шли сквозь туман. Шестеро детей – бедная мама! Церковь была единственным местом, где она могла побыть одна.
Мне так хотелось быть похожей на нее, но не получалось. Лишь спустя годы я увидела, как много во мне от мамы. Я ценю красоту, люблю ухаживать за цветами в саду, хожу на утреннюю мессу, с удовольствием танцую на вечеринках – прямо как мама. У нас даже чувство юмора одинаковое.
Жесткие рамки
Мама тоже была типичной южанкой: у нее были четкие представления, как должна выглядеть и вести себя ее дочь. К сожалению, я не соответствовала ее ожиданиям. За исключением, пожалуй, того, что я неплохо научилась готовить воскресные завтраки для всей семьи и обеды для братьев. Южные девочки должны были уметь хорошо готовить и убирать дом. Летом мои старшие братья работали на нефтяных месторождениях. Девочки не работали, но у них были домашние обязанности.
Мама и папа всегда следили за нашим внешним видом: мы должны были быть опрятными, чистыми и нарядными – особенно в церкви. С годами их контроль переместился на внуков. Мой брат Эрл как-то рассказал мне о поездке своего сына к бабушке и дедушке:
«Брендону было десять. Он приехал в Талсу с огромным чувством любви к бабуле и дедуле. Но они с порога сказали, что его куртка выглядит неопрятно и нужно купить новую, на что ребенок, не обижаясь, ответил: “Хорошо, я люблю тебя, бабуля. Я люблю тебя, дедуля. Давайте купим новую куртку”.
Дальше они запретили Брендону общаться с мальчиком, который показался им неподходящим по социальному статусу. И Брендон снова согласился: “Хорошо, бабуля, хорошо, дедуля”.
Так продолжалось вплоть до последнего дня, когда Брендон захотел покататься на лыжах с другом, но вместо этого подчинился дедушке и отправился в магазин за новым костюмом. Позже ребенок признался: “Папа, от моей любви к бабуле и дедуле ничего не осталось”. Мы же в детстве никогда не задумывались о проблеме, которую Брендон сформулировал за пять секунд. Мои родители уничтожили любовь внука своей одержимостью и даже не заметили этого. Вместо того чтобы прислушаться к его желаниям, они следили лишь за тем, чтобы он аккуратно выглядел и правильно себя вел».
Увы, это многое говорит о домашней обстановке, в которой мы росли. У каждого из нас были проблемы из-за несоответствия общепринятым стандартам. Эрл вспоминает, что наши родители «всегда делали нам осуждающие замечания и никогда не хвалили нас».
Дом под напряжением
В нашем доме всегда царило напряжение. Даже Элин, идеальная дочь, чувствовала это. «Я была пай-девочкой, – говорит она, – ужасно боялась влипнуть в какую-нибудь неприятность и потерять одобрение мамы». В доме часто слышался плач, обычно мамин, преимущественно по праздникам и особенно на Рождество, если ей не нравился подарок отца.
Каждый вечер мы собирались за ужином. Мои братья и сестра вспоминают, что никто никогда не интересовался, как прошел день. Мы просто обменивались благопристойными фразами. Таковы были правила игры: «Я расскажу тебе что-то хорошее, что знаю о тебе, а ты в ответ скажешь что-то приятное обо мне».
Я знаю, что мама желала нам добра и хотела, чтобы мы были счастливы. Проблема была только в ее представлении о счастье. Она выросла на плантации в Луизиане. Во время Великой депрессии ее отца обманом втянули в сомнительные махинации и он потерял все состояние. Мама поступила в колледж, чтобы получить профессию учительницы и поддерживать семью. Пока она училась, родители умерли. И она стала помогать своим братьям, пока те не встали на ноги. Потом она переехала в Даллас к своей тете Делани.
Делани была утонченной интеллектуалкой, а ее муж занимался нефтяным бизнесом. В тот момент мама понятия не имела, что значит преподнести себя, быть привлекательной, красиво одеваться, вести светскую беседу и так далее. Она приехала к тете Делани (которую мы все впоследствии называли бабушкой) с лишним весом и без мужа. В те времена быть не замужем после двадцати двух лет считалось неприличным.
Делани верила, что маме будет проще найти мужа, если она похудеет, научится одеваться и овладеет искусными навыками общения. И Делани поработала над ее образом (чему мама была очень рада), а затем отправила ее на поиски мужа к своей сестре в Талсу. Там мама встретила папу – галантного перспективного юношу, приемлемого по меркам католической семьи. План сработал.
Неудивительно, что мама попыталась улучшить меня так же, как ее когда-то, надеясь на такой же положительный результат. Подозреваю, что Делани поддерживала эту идею, учитывая, что они созванивались почти каждый день. Мама хотела превратить меня в милую девочку в соответствии со своим идеалом, но в отличие от матери я просто не была способна на такие изменения.
Между нами росло напряжение. Я сопротивлялась, подсознательно чувствуя, что никогда не смогу стать светской львицей, даже если очень захочу. Но мама была настроена решительно и постоянно все контролировала – мои слова, жесты, одежду, прическу, диету. Ее бесконечные советы не были похожи на заботу. Они звучали как обесценивающие требования.
Как говорила Элин, «чтобы почувствовать материнскую любовь, нужно было соответствовать определенным стандартам». Я не справлялась с этим и постоянно чувствовала мамино неодобрение – оно сквозило в ее голосе и взгляде. Она не могла скрыть осуждения. Элин подтвердила, что во мне не было ничего, что могло понравиться маме. У меня не было ни одного шанса. Как бы я ни старалась, всегда находилось что-то, что разрушало мамин идеал.
Сколько раз мама, вернувшись домой с вечеринки, восторженно рассказывала о какой-нибудь девочке моего возраста! Как она одобряла ее осанку, внешний вид, светские манеры – все что угодно! И каждый раз это заставляло меня думать, что со мной что-то не так. Мама не подозревала, как меня ранили ее слова. Постоянные попытки сделать меня лучше имели обратный эффект.
Это все равно что пытаться превратить тюльпан в розу. Мама думала, что быть розой лучше. Может, и так, но я-то была тюльпаном. Этот конфликт «тюльпан/роза» лег в основу моей диалектической поведенческой терапии.
Я всегда говорю пациентам:
«Если вы тюльпан, не пытайтесь стать розой. Найдите сад тюльпанов».
Бессмысленно сводить себя с ума, стремясь к тому, чего вы не сможете достичь. Нужно найти ценность в том, что имеешь, а не гоняться за миражом.
Неприемлемая среда
Постоянное неодобрение, бесконечное давление и принуждение стать кем-то другим создают среду, которая в лучшем случае травмирует, а в худшем – разрушает психику человека.
Травматическое обесценивание может быть мощным и однократным – например, когда мать отказывается верить словам дочери о сексуальных домогательствах со стороны отца или когда невиновного обвиняют в преступлении. Или травмирующие удары могут быть множественными, но не такими яркими – например, когда кто-то ошибочно настаивает, что ты злишься, ревнуешь, боишься или лжешь, или утверждает, что у тебя есть корыстные внутренние мотивы, которых на самом деле нет. Такие действия заставляют человека почувствовать себя неудачником, которого все отвергают.
В крайнем проявлении такая среда приводит человека к мыслям о суициде или самоповреждении как способу бегства от токсичного окружения. Физическая боль очень часто заглушает невыносимые эмоциональные страдания, потому что стимулирует выброс в кровь собственных опиатов. Когда исчезает последняя надежда на полноценную жизнь, самоубийство кажется единственной возможностью прекратить боль. Это убеждение может быть настолько успокаивающим, что суицид кажется единственным выходом. В таких случаях я всегда призываю пациентов не расслабляться – не существует доказательств, что смерть положит конец их страданиям.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе