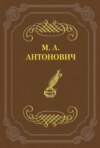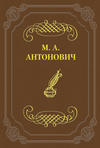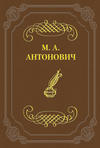Читать книгу: «Асмодей нашего времени», страница 6
Итак, высокие преимущества старого поколения пред молодым несомненны; но они будут еще несомненнее, когда мы рассмотрим подробнее качества «детей». Каковы же «дети»? Из тех «детей», которые выведены в романе, только один Базаров представляется человеком самостоятельным и неглупым; под какими влияниями сложился характер Базарова, из романа не видно; неизвестно также, откуда он заимствовал свои убеждения и какие условия благоприятствовали развитию его образа мыслей. Если б г. Тургенев подумал об этих вопросах, он непременно изменил бы свои понятия об отцах и детях. Г-н Тургенев ничего не сказал про то участие, какое могло принимать в развитии героя изучение естественных наук, составлявших его специальность. Он говорит, что герой принял известное направление в образе мыслей вследствие ощущения; что это значит – понять нельзя; но чтоб не оскорбить философской проницательности автора, мы видим в этом ощущении просто только поэтическую остроту. Как бы то ни было, мысли Базарова самостоятельны, они принадлежат ему, его собственной деятельности ума; он учитель; другие «дети» романа, глуповатые и пустые, слушают его и только бессмысленно повторяют его слова. Кроме Аркадия, таков, например. Ситников, которого автор при всяком удобном случае корит тем, что его «батюшка все по откупам». Ситников считает себя учеником Базарова и обязанным ему своим перерождением: «поверите ли, – говорил он, – что когда при мне Евгений Васильевич сказал, что не должно признавать авторитетов, я почувствовал такой восторг… словно прозрел! Вот, подумал я, наконец нашел я человека!» Ситников рассказал учителю о Eudoxie Кукшиной, образчике современных дочерей. Базаров тогда только согласился отправиться к ней, когда ученик уверил его, что у нее будет много шампанского. Они отправились. «В передней встретила их какая-то не то служанка, не то компаньонка в чепце, – явные признаки прогрессивных стремлений хозяйки», язвительно замечает г. Тургенев. Другие признаки состояли в следующем: «на столе валялись нумера русских журналов, большею частью неразрезанные; везде белели окурки папирос; Ситников развалился в креслах и задрал ногу кверху; разговор идет о Жорж-Занде и Прудоне; наши женщины дурно воспитаны; нужно изменить систему их воспитания; долой авторитеты; долой Маколея; Жорж-Занд, по словам Eudoxie, и не слыхивала об эмбриологии». Но самый главный признак такой:
«– Мы вот добрались, – сказал Базаров, – до последней капли.
– Чего? – перебила Евдоксия.
– Шампанского, почтеннейшая Авдотья Никитишна, шампанского – не вашей крови.
Завтрак продолжался долго. За первою бутылкой шампанского последовала другая, третья и даже четвертая… Евдоксия болтала без умолку; Ситников ей вторил. Много толковали они о том, что такое брак – предрассудок или преступление? и какие родятся люди – одинаковые или нет? и в чем, собственно, состоит индивидуальность? Дело дошло наконец до того, что Евдоксия, вся красная от выпитого вина (фи!) и стуча плоскими ногтями по клавишам расстроенного фортепиано, принялась петь сиплым голосом сперва цыганские песни, потом романс Сеймур-Шиффа: „Дремлет сонная Гренада“12, а Ситников повязал голову шарфом и представлял замирающего любовника, при словах:
И уста твои с моими
В поцелуй горячий слить!
Аркадий не вытерпел наконец. „Господа, уж это что-то на Бедлам похоже стало“, заметил он вслух. Базаров, который лишь изредка вставлял в разговор насмешливое слово – он занимался больше шампанским, – громко зевнул, встал и, не прощаясь с хозяйкой, вышел вон вместе с Аркадием. Ситников выскочил вслед за ними» (стр. 536–537). – Затем Кукшина «попала за границу. Она теперь в Гейдельберге; по-прежнему якшается с студентами, особенно с молодыми русскими физиками и химиками, которые удивляют профессоров своим совершенным бездействием и абсолютною ленью» (стр. 662).
Браво, молодое поколение! отлично подвизается за прогресс; и какое же сравнение с умными, добрыми и нравственно-степенными «отцами»? Даже лучший представитель его оказывается пошлейшим господином. Но все-таки он лучше других; он говорит с сознанием и высказывает собственные суждения, ни от кого не заимствованные, как оказывается из романа. Мы и займемся теперь этим лучшим экземпляром молодого поколения. Как сказано выше, он представляется человеком холодным, неспособным к любви, ни даже к самой обыкновенной привязанности; даже женщину он не может любить поэтическою любовью, которая так привлекательна в старом поколении. Если, по требованию животного чувства, он и полюбит женщину, то полюбит одно только тело ее; душу в женщине он даже ненавидит; он говорит, «что ей совсем и понимать не нужно серьезной беседы и что свободно мыслят между женщинами только уроды». Эта тенденция в романе олицетворяется следующим образом. На бале у губернатора Базаров увидел Одинцову, которая поразила его «достоинством своей осанки»; он и влюбился в нее, то есть, собственно, не влюбился, а почувствовал к ней какое-то ощущение, похожее на злобу, которое г. Тургенев старается охарактеризовать такими сценами:
«Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительною дурью. – „Нравится тебе женщина, – говорил он, – старайся добиться толку, а нельзя – ну, не надо, отвернись – земля не клином сошлась“». «Одинцова ему нравилась», следовательно…
«– Мне сейчас сказывал один барин, – говорил Базаров, обращаясь к Аркадию, – что эта госпожа – ой, ой; да барин, кажется, дурак. Ну, а по-твоему, что она, точно – ой-ой-ой?
– Я этого определенья не совсем понимаю, – отвечал Аркадий.
– Вот еще! Какой невинный!
– В таком случае я не понимаю твоего барина. Одинцова очень мила – бесспорно, но она так холодно и строго себя держит, что…
– В тихом омуте… ты знаешь! – подхватил Базаров. – Ты говоришь, она холодна. В этом-то самый вкус и есть. Ведь ты любишь мороженое.
– Может быть, – пробормотал Аркадий, – я об этом судить не могу.
– Ну? – говорил Аркадий ему на улице: – ты все того же мнения, что она – ой-ой-ой?
– А кто ее знает! Вишь, как она себя заморозила, – возразил Базаров и, помолчав немного, прибавил: – герцогиня, владетельная особа. Ей бы только шлейф сзади носить да корону на голове.
– Наши герцогини так по-русски не говорят, – заметил Аркадий.
– В переделке была, братец ты мой, нашего хлеба покушала.
– А все-таки она прелесть, – промолвил Аркадий.
– Эдакое богатое тело! – продолжал Базаров, – хоть сейчас в анатомический театр.
– Перестань, ради бога, Евгений! это ни на что не похоже.
– Ну, не сердись, неженка. Сказано – первый сорт. Надо будет поехать к ней» (стр. 545). «Базаров встал и подошел к окну (в кабинете Одинцовой, наедине с нею).
– Вы желали бы знать, что во мне происходит?
– Да, – повторила Одинцова, с каким-то ей еще непонятным испугом.
– И вы не рассердитесь?
– Нет.
– Нет? – Базаров стоял к ней спиной. – Так знайте же, что я люблю вас глупо, безумно… Вот чего вы добились.
Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался: все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая, – страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей… Одинцовой стало и страшно и жалко его. (– Евгений Васильевич, – проговорила она, и невольная нежность зазвенела в ее голосе.
Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор – и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь…
Она не тотчас освободилась из его объятий; но мгновенье спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова» (догадалась, в чем дело).
«Он рванулся к ней…
– Вы меня не поняли, – прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула… Базаров закусил губы и вышел» (туда ему и дорога).
«Она до обеда не показывалась, и все ходила взад и вперед по своей комнате, и медленно проводила платком по шее, на которой ей все чудилось горячее пятно (должно быть, мерзкий поцелуй Базарова). Он выспрашивала себя, что заставляло ее „добиваться“, по выражению Базарова, его откровенности, и не подозревала ли она чего-нибудь… „Я виновата, – промолвила она вслух, – но я это не могла предвидеть“. Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней».
Вот несколько черт тургеневской характеристики «детей», черты действительно неказистые и не лестные для молодого поколения, – что же делать? С ними нечего было бы делать и нечего было бы сказать против них, если бы роман г. Тургенева был обличительного повестью в модерантивном духе13, то есть вооружался бы против злоупотреблений дела, а не против его сущности, как, например, в повестях взяточных восставали не против чиновничества, а только против злоупотреблений чиновничьих, против взяток; само же чиновничество оставалось неприкосновенным; были дурные чиновники, их и обличали. В этом случае смысл романа-вот какие «дети» попадаются иногда! – был бы непоколебим. Но, судя по тенденциям романа, он принадлежит к форме обличительной, радикальной и походит на повести, положим, откупные, в которых выражалась мысль об уничтожении самого откупа, не только его злоупотреблений; смысл романа, как мы уже заметили выше, совершенно другой – вот как дурны «дети»! Но возражать и против такого смысла в романе как-то неловко; пожалуй, обличат в пристрастии к молодому поколению, а что еще хуже, станут укорять в недостатке самообличения. Поэтому пускай кто хочет защищает молодое поколение, только не мы. Вот женское молодое поколение, это другое дело; тут мы в стороне, и никакое самовосхваление и самообличение невозможно. – Вопрос о женщинах «поднят» недавно, на наших глазах и без ведома г. Тургенева; «поставлен» он совершенно неожиданно, и для многих почтенных господ, как, например, для «Русского вестника», был совершеннейшим сюрпризом, так что этот журнал, по поводу безобразного поступка прежнего «Века»14, с недоумением спрашивал: о чем хлопочут русские женщины, чего им недостает и чего они хотят? Женщины, к удивлению почтенных господ, отвечали, что они хотят, между прочим, учиться тому, чему учат мужчин, учиться не в пансионах и институтах, а в других местах. Нечего делать, открыли для них гимназию; нет, говорят они, и этого мало, подавай нам больше; они захотели «покушать нашего хлеба», не в грязном смысле г. Тургенева, а в смысле того хлеба, которым живет развитой, разумный человек. Дали ли им больше и взяли ли они больше, – это с точностью неизвестно. А действительно есть и такие эмансипированные женщины, как Eudoxie Кукшина, хотя все-таки, может быть, не напиваются шампанским; болтают же так точно, как и она. Но и при этом нам кажется несправедливостью выставлять ее как образчик современной эмансипированной женщины с прогрессивными стремлениями. Г-н Тургенев, к сожалению, наблюдает отечество из прекрасного далека; вблизи он бы увидал женщин, которых с большей справедливостью можно было бы изобразить вместо Кукшиной как экземпляры современных дочерей. Женщины, особенно в последнее время, довольно часто стали появляться в разных школах в качестве учительниц безмездных, а в более ученых – в качестве учениц. Вероятно, и у них, г. Тургенев, возможна настоящая любознательность и действительная потребность знания. Иначе что же за охота была бы им таскаться и просиживать по нескольку часов где-нибудь в душных и неблаговонных классах и аудиториях, вместо того чтоб пролежать это время где-нибудь в более комфортабельном месте, на мягких диванах, и любоваться Татьяной Пушкина или хоть вашими произведениями? Павел Петрович, по вашим же словам, удостоил поднести умащенное снадобьями лицо к микроскопу; а некоторые из живых дочерей считают за честь для себя поднести свое неумащенное лицо к вещам, которые еще более – фи! чем микроскоп с инфузориями. Случается, что под руководством какого-нибудь студента молодые девицы собственными руками, понежнее ручек Павла Петровича, разрезывают неблаговонный труп и даже смотрят на операцию литотомии15. Это чрезвычайно непоэтично и даже мерзко, так что всякий порядочный человек из породы «отцов» плюнул бы по этому случаю; а «дети» смотрят на это дело чрезвычайно просто; что же тут такого дурного, говорят они. Все это, может быть, редкие исключения, и в большинстве случаев молодое женское поколение руководится в своих прогрессивных действиях форсом, кокетством, фанфаронством и т. д. Не спорим; очень возможно и это. Но ведь разница в предметах неблаговидной деятельности дает различное значение и самой неблаговидности. Иной, например, для шику и по капризу бросает деньги в пользу бедных; а другой так же точно для шику и по капризу колотит свою прислугу или подчиненных. И в том и в другом случае один каприз; а разница между ними большая; и на какой из этих капризов художники должны тратить больше остроумия и желчи в литературных обличениях? Ограниченные меценаты литературы, конечно, смешны; но во сто раз смешнее, а главное, презреннее меценаты парижских гризеток и камелий. Это соображение можно приложить и к рассуждениям о женском молодом поколении; гораздо лучше форсить книгой, чем кринолином, кокетничать с наукой, чем с пустыми франтами, фанфаронить на лекциях, чем на балах. Это изменение предметов, на которые направлено кокетство и фанфаронство дочерей, очень характеристично и представляет дух времени в очень выгодном свете. Подумайте, пожалуйста, г. Тургенев, что это все значит и отчего это прежнее женское поколение не форсило на учительских креслах и ученических скамейках, отчего ему и в голову не приходило забираться в аудитории и якшаться с студентами, хоть бы по капризу, отчего для его сердца был всегда милее образ гвардейца с усиками, чем вид студента, о жалком существовании которого оно едва ли и догадывалось? Отчего произошла такая перемена в женском молодом поколении и что тянет его к студентам, к Базарову, а не к Павлу Петровичу? «Это все от моды пустой», – скажет г. Костомаров, которого ученым словесам жадно внимало и женское молодое поколение. Да отчего же мода-то именно такая, а не другая? Прежде в женщинах было «что-то заветное, куда никто не мог проникнуть». Но что же лучше – заветность и непроницаемосгь или любознательность и охота к ясности, к учению? и над чем следует больше посмеяться? Впрочем, не нам учить г. Тургенева; мы сами лучше поучимся у него. Он изобразил Кукшину в смешном виде; но его Павел Петрович, лучший представитель старого поколения, гораздо смешнее, ей-богу. Представьте себе, живет в деревне барин, уже приближающийся к старости, и все свое время убивает на то, чтоб мыться да чиститься; ногти у него розовые, вычищенные до ослепительного блеска, белоснежные рукавчики с крупными опалами; в различные времена дня он одевается в различные костюмы; почти ежечасно он переменяет галстучки, один другого лучше; благовониями несет от него на целую версту; даже в разъездах он возит с собой «серебряный несессер и походную ванну»; это Павел Петрович. А вот в губернском городе живет молодая женщина, принимает к себе молодых людей; но, несмотря на это, она не слишком заботится о своем костюме и туалете, – чем г. Тургенев думал унизить ее в глазах читателей. Ходит она «несколько растрепанная», «в шелковом, не совсем опрятном платье», бархатная шубка ее «на пожелтелом горностаевом меху»; и в то же время почитывает кое-что из физики и химии, читает статьи о женщинах, хоть с грехом пополам, а все-таки рассуждает о физиологии, эмбриологии, о браке и проч. Все это неважно; но все же она не назовет эмбриологии английской королевой, а, пожалуй, скажет даже, что это за наука такая и чем она занимается, – и то хорошо. Все-таки Кукшина не так пуста и ограниченна, как Павел Петрович; все-таки ее мысли обращены на предметы более серьезные, чем фески, галстучки, воротнички, снадобья и ванны; а этим она видимо пренебрегает. Она выписывает журналы, но не читает и даже не разрезывает их, а все-таки это лучше, чем выписывать жилеты из Парижа и утренние костюмы из Англии, подобно Павлу Петровичу. Спрашиваем самых что ни на есть рьяных поклонников г. Тургенева: какой из этих двух личностей они дадут преимущество и кого они сочтут более достойным литературного осмеяния? Только несчастная тенденция заставила его самого поднять на ходули своего любимца и осмеять Кукшину. Кукшина действительно смешна; за границей она якшается с студентами; но все же это лучше, чем показывать себя на Брюлевской террасе между двумя и четырьмя часами, и гораздо простительнее, чем почтенному престарелому человеку якшаться с парижскими танцовщицами и певицами16. Вы, г. Тургенев, осмеиваете стремления, которые бы заслуживали поощрения и одобрения со стороны всякого благомыслящего человека, – мы не имеем здесь в виду стремления к шампанскому. И без того много терний и препятствий встречают на пути молодые женщины, желающие учиться посерьезнее; и без того злоязычные сестры их колют им глаза «синими чулками»; и без вас у нас есть много тупых и грязных господ, которые тоже, подобно вам, укоряют их за растрепанность и отсутствие кринолинов, издеваются над их нечистыми воротничками и над их ногтями, не имеющими той хрустальной прозрачности, до которой довел свои ногти ваш милый Павел Петрович. Довольно бы и этого; а вы еще напрягаете свое остроумие на придумывание для них новых оскорбительных прозвищ и хотите пустить в ход Eudoxie Кукшину. Или вы в самом деле думаете, что эмансипированные женщины хлопочут только о шампанском, папиросках и студентах или об нескольких единовременных мужьях, как воображает ваш собрат по искусству г. Безрылов? Это еще хуже, потому что набрасывает невыгодную тень на вашу философскую сообразительность; но и другое – насмешки – тоже хорошо, потому что заставляет сомневаться в вашей симпатии всему разумному и справедливому. Мы лично расположены в пользу первого предположения.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе