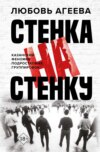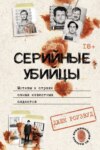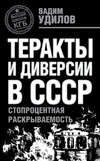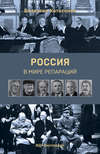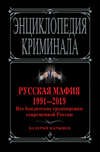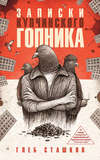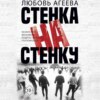Читать книгу: «Стенка на стенку. Казанский феномен подростковых группировок», страница 3
Почему молчал Ильдар?
В восьмой школе был выпускной вечер. Девочки в белоснежных платьях и необыкновенно галантные мальчики кружились в вальсе.
Илья Г., бывший ученик этой школы, на вечер опоздал, пришел к самому концу. С ним был его товарищ Павел П. В общее веселье они не включились, а уединились с Ильдаром Г. и втроем вели о чем-то тихий разговор.
Илья и Павел подкатили к школьному зданию на такси, и только Ильдар знал, какой ценой был оплачен проезд от улицы Коломенской до поселка Новое Аракчино…
Это случилось 27 июня. Илья и Павел решили выпить. К десяти часам бутылка опустела. Денег на новую у них не было, и они решили кого-нибудь ограбить. Прихватив топор, вышли на ночную улицу. Здесь к ним подошел старичок с клюкой и попросил проводить его домой. Павел бережно взял прохожего под локоть и вскоре свободной рукой дал приятелю знак… Илья вложил ему в руку топор.
В карманах прохожего они нашли семь рублей. Этого хватило на спиртное и на такси.
Преступников нашли довольно быстро. Судил их Верховный суд ТАССР. Илье как организатору преступления дали 8 лет, Павлу – 10.
Во время следствия и судебного заседания много внимания уделялось выяснению причин, приведших их на скамью подсудимых. Впрочем, не потребовалось особого труда, чтобы понять, истоки бесчеловечности – в неправильном семейном воспитании. Оба были из так называемых неблагополучных семей. Один вовсе не знал отца, у другого он умер от алкоголизма. Да и матерям было не до сыновей: одна любила выпить, другая слишком была занята собой.
Павел уже год как состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Илья, на первый взгляд, был парнем неплохим. Он уже работал на вертолетном объединении. Там им были довольны, приняли в комсомол. И все-таки в роковой момент озлобленность, заложенная полубеспризорным детством, проявилась.
Нельзя без содрогания читать материалы следствия. Было жутко от сознания того, что эти подростки жили с нами в одном городе и что их жертвой мог оказаться каждый из нас. Но когда я потом пыталась осмыслить то, что узнала в кабинете следователя Московского РОВД Е.А. Халиковой, вспомнилась не дикая сцена убийства, а тихий разговор средь шумного школьного бала. И если в действиях преступников все было понятно и объяснимо, то поведение Ильдара Г. вызвало немало вопросов. Ведь он первым узнал об убийстве и, храня эту страшную тайну, стал пособником преступников.
Когда на допросе Ильдара спросили, почему он укрывал убийц от правосудия, он ответил: «Но ведь Илья – мой друг».
Психологи объясняют такое поведение чувством ложного товарищества. Но вряд ли стоит толковать его как простое заблуждение. Скорее всего, это знак согласия во взглядах на жизнь, на взаимоотношения людей.
Однажды я была на процессе в Приволжском районном нарсуде. Судили четверых участников уличной драки. И казалось, что судья Л. П. Тимофеева говорила на одном языке, а обвиняемые, некоторые свидетели – на другом. Трусость они называли храбростью, укрывающий преступника вызывал уважение, а человека, говорящего правду, порицали.
Поразительно, но в момент суда драка в поселке Калиновка, случившаяся в солнечный день первого сентября, многим казалась событием незначительным.
Драки. Подумаешь – подрались! С кем в молодости не бывает! Тем более, что серьезных повреждений никто не получил. Стреляли – но не убили (дробинки в телах потерпевших не в счет).
Судебный процесс стал своего рода лакмусовой бумажкой, проверкой на порядочность десятков людей. И большинство этой проверки не выдержало.
Обвиняемые чувствовали себя чуть ли не героями. Еще бы! Они так и не назвали имена тех, кто был с ними! Не знали, не видели, не помнили. Дело осложнилось тем, что свидетели: ученица школы № 114 Залия X., учащиеся ПТУ‐35 Нурия Г. и Нурия М., а также водитель КПОГАТ‐2 Юрий В. отказались от многих показаний, которые давали во время предварительного следствия. Между тем они были крайне важны для определения истинной виновности подсудимых. Так, одна из свидетельниц показала на допросе у следователя, что Наиль Т. имел во время драки самопал, а на суде она этого уже не утверждала. Сам подсудимый категорически отрицал свою вину. И неизвестно, как закончилось бы дело, если бы в конце заседания он вдруг не сознался сам. И с каким уважением заговорила тогда с ним судья! Кто-кто, а она прекрасно знает, как нелегко даются подобные признания, и говорят они о том, что еще не все человеческое в человеке потеряно. А вот родственники и друзья Наиля оценили этот поступок иначе.
Подсудимые понесли заслуженное наказание. А вот пошел ли этот урок впрок тем, кто показал на суде свою гражданскую несостоятельность?
Как воспитать в подростках противоядие против равнодушия, трусости, всего того, что мешает им в критическую минуту остаться людьми? Как научить их распознавать истинное и ложное товарищество, отличать мужество от наглости?
Для этого прежде всего необходимо, чтобы слова воспитателей подкреплялись их поступками. Трудно воспитать детей честными, если бесчестны родители. Вряд ли тут помогут разговоры о долге и ответственности. Более действенным оказывается пример уличного главаря.
Недавно в троллейбусе я стала невольным свидетелем одного диалога. Женщина преклонных лет рассказывала своей молодой знакомой, как несправедливо пострадал ее сын. Судя по всему, он был замешан в крупной уличной драке, осужден. Мать защищала в суде сына, как могла: заручилась прекрасными характеристиками от бывших учителей и спортивного тренера, ездила на консультацию к юристам Москвы. В ее голосе зазвучали горестные нотки, вызывающие сочувствие. Но когда женщина стала рассказывать о самой драке, в ее голосе зазвенел металл: «Какой кошмар! Распустили подростков!» Но эти слова уже не относились к собственному сыну…
Не думаю, что эта женщина учила своего сына плохому. Но достаточно ли последовательно она учила его хорошему?
Велико горе родителей, чьи дети оказались на скамье подсудимых. Но как часто в этом есть и доля их вины!
Любовь Агеева
Вечерняя Казань, 4 декабря 1980 года
Когда любовь слепа
Отец Леонида С. пришел в суд с толстой папкой документов. Он принес дневник сына, хвалебные характеристики, с особой гордостью говорил о том, что в прошлом году его принародно благодарили за хорошее воспитание сына.
Сыном отец доволен. Отношения у них хорошие, мальчик родителей уважает, доброжелателен, помогает по дому. Правда, много волнения причинил, когда в седьмом классе вдруг стал плохо учиться. Отец ушел на пенсию, чтобы помочь ему. Девятый класс Леня закончил неплохо. В десятом предполагал учиться еще лучше – на семейном совете решили, что он будет поступать в медицинский институт.
То, что сын оказался на скамье подсудимых, было для отца полной неожиданностью. «Это нелепая случайность», – утверждал он на суде.
Свидетели показывали, что он был одним из самых активных участников драки. Сам же подросток утверждал, что пошел в соседний поселок лишь для того, чтобы посмотреть, как будут драться другие.
– Его заманили, – снова пытался отец найти хоть какое-то оправдание жестокости сына. И его можно было понять. Единственный ребенок, на которого возлагалось столько надежд, никак не представлялся ему преступником.
Между тем это была не первая драка, в которой участвовал сын. В седьмом классе он стал учиться хуже совсем не случайно: часто прогуливал уроки, много времени проводил на улице. И после одной из уличных драк его фамилию узнали в районной инспекции по делам несовершеннолетних.
Это был сигнал к беспокойству, но отец не придал драке особенного значения. Правда, меры он принял. Был усилен контроль за подростком, отец часто бывал в школе, поддерживал постоянную связь с классным руководителем.
Казалось, опасность миновала. Оставался последний год учебы в школе. И вот – судебный приговор: несовершеннолетний Леонид С. на один год лишен свободы. Приговор не только сыну, но и им – отцу и матери.
Беспощадная правда, прозвучавшая неожиданностью в выступлении прокурора: родители «перекормили» сына чрезмерной заботой. Причина постигшего дом несчастья – и в них самих, в их слепой любви к сыну.
На алтарь этой любви они положили все: собственные интересы, здоровье. Это и понятно. Леня был поздним долгожданным ребенком. Родители сделали из него своего кумира.
Этому в немалой степени способствовала болезнь сына. Он перенес тяжелое заболевание, ему было противопоказано любое нервное или физическое напряжение – болезнь могла возобновиться. Щадя сына, родители отказались от какой-либо требовательности к нему, потакали всем его желаниям. Он рос, твердо веря в свою исключительность. И годами воспитываемый эгоизм в конце концов привел к тому, что сын перестал уважать не только других, но даже и родителей.
Он смотрел на отца, у которого от волнения тряслись руки и срывался голос, с поразительным спокойствием. И не было в этом взгляде угрызений совести – видно, даже и теперь он не научился переживать чужую боль. На лицах его соучастников читалось раскаяние, на его – нет…
Когда подсудимым предоставили последнее слово и заговорил Леонид С., я услышала умиленный шепот его матери:
– Смотри, а наш сын красивее всех…
Воистину родительская любовь может быть слепа. Жаль, что порой люди понимают это очень поздно.
Любовь Агеева
Вечерняя Казань, 4 сентября 1980 года
Мы и дети
Миссия защищать
Прежде чем познакомить с повесткой очередного заседания, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Приволжского райисполкома сообщила мне радостную весть:
– Помните, три месяца назад мы слушали Наиля, которого мать отказывалась забрать из интерната? Все в порядке у Наиля: живет с мамой, хорошо учится.
Случай был непростой. Желая образумить мать, члены комиссии решили обратиться к помощи общественного мнения и позвонили в редакцию. Я пришла в исполком сразу же после заседания. Еще не были убраны документы со стола. Члены комиссии сидели опустошенные и разбитые; ходила по рукам склянка с валидолом…
Чужие люди приняли тогда беду одиннадцатилетнего паренька как собственную и постарались сделать все возможное, чтобы у него был свой дом. Сегодня мне вновь предстояло с ними встретиться.
Если для заведующей роно Л.П. Ярославцевой, начальника инспекции по делам несовершеннолетних С.Я. Копича, мастера производственного обучения СГПТУ-51 Е.И. Александровой, методиста районного Дома пионеров Д.Г. Шамсутдиновой работа в комиссии близка к профессиональным обязанностям, то для остальных членов – совсем наоборот. Их профессии далеки от педагогики.
Например, Е. И. Башкирова – старший инспектор райсобеса, Р.Ш. Галяутдинов – председатель профкома завода РТИ, Р.Ш. Садыкова и Р.Ш. Сабирзянова – инженеры… Руководит комиссией заместитель председателя райисполкома Ф.Ф. Гараев. Не только чувство долга заставляет их каждый четверг собираться в зале заседаний райисполкома – в первую очередь искренняя забота о подрастающей смене.
У этих людей трудная, но необходимая миссия – стоять на защите детства. Это понятие не абстрактное, и в жизни проявляется порой самым неожиданным образом.
На этот раз повестка заседания была вполне обычной: объяснения давали несколько подростков, задержанных работниками милиции. В зал входили симпатичные в общем-то ребята, но оказывалось, что они способны на поступки, которые никак не назовешь детской шалостью. А. Васильев, например, ударил соседа по подъезду. Г. Аюпов с дружками учинил драку в клубе села Усады. Меру наказания ему определила районная комиссия.
Кстати, этим заканчивается разбор каждого подобного дела. Комиссия предупреждает или налагает штраф – в зависимости от обстоятельств. И это тоже защита детства. Подростков, нарушивших нормы общественного порядка, защищают от самих себя, от всего вредного, что успело закрепиться в их характерах при неправильном воспитании. Вот почему наказываются чаще всего не сами проштрафившиеся, а те, кто их воспитывает, – родители, педагоги.
Разбор дел был достаточно стереотипен, чтобы знакомить читателей с каждым из них. Да и не в процедуре заседания дело. Важнее понять, что приводит детей и подростков к правонарушениям. Что касается тех, с кем вела разговор комиссия на этот раз, причина вырисовывалась одна – бесконтрольность. Родители не знают, чем занимаются их отпрыски в свободное время.
Вспомнилось выступление на родительском собрании в одной из школ С.Я. Копича. Он рассказывал о том, как однажды в пункт милиции привели большую группу подростков и, выясняя обстоятельства правонарушения, задержали их там до часу ночи. Ни один родитель не стал искать своего сына…
Приглашенных на заседание комиссии матерей не призывали ходить по пятам за своими великовозрастными чадами – это просто невозможно. И тем не менее с них спрашивали за плохое поведение подростков. Конечно, эти женщины не учили своих детей сквернословить на трамвайной остановке, красть лыжи из школьного склада… Но учили они их жить по-другому? Вот в чем вопрос.
Весьма показательным стал разговор с одним из отцов. Его сын уже работает, видимо, неплохо работает, – во всяком случае, дорожит своей репутацией на заводе. Ранее у подростка не клеились школьные дела, и ему разрешили устроиться на работу с условием продолжить образование в вечерней школе. Но вот теперь речь идет о постоянных пропусках уроков, о том, что оплачиваемый льготный день тратится им на праздные занятия: ученика задержали в пивном баре.
Поинтересовались у отца, почему сын так относится к школе, и поняли, что другого отношения быть не может. Оказывается, отец сам не видит большого толка в учебе, но комиссия может быть спокойна: сына он учиться заставит – без «бумажки» сегодня не проживешь.
Разговор шел при подростке, видно, уже не первый раз отец преподавал ему урок безнравственности, сам не сознавая, к чему это приведет. К сожалению, подобное слышишь от родителей не так уж редко.
Хотим мы этого или не хотим, дети строят свою жизнь в первую очередь по правилам, усвоенным в семье. А если эти правила расходятся с установками, скажем, школы, то жертвой становится ребенок, как это случилось с учеником 8 «А» класса школы № 88 Николаем Топушевым. У мальчика осложнились отношения с учителями и одноклассниками, что нередко бывает в подростковом возрасте. И выяснять отношения всей силой родительской любви стали Топушевы-старшие. Конфликт зашел так далеко, что это отразилось на здоровье мальчика: с ноября прошлого года он не ходит в школу.
Комиссия, своего рода третейский суд, так и не смогла примирить две стороны. Топушевых-старших обязали вернуть подростка в школу, не в 88-ю, так в другую. В случае, если это решение будет не выполнено, Закон о всеобщем среднем образовании позволяет комиссии отправить подростка в специальную школу, обучение в которой оплачивается родителями.
От разговора с учеником школы № 48 Сергеем П. у меня осталось какое-то неудовлетворение. Представленный в комиссию протокол свидетельствовал о том, что подросток вместе с другими ребятами снимал токоприемники в трамвае. Но учительница Г.А. Хабибуллина заявила, что подобный проступок он совершить не мог. Это один из лучших учеников школы, активно занимается спортом, ведет секцию для малышей. И сам подросток говорил о том, что истинные виновники случившегося убежали.
Не исключено, что было именно так, хотя нет гарантии, что подросток не решил вдруг созорничать.
На комиссии дело разбирается без свидетелей случившегося. Единственное основание – протокол, составленный на месте происшествия. Это возлагает колоссальную ответственность на тех, кто такие протоколы пишет. Ведь если Сергей в самом деле не виноват, вызов в райисполком вряд ли сыграет положительную роль в становлении его характера.
В основе любого решения должно быть благо подростка. Это особенно ярко проявляется, когда комиссия рассматривает заявления несовершеннолетних с просьбой о трудоустройстве. Как известно, ни один руководитель не имеет права принять подростка на работу без решения, которое взвешивает все: семейные обстоятельства, состояние здоровья, будущее рабочее место.
Я видела, как была обеспокоена судьбой С. Порфирьева инспектор по делам несовершеннолетних Н.Н. Туманова. Она попросила сделать ради него исключение – в середине учебного года разрешить уйти из профтехучилища; сама подыскала для него хорошую работу. Основания вполне уважительные: многодетной семье Порфирьевых не помешает зарплата сына, к тому же подростка не удовлетворяют условия учебы в СГПТУ-75.
– Не мешает заслушать на комиссии руководителей училища о состоянии воспитательной работы, – замечает кто-то из членов комиссии.
Это училище новое, с неустоявшимися традициями, неокрепшим педагогическим коллективом. Контингент учащихся – самый разношерстный, много ребят, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Таких, например, как А. Садыков, который недавно осужден на три года лишения свободы за драку. На основании статьи 461 УК РСФСР он получил отсрочку исполнения приговора. Комиссия должна была закрепить за ним общественного воспитателя из числа педагогов СГПТУ-75. Однако на заседание ни сам подросток, ни наставник, ни родители не явились. Не были родители и на другом заседании. Сын объяснил причину так: мать с отцом разводятся, и им не до него.
Мы бываем порой удивительно беспомощными, когда видим такие неблагополучные семьи. Не бьют своевременно тревогу педагоги, проявляют поразительное равнодушие трудовые коллективы, где работают безответственные родители. Когда же дело доходит до ходатайства о лишении родительских прав, бывает уже поздно – детство у ребенка поломано. Так случилось, например, с четырнадцатилетним пареньком, который был доставлен прямо на заседание после очередного побега из детского дома. Мы пытались выяснить, чем ему не угодил детский дом, но он не мог сказать ничего вразумительного, так как не прожил там в общей сложности и месяца. Еще ни разу в нынешнем учебном году мальчик не садился за парту.
Кого обвинять в этом? Только ли мать, запойную пьяницу? Если бы ее лишили родительских прав раньше, потеря эта для сына, прошла бы, возможно, менее болезненно.
Хирурги, облегчая людские страдания с помощью скальпеля, не считают, однако, операцию единственной возможностью преодолеть болезнь. Просто в этот момент без нее уже не обойтись. Действительно, не лучше ли больше внимания уделять профилактике?
Лишение родительских прав – тоже мера вынужденная, последствия ее зачастую трудно предсказать. Но ведь и здесь есть меры профилактики. Семья живет не в вакууме: за стеной – соседи, в детском саду и школе – педагоги, на работе – сослуживцы…
Защита детства – это тот случай, когда вмешательство общественности в личную жизнь оправдано. Существование районных комиссий по делам несовершеннолетних – лишнее тому доказательство.
Любовь Агеева
Вечерняя Казань, 15 апреля 1983 года
На августовский педсовет
Требуются профессионалы
В загородном пионерском лагере «Огонек», что в Высокогорском районе, начиналась вторая смена. Обычные хлопоты первого дня: обживание спальных корпусов, взаимное знакомство детей и педагогов… Уже через несколько часов в лагере поселилась тревога: не пришел к обеду мальчик из второго отряда. Вещи на месте, а он исчез. Кого искать, если детей еще не знают в лицо?
Он появился в лагере ближе к вечеру. На вопросы отвечать отказался, разговаривал со всеми дерзко, с вызовом. Когда вскоре приехала его мать, мальчик в присутствии начальника лагеря заявил ей, что тут не останется, все равно убежит. Мать пыталась его образумить. Возможно, ей бы это и удалось, но все изменил дальнейший ход событий. Начальник пионерлагеря заявила родительнице, что та может забирать сына домой, – в лагере он не останется.
«Я с таким трудом достала путевки, – писала женщина в редакцию. – Для нас, учителей, это проблема, так как наш профсоюз своего пионерлагеря не имеет. А моему сыну врач настоятельно рекомендовала отдых в лесах нашей местности. Вот почему я решила отправить его за город на все три летних месяца. В первую смену он отдыхал в другом лагере, ему там понравилось. А тут в первый же день вернулся домой… Я его сразу же отправила назад. Не оправдываю своего сына, но думается, никто не давал права начальнику лагеря обойтись с нами так грубо…».
Восстановить с точностью ход событий, происшедших в «Огоньке», не удалось – есть две версии мало похожие друг на друга: нашей читательницы и начальника пионерлагеря Н.М. Ахметзяновой. Да и задача, думается, не в этом. В главном ситуация рисовалась одна.
Сбор знакомства новой смены начался с обсуждения поведения; Ильдара X. – его выставили перед всей линейкой. Далеко окрест радиоусилитель разносил грозный голос Нины Михайловны, говорившей о «случае человеческой подлости». Возможно, другие ребята и не услышали из ее уст слова «подонок», как утверждает мама Ильдара, но то, что оно в этот день было произнесено, начальник лагеря не отрицала. Теперь уже не имеет значения, когда и с каким контекстом, – его восприняли как оскорбление, что совершенно естественно.
– Если ты берешь на себя ответственность, то оставляй его, – сказала начальник лагеря пионервожатой второго отряда, – я лично отказываюсь…
Какой же подчиненный будет в такой ситуации возражать? Уже потом, для комиссии, работавшей по письму родительницы, нежелание начальника лагеря иметь дело с провинившимся обернется пунктом решения педагогического совета, приписанным задним числом к протоколу.
Но дело не только в том, что начальник лагеря превысила свои полномочия. Даже педсовет не имел права лишать Ильдара возможности остаться в лагере. Да, его вина велика, да, он ехал сюда без желания, но у педагогов впереди был целый месяц, чтобы доказать мальчику, как он ошибся в первый день. Однако в порыве гнева работники лагеря забыли, что они – воспитатели. Потому не сделали элементарного: до сих пор в «Огоньке» не знают, что заставило Ильдара убежать домой. Согласитесь, в 13 лет такой поступок беспричинным не бывает.
Никто не подумал и о том, что мать подростка оказалась в затруднительном положении. В июле она работала в лагере труда и отдыха, уехала туда, оставив сына на попечении старенькой бабушки. Тому, что у мальчика нет отца, значения не придали. И уж тем более всем был безразличен тот факт, что профсоюзная организация Советского роно 112 рублей, отданных за путевки, выбросила на ветер. Лишь благодаря нашему вмешательству в августе в «Огонек» поехал другой ребенок.
Будем снисходительны к педагогам «Огонька» – все они работают с детьми лишь летом, зимой у них совсем другие обязанности, далекие от воспитания. Судя по отзывам ребят и профсоюзных работников, педагогический коллектив здесь неплохой. Ахметзянова возглавляет его уже 8 лет. Обычно ей вполне хватало житейского опыта и тех знаний, которые она получает во время учебы начальников лагерей. А тут вдруг верх взяло желание сделать по-своему.
В таких ситуациях воочию видишь, как нужен пионерским лагерям педагог с высшим образованием.
Впрочем, диплом вуза – еще не гарантия педагогической грамотности. В лагере труда и отдыха «Юность» Приволжского района во вторую смену работали учителя, но они тоже сочли возможным выгнать вон нескольких подростков, которые им докучали. Правда, при этом не забыли провести педсовет. А на другой день, в воскресенье, в «Юность» приехала мать одного из мальчиков и обнаружила исчезновение сына: из лагеря уехал, домой не приехал… Потом подростки вернулись назад, в лагерь, их приняли. Одному даже Почетную грамоту по итогам смены дали.
Педагоги наверняка приведут массу убедительных доводов, оправдывающих такую строгую меру наказания, как исключение из коллектива. Те подростки из «Юности» наверняка тоже паиньками не были.
Но это должно заставить еще более строго подходить к выбору средств воспитательного воздействия, прогнозировать результат…
Впрочем, до этого ли было начальнику пионерского лагеря «Огонек»? Ситуация – экстремальная, решение надо принимать немедленно… А тут еще масса сопутствующих факторов, вызывающих нервозность педколлектива: последствия урагана, пронесшегося недавно над лагерем; присутствие среди детей воспитанников специнтерната; когда-то кто-то утонул; в первую смену кто-то убежал… И все это вместе взятое отразилось на судьбе Ильдара X.
– Войдите в наше положение: мы прочесали весь лес, о чем только не передумали, – говорили нам в лагере.
Мы охотно верим, что ситуация и в самом деле была критическая… Только о себе ли надо было думать, решая, быть или не быть подростку в лагере?
Когда мы знакомились с «Огоньком», мне не раз приходило в голову сравнение с летчиками. У тех тоже бывают спокойные будни и экстремальные ситуации. Но кому придет в голову оправдать пилота, если он растеряется в минуту опасности? Спокойствие, выдержка, умение в секунду найти выход из трудного положения – все это входит в понятие «профессионал» и воспитывается долгими годами учебы и летной работы. Почему же педагог оказывается в трудную минуту совершенно безоружным? А ведь именно в это время от него требуется профессиональная оценка ситуации, то есть умение безошибочно найти оптимальный вариант своего поведения.
Мы ведем сегодня разговор о лете, потому что эти педагогические ошибки еще не забыты. К сожалению, немало их бывает и в школах города. Уже не раз подмечалось, что учителя предпочитают работать с послушными детьми, а «трудные» становятся предметом особого разговора. Между тем каждый ребенок труден по-своему. И миссия учителя – к каждому найти верный ключик.
Любовь Агеева
Вечерняя Казань, 22 августа 1983 года
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе