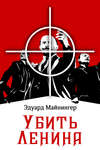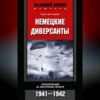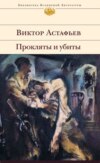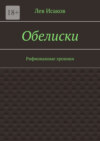Читать книгу: «Этногенез Руси и славян. Где ты был, Иван?», страница 3
В этом пункте надо решительно остановиться. Обозревая в целом, можно заметить странное рябление методологического подхода. Уже в первом акте становления приматов, выделении их на поле крысоподобных общих предков млекопитающих мы судим о них ПО ТЕМ, КТО ПОКИНУЛ ПУТЬ ШИРОКОГО АНТРОПОГЕНЕЗА, современным полуобезьянам и лемурам, что, согласитесь, как то странно: судить о предке по тем, кто им не реализовался… Нужное нам направление проходило МИНУЯ их, т.е. в том, что осталось по их исключению, и коли потто сохранил такие удивительные антропогенные детали в своей морфологии, как противостояние большого пальца конечностей и наличие 4 ногтей в дополнение к 1 когтю на лапе, то не естественней ли полагать вопрос о сохранении и редукции этих признаков у его инаковых параллелей? Он ли унёс частицу универсально нерасчленённой морфологии или какого-то переходного её состояния, или она законсервировалось в нём по выходу всех прочих контрагентов из класса – эволюция не изменением, а неизменностью? Инаковость новизне, обратившаяся в потенцию переступить через текущую новизну в будущее; тот шест, который перекинет прыгуна через отвергающее новое, которое со временем обратится в старое – и так до той поры, когда превентивная инаковость станет ЕДИНСТВЕННО ВОСТРЕБОВАННОЙ? Природное, не примысленное, снятие регрессивных последствий такого памятного положения ПРОГРЕСС В ОДНОМ ОТНОШЕНИИ ВСЕГДА РЕГРЕСС В ДРУГОМ, прямо к тому и призывающее… Ещё выразительнее выглядит на этом фоне случай с рамапитеком – его приговаривают по покинувшему ветвь орангутангу, т. е. СУДЯТ ВСЕХ ПО ПРЕСТУПНИКУ, УШЕДШЕМУ ОТО ВСЕХ – и при этом в наборе качеств, которые будут прославлять в будущих архантропах, при том что в момент актуализации они уже выступают как привходящие обстоятельства открывающейся стагнации? Естественная приспособляемость с более широкого обозрения эволюции оборачивается другой стороной – чем лучше приспособлен организм к данным условиям, тем труднее ему перейти в другие: в очереди на выживание по смене условий среды обитания как и произвола перемещений в них ОН СТОИТ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ в отношении своих современников менее острохарактерного типа… И естественный вопрос, которого я тем не менее ни от кого не услышал – А КУДА ДЕЛСЯ универсальный балласт? Обратился в подиум проскочившему выскочке? Или вился в продолжениях, которые где-то, как-то, в чём-то несут и зародышевые споры его неповторимости в прочей массе других, уже укрощённые к обще-фоновому уровню? Природа не знает прямых линий… А дихотомии отрицания? Именно в поле покинутого отрицания накапливается нерасчленённое богатство комбинаций будущего выбора – природное основание философского постулата М. Хайдеггера: БУДУЩЕЕ ВРЕМЕНИТСЯ В ПРОШЛОМ… В сущности Потто и Орангутанг всё более детализирующиеся морфологемы будущего, но последнее варится в тёмном котле их неучастия; они только историческая данность ступеней внешней эмбриологии к грядущему итогу. Но одновременно и поразительное достижение естественного отбора – самые длительно существующие млекопитающие и понгиды, потому что перестали изменяться…/два года спустя после того как были написаны эти слова я узнал, что геном Орангутанга содержит 250 дуплетов изменчивости против 1500 у шимпанзе и 3000 у человека…/.
Таким образом рамки «широкого антропогенеза» задаются границами взаимореализации на общм поле двух процессов: эволюционной изменчивости к текущим условиям среды и противостоящей ей консервации состава наличного, принимающей внешнюю форму утверждением универсализма, как специфического средства сохранения всего богатства витальности на онто и филогенезе; как бы следования императиву быть не «самым», но «во всём». Как то говорят «гений делает гениально только одно дело – простой человек посредственно, но все»…Человек по итогу реализовался как универсум – т.е. в значительной, если не в большей степени, в рамках второй тенденции, своего рода эволюции наоборот, сохранением «всего» вместо хватания «лучшего», принявшей форму суверенного вида эволюции «не меняться в том, где меняются другие…», подбирая и накапливая «регрессы» тех кто уносился в остро-узкий «прогресс»…Я называю такую форму «эволюцией отражения», если первая полагается «прямой»; в сущности обе они нераздельные стороны одной и той же Эволюции с Большой Буквы, но на практике видят и протягивают только Первую – и впадают в прострацию, когда Историческое делает как бы явственные курбеты наоборот, и из Перемен выступает Традиция…
В целом ситуация с сивапитеком какая-то двусмысленная: напрямую он почти исключён из антропогенеза, в то же время выдвигаемые заместители, кроме того, что зачастую заявлялись их открывателями от Э. Льюиса до Р. Лики «рамапитековыми» настолько близки к ним морфологически, что возникла даже теория их происхождения от общего предка Грифопитека, открытого Д. Беганом; и от которого пошли Евразийская и Афро-Аравийская линии сивапитеков, по временному разделу гиперматериков трансгрессией океана Тетис 16—10 млн. лет назад развивавшихся самостоятельно и давших расходящиеся результы: Орангутангов в Евразии и Австралопитеков в Африке…
Представляется достаточно бесполезным выбирать какую-то из схем становления человекообразных приматов, которыми буквально пестрят публикации о периоде 16—10 млн. Их изобилие и нарастающая в геометрической пропорции с каждым полевым сезоном усложнённость прямо свидетельствуют о межеумочном состоянии исследований, каждое из которых только «множит субстанции». Общее состояние таково, что более всего напоминает охоту на единственного призового зверя, как-то не замечая, что универсум возникает как сумма сложения разностей… В целом создаётся впечатление, что изобилие материала более являет флуктуацинное рябление достаточно единого поля нежели какое-то реальное однонаправленное движение; котёл, где что-то кипит и варится без особо зримого результата; налицо скорее явление общего дрейфа, а не дифференциации видов, если принимать в расчёт их весьма небольшой лаг. И вполне обоснованно морфологи-систематики 1960—1980 годов относили видовое богатство этого периода к одному классу рамапитековых, как и Ричард Лики, открывший Кениопитека, обитавшего в Восточной Африке 10,5 млн. лет назад и наконец-то утверждённого молекулярной генетикой общим предком Человека и Африканских Понгид.
9—7 млн. лет назад поле африканских «сивапитеков» покидают специализированные ветви предков горилл и несколько позднее шимпанзе. Их эволюция была особого, псевдо – социального типа: они специализировались к стадно – коллективному обитанию, но при этом не социальными, а биологическими средствами. Устойчивость стада, особенно в критический период брачных сезонов регулировалась особой психосоматической организацией этих животных: гориллы являют собой выразительный тип флегматиков с преобладающим тормозным типом реакции; шимпанзе сангвиники с быстрой сменой впечатлений, предрасположенные к общению – что в совокупности препятствует вспышкам опасных взаимных конфликтов этих сильных зверей. Будучи наиболее близки к современному человеку по данным генетики, они в то же время значительно уступали орангутангу морфологически: шёрстный покров лицевой части, удлинённая челюсть, однопрофильная плоская лапа, скошенный звериный череп с гребнями, узость психосоматического типа поведения.
7—6 млн. лет назад на поле «сивапитеков» оформился универсальный вид австралопитеков, морфологически близкий к классическому рамапитеку, кроме что гипотетического несколько большего размера головного мозга. Предположительно, он уже использовал «подбираемые орудия», подобно современному шимпанзе, был всеяден, прибегал к коллективной охоте, но часто и сам становился объектом промысла кошачьих хищников и павианов. Был ли он объектом эволюции, или покинутым более успешными специализированными отпрысками Могиканом универсально-общего класса, ставшим обозримым вследствие своего одиночества? Его морфологическая близость к рамапитеку сыграли плохую роль в его судьбе, австралопитека длительное время не признавали, считая в лучшем случае затянувшимся тупиковым продолжением рамапитека, в худшем предком собакоголовых гамадрилов. Тем не менее именно он в настоящее время утверждён первым прямым предком человека без наличия боковых продолжений. Впрочем, как сказать…
Обозревая в целом заявленный материал, и стараясь осуществить это свежим взглядом, можно отметить:
1. Становление линии древнейших предков человека – широкий антропогенез – происходило в огромном ареале тропической и субтропической зоны Старого Света от Африки до Индо-Китая и Венгрии до мыса Доброй Надежды в сложном взаимодействии Евразии (до 4,5 млн. лет назад Лавразия с включение Северной Америки), Афро-Аравии и Океана Тетис; трансгрессии последнего то соединяли их в единое поле антропогенеза, то разводили на два очага. При этом первые человекообразные приматы-понгиды гиббоны (в настоящее время переквалифицированные в малых человекообразных обезьян по наличному составу, что несправедливо к историческим большим гиббонам, если полагаться только на морфологию); и орангутаны (в настоящее время единственный бесспорны представитель класса) – появились именно в Азии, на 5 миллионов лет раньше своих африканских собратьев и при этом значительно большей морфологической близости к современному человеку. Можно утверждать, что эволюция обкатала его облик на орангутанге. Изобилие рамапитековых и пострамапитековых материалов 20—6 млн. давности на огромном просторе от Греции до Китая в восходящих линиях до синантропа всё более подталкивает исследователей к признанию факта широкого охвата Старого Света процессом антропогенеза, возможной смыкающейся полилинейностью его протекания из разных цетров.
2.Антропогенное начало вырисовывалось на особом типе эволюции, консервативного сохранения субстрата по выходу специализированных ветвей, задававших общую универсалистскую направленность процесса антропогенеза, как следствие поглощавшую частности, необходимо стягивавшую многолинейный процесс к точкам единства. Возникающий агрегат поэтому НЕОБХОДИМО ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ, т.е. возобладать над биологической эволюцией к специализации или терпеть раз за разом очередное крушение по невозможности достижения результата в рамках достигнутой наличности, чтобы начать новое восхождение. Будучи явлением Традиции в Эволюции, Наследственности, задающей Изменчивость он необходимо должен был выносить в продолжение будущего глубочайшие следы своего восхождения, единственный из всех пронести по возможности весь груз эволюционного наследства через отвергающую его текущую повседневность. Анатомия современного человека выразительное тому подтверждение, как сочетающая самый сложный механизм природы человеческий мозг с поразительнейшими анахронизмами, как-то человеческие почки, по своей примитивности не имеющие аналогов у млекопитающих и даже рептилий, по своей способности к перемещению вызывающая аналогии с фантастическими Метазоо Протерозойской эпохи; втянувшая в себя весь опыт органического витализма. Он всегда как-то, в чём-то был старше своих современников и всегда переступавший через них к иному…
И наконец Макрокосм разродился Микрокосмом…
ЛЕКЦИЯ 5. Метания Обезьяны Бога
В настоящее время поддерживается схема оформления т.н. «узкого антропогенеза» на базовой основе открытого Робертом Дартом в 1920-х годах в Южной Африке австралопитека Дарта (дословный перевод «южная обезьяна», отнюдь не австралийская); оформившегося в промежутке 7—6 млн. лет назад невысокого (130 см.) универсального примата, способного к ограниченному прямохождению, несколько лучшему, чем у медведей; с примечательным пристрастием дополнять свою «универсалистскую ограниченность» в специальных функциях использованием прото-орудий природного происхождения (камни, массивные кости), нередко находимых на местах его обитания – впрочем, последнее тоже присутствует в природе, не признающей непроницаемых границ, и не только у приматов. В общем, существо приниженное и в отсутствии клыков и когтей зачастую объект охоты более успешных соперников, например львов, леопардов, даже родственных собакоголовых узконосых (предков современных павианов и гамадрилов); и высшим достижением которого в иерархии распределения белковой массы полагают закрепление в нише падальников – впрочем, тоже посредственное на фоне специализированных гиен и птиц-стервятников. Следует отметить любопытное морфологическое совпадение: рост 130 см. это нижний предел нормального роста современного человека (пигмеи тропического пояса от Экваториальной Африки до Новой Гвинеи).
Удержаться в консервативных рамках «прогрессивной универсальной посредственности» при господствующей в природе эволюции в специализацию, когда для того, чтобы «эволюционизировать», надо дожидаться исхода последнего «специализированного счастливчика» было очень трудно, и 6,5—5,5 млн. лет назад общее поле австралопитековых раскалывается, выделяя ветвь «массивных», в развитии приспособляемости к гарантированному источнику питания превратившихся в травоядных «человекообразных коров»: полный прогресс к условиям среды обитания и катастрофический регресс в антропогенезе. С природно-эволюционной точки зрения эта специализация оказалась настолько удачной, что на её основе формируется «сверх-массивное продолжение» Австралопитек Бойсеи, исключительно мощный субъект 180—190 см. роста (можно уточнить – по всем направлениям),вследствие огромной физической силы недоступный нападению даже крупных хищников типа леопарда и гиены, а в группе опасный и льву – но и совершенно устранённый от каких-либо «умствований», т.к. цикл травоядного животного состоит из двух полностью поглощающих его стадий, дневного поедания растительной массы и ночного срыгивания и пережёвывания, не оставляющего места для «глупостей»; налицо важный полностью поглощающий процесс «кормимся» – самые серьёзные глаза, которые я видел в жизни, у коровы…
Но был ли это предел?
В 1931—39 гг. Г Кенигсвальд обнаружил в Китае фрагменты исполинской человекообразной обезьяны, которую так и назвал «гигантопитеком» (рост 3—3,5 м. вес 400—600 кг.). Основываясь на большом сходстве зубов гигантопитека и сапиентных людей, Кенигсвальд и Вейденрайх выдвинули предположение о захваченности гигантопитеков процессом антропогенеза; и действительно, в 1937—39 гг. Кенигсваль обнаружил на Яве в Сангиране популяцию огромных питекантропов (рост 2,4—2,6 м., вес 200—250 кг.), которых назвал «мегантропами». Это развитие продуктивно связать с наметившимся у гигантопитековых поворотом эволюции к «универсализации», в частности в питании: китайские гигантопитеки были определённо всеядными, а наличие в заселённых ими пещерах костей крупных подвижных копытных свидетельствует о навыках интеллектуальной групповой охоты. Ряд авторов несколько преждевременно привязывают к ним изредка находимые чрезмерно большие для классических архантропов каменные орудия. Было бы интересно связать с этим и закрепившуюся на Дальнем Востоке традицию больших односторонне обработанных камней – чопперов, не имеющих аналогов в других регионах.
В настоящее время установлено широкое распостранение не менее 3-х гигантопитековых форм на востоке Евразии 9—1 млн. лет назад, и даже утверждается прямое их сожительство с человеком вплоть до рубежа нашей эры. В теоретическом плане существенно, что становление этой человекообразной линии происходит исключительно в Евразии: её предком заявляются местные популяции сивапитеков – и общее впечатление оформления и расцвета этих форм именно в данном регионе не поколеблено открытием фрагментов гигантизма в Африке. Эти формы с «гигантской» размашистостью подтверждают и наличие, и продуктивность Восточно-Евразийского центра антропогенеза… Более того, если сопоставить морфологически совпадающих сивапитека и австралопитека Дарта, их продолжения гигантопитека и австралопитека Бойсеи, следует признать, что процессы становления специализированных форм антропогенного в Восточной Азии были и более выразительные, и шли с опережением на 2—3 млн. лет… Любопытно, что 2,6 м. это зафиксированный предельный рост нормальных непатологических представителей всех современных рас.
Естественно и более того, научно добросовестно, было бы проследить судьбу того концентрированного по выходу специализированных ветвей «универсального осадка» – но увы, он выплёскивается современной методологией без рассмотрения: и потом все хором удивляются найденному на помойке «денисовскому ребёнку» …Впрочем, как и длительное время непризнаваемому Австралопитеку Дарта нелогично старшему среди своих «младших братьев» горилл и шимпанзе, почему их стыдливо пытаются затолкнуть в гоминид…
Вероятно, таким частно – африканским осадком «универсального неудачника» явился сформировавшийся 5,5 млн. лет назад т. н. Австралопитек Африканский Изящный, получивший название из-за более грациального вида вследствие увеличившегося до 150 см. роста при небольшом увеличении массы. Существенно важным являлось то, что использование природных предметов в качестве орудий охоты и обработки являлось для «изящных» уже неотъемлемым обычаем, сопровождающимся нарастающей практикой попыток грубой дополнительной обработки натуральных заготовок, рождавших большое разнообразие неустановившихся форм. Новая внебиологическая приспособляемость обнаруживала нарастающую эффективность, сопоставимую и всё более опережающую, нежели давали простые линии специализации видов. «Ново – консервативный» вид начинал обретать сверхприродный, неограниченный и неистощимый источник возрастания своей мощи. Дубина, увеличивающая досягаемость человеческой руки вдвое а силу удара вчетверо – больше удара медвежьей лапы; град камней, сбивавший птичью стаю, раздвигали природную нишу существования; прямо сказываясь на массе и качестве питания, обращавшихся в богатство возможностей, широту размаха и глубину биологического преобразования, которое, оставаясь ещё природным по своей основе, развёртывалось уже во внеприродных рамках и должно было переступить самоё себя, выйти за положенные биологическим границы. Сравните овчарок, выросших в доме, с выброшенными на улицу собратьями, уступающими первым в полтора раза по росту и в 2—2,5 раза по весу – искательные пугливые дворняги, в которых голод и страх убил достоинство природного зверя. Закладывался морфогенез возникавшей небывало-новой сотворяемой «2-й природы».
4 млн. лет назад австралопитековые начинают переходить к целенаправленной орудийной деятельности утверждающихся функциональных форм каменных орудий, закладывая основания к тому, что в старом добротном определении звучало как «Зверь, производящий орудия – ЧЕЛОВЕК»…
2,6—2,5 млн. лет назад – по африканским материалам – он явился в свет массой разветвлений того, что после многократных тщетных попыток выстроить линию «единственного» было названо стадиальным обозначением HOMO HABILUS или Человек Умелый: преимущественно прямоходящее существо 160—170 см. роста с увеличенным до 500—650 куб. см. объёмом мозга. Я несколько свободно поступаю с антропологическим материалом, т. к. в данном случае проступает уже и исторический: искусственные орудия 4-миллионной давности, и их творец, выступивший из тени 2,6 млн. лет назад; при этом не в единственной персоне, а в целом пучке биологических видов, перешедших на пути орудийной эволюции, что порождает истерические баталии вокруг несметно находимых «самых-самых» предков после каждого полевого сезона. В научном сообществе, более в практике чем в теории, всё более утверждается подход соединять их вместе в некую совокупность – род «идущих вместе» в одном направлении, нежели разводить по умозрительным различениям «зубов и черепов», хотя биологизированный подход определять степень «человечности» по «клыкам» тоже наличествует; тем более подкрепляемый сторонними агрессивными вторжениями естественно – научных достижений физической хронологии и генной экспертизы, из средств исследования становящимися субъектом научного поиска – при этом в рамках инородной научной дисциплины; и нередко разрушительных для неё при отсутствии у исследователя навыков общесистемной верификации фантомов полезных игрушек.
В общем выделение первого представителя вида HOMO произошло не по исторически – типологическому признаку стадиальности орудийной деятельности, а по биолого – морфологическому набору: размеру головного мозга и оформлению зачаточных признаков стопы на задних/нижних конечностях, свидетельствующее о предрасположенности к прямохождению; но впрочем неполной: задние конечности не вошли в контур тела, и Н.Н. вполне успешно передвигался и на четвереньках, к чему наверно и прибегал в экстренных случаях. Как по совокупности антропологических признаков, так и морфологии и орудийной деятельности он мало отличался от Австралопитека Изящного, поэтому антропологи ЮАР по прежнему предпочитают использовать термин «австралопитек», например «австралопитек Сегени» для особей 2-миллионолетней давности.
2 млн. лет назад из тени HOMO HABILUS выступает его генетическое продолжение-развитие HOMO ERECTUS, Человек Прямоходящий. В данном случае биологическая классификация исключительно удобна, т.к. кроме антропологических различий каких-либо обретений в образе жизни и орудийной деятельности на момент появления не наблюдалось, но соматические отличия были очень выразительны. Эректусы были исключительно прямоходящими – абрис нижних конечностей вошёл в контур тела, и попытка бега на четвереньках была обречена, колени упираются в грудь. В целом явленный вид резко противостоял природе и её скупой целесообразности: следствием прямохождения стало обретение человеком ряда специфических видовых болезней, неизвестных в целом млекопитающим: ишиас, ревматизм, позвоночные грыжи, тяжёлые роды и прочее. Полагать в этом обозрении чисто биологические обретения очевидно предосудительно: тело человека повелительно мяла уже не столько 1-я, сколько 2-я природа, фантом, ставший насущней реальности – и её главный фактор, усмотренный Ф. Энгельсом, ТРУД, калечивший тело ради приобщения к неприродному занятию; историческая прогрессивная форма Трудового Уродства. В рамках наличного чрезмерным представляется и другая заготовка к будущему, резко увеличившийся до 700—1250 куб. см. обьем головного мозга – т.е.перекрывающий уже нижнюю границу современных людей (1000—1800 куб. см.) …Впрочем сам по себе только показатель потенции, которую надо реализовать, а на данной ступени ещё лишь создать… Для сравнения: Анатоль Франс (900 куб. см.) – Иван Тургенев (2000 куб. см.),степень «великости» классиков национальных литератур взвешивать не берусь.
Уже сам размах колебаний размеров мозга свидетельствовал о непрямом значении этого показателя как индикатора антропогенеза, остро – злободневным сейчас признаётся достигнутый уровень организации «мыслящего белка», но в грубо-качественных прикидках он объективен, и в настоящее время в антропологии признаётся «индикатор Кларка» в 700 куб. см., ниже которого полагают еще «нечеловеческое», выше «человеческое», и если по поводу «Человека Умелого» долго кипели споры, то «Человек Прямоходящий» заявлен сразу вне подозрений!
В целом этот эволюционный скачок имел очень важное значение, он несомненно разрушил природную эволюцию даже через «универсализацию», подобно замку – защёлке отсёк путь назад, в природные рамки, в которых он был обречён вследствие антиприродной дефектности своей физической конституции – встать на четвереньки было уже невозможно, оставалось только идти в даль неведомую…
И если говорить об ойкумене/заселённая человеком часть планеты/, то она уже резко выходит за пределы Афроцентризма разгоревшихся англо-саксонских пристрастий: Дманисский человек Лордкипанидзе (1800 тыс. лет), камннная индустрия Дюрянг – Юряха (1500 тыс. лет), антропологическое присутствие в районе Вилюйска (2000 тыс. лет) необозримо раздвигают горизонты научного обозрения, от Наталя до Якутии, от Магриба до Вьетнама.
И наконец, именно в этот период оформляется то, что можно назвать «каменной индустрией»: производство типологически единообразных орудий, палеолитическая троица «остроконечники, рубила, скрёбла», закладывая основы звучных перидизаций французских археологических школ: такие волнующие шелль, ашель, мустье, ориньяк, солютре, мадлен…
800 тыс. лет назад HOMO ERECTUS совершил революционный прорыв в антропогенезе и материальной культуре – он овладел стихией огня. Создание «2-й природы» было завершено:
1.Огонь как источник искусственного климата, в котором отныне исключительно живёт человек;
2.Огонь как средство преобразования человеком самого себя – искусственная пища меняет биохимию человека настолько, что он уже не может вернуться к природной пище;
3.Огонь как мощнейшее из известных техногенных средств.
Отныне все регионы планеты становятся доступны для проживания; и огромные кострища, покрывшие Старый Свет свидетельство этого грандиозного прорыва в пространство и историю.
Но с какой-то навязчивой предвзятостью из факта наличия древних кострищ Африки, по критичности современных методов хронологии голословно заявляемых существованием 1 млн. лет назад, её утверждают родиной этого открытия – право, насельники Чжоу-Коу-дянь под Пекином со своим 13-метровым по уровню кострищем, разожжённым 400 тыс. лет назад с этой точки зрения прямо-таки младенцы культурогенеза – и как-то не удосуживаются проверить геологическую хронологию азиатского памятника тем же инструментарием, что и африканские; и совершенно не берут в голову мысль, как это сподобилось пронести горящую ветку с огнём на пространство в 12 тыс. км. от Африканского Рога до Хуанхэ: ведь синантропы Китая искусственных методов добывания огня не знали, сохраняя его в негасимых кострищах – эту эпоху впрочем помнили и в древнем Риме, оберегая священный негасимый огонь усилиями жриц-весталок в храме Весты… Не проще ли предположить, что ежегодные сезонные пожары лесов и степей-саванн служат естественным основанием и побуждением к приручению огня и в Зимбабве, и в Китае?
Впрочем, эти вопрошания становятся чисто риторическими на фоне того катастрофического состояния с хронологией и периодизацией памятников, которое сейчас наличествует. Если общее помешательство 1960-х годов к радиокарбонному анализу занизило классическую геохронологию памятников в 1,5—2 раза, обрезав историю шумеров Месопотамии и афразийцев долины Нила на 2—3 тысячи лет, то термолюминисцентные методы, предмет обожания 2010 года, завышают её в 3—4 раза, размазывая возраст Улалинской стоянки на Алтае от 250 тыс. до 1,5 млн. лет, возраст австралийских памятников с 25—28 тыс. лет до 50 тыс. и даже 120 тыс. лет… При этом открывая огромные возможности волюнтаризму и прямым подлогам: культурный слой Дюрянг – Юряха, перекрытый – законсервированный оползнем 1,5—миллионолетней давности «рассудку вопреки, наперекор стихиям» датируют в 400 тыс. лет «по результатам термолюминисцентного анализа американских специалистов»…
Очень важно другое, Улалинская стоянка на Алтае, древнейшая в Евразии, уже 800—700 тыс. лет назад освещалась пламенем кострищ, кроме прочего использовавшихся и в технологических целях, расщеплением раскалённых на огне природных камней поливом воды на рабочие пластины – т.е. по сроку владения огнём сопоставимая с самыми продвинутыми африканскими стоянками, а по методам включения в технологии превосходившая их: кварцитовые рубила африканских эректусов этого периода продуцировались исключительно ручной ударной оббивкой. О проблематичности датировки обеих сторон я уже говорил… Учитывая грехи «термолюминисцентной датировки», которая даёт такой фантастический разброс в датах, это одинаково недостоверно для обеих сторон, и может быть, при нынешнем состоянии методик, использовано лишь для относительной синхронизации событий, да и то лишь в предположении, что исследователи, как и природа «изощрённы – но не злонамеренны».
Как-то ускользнула от внимания и не исследуется чисто антропогенная сторона этого переворота: как мощный фактор искусственной пищи сказался на биохимии, морфологии и психастении HOMO ERECTUS. Ведь переход к обработке пищи огнём увеличивает энергонасыщение организма в 6 раз (цикл усвоения жареного и сырого мяса 4 и 24 часа соответственно). Именно с этого периода главный инструмент интеллекта человеческий мозг уже не имеет ограничений в энергопотреблении – по описаниям биологов мозг современного человека в 2 раза меньше мозга слона, но потребляет в 2 раза больше энергии. Этот биохимический скачёк признаётся, но на уровне констатаций «дождя летом и снега зимой», без проникновения в глубь феноменологии события.
Именно поэтому вал находок, накрывший научное сообщество за последнее десятилетие, оказался столь неожиданным. Огромное устойчивое поле Прямоходящих было взорвано открытием HOMO ANTECESSOR/Человек Предшествующий/, оторвавшего половину срока предшественника (1,2 млн. —300 тыс. лет назад) и заявляемого (Пока!) общим предком современного человека и неандертальца…
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе