Знакомьтесь, литература! От Античности до Шекспира
Текст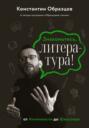


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 54,90 ₽
- Объем: 760 стр. 200 иллюстраций
- Жанр: литературоведение
Ахиллу было предсказано, что жизнь ему предстоит либо героическая, яркая, полная воинских подвигов, но очень короткая, либо вполне заурядная, но зато долгая. Его мать Фетида была в курсе таких пророчеств, и, как всякая мама, хотела, чтобы сын подольше оставался с ней рядом, хоть даже всю жизнь. Чтобы обезопасить Ахилла от разных превратностей, она с младенчества натирала его божественной амброзией и закаляла в огне, держа за пятку (по другой версии – окунала в воды подземного Стикса), и сделала таким образом неуязвимым для земного оружия. Когда Фетида услышала, что по всей Элладе собирают воинов для похода на Трою, она спрятала сына на дальнем острове среди девушек, переодев его в девичье платье. Сам Ахилл, как почти любой мальчишка, конечно же, рвался на военные подвиги, тем более что и физические данные позволяли: еще ребенком он голыми руками убивал кабанов, превосходно владел оружием и бегом мог догнать оленя – именно поэтому у Гомера он всегда «быстроногий». Но маму Ахилл слушался и расстраивать не хотел, и потому, когда на остров высадились под видом купцов Одиссей и царь Аргоса Диомед, он смирно сидел в женском платье вместе с девицами. Мнимые коммивояжеры расставили торговый шатер; барышни разглядывали платья и украшения, а Ахилл не сводил взгляда с оружия. Когда же, по сигналу хитроумного Одиссея, спрятавшиеся воины издали боевой клич и загремели доспехами, имитируя нападение, Ахилл схватил меч и как был, в платье, выскочил наружу, изготовившись к бою.

Илиада и Одиссея. Гравюра 1834 года по Джону Флаксману (1755–1826)
В тот же день он отплыл на войну; с ним вместе отправился и его близкий друг Патрокл. Отец, знаменитый Пелей, вручил сыну свои доспехи, копье и коней; мать Фетида проводила слезами, зная, что этой войны Ахиллу не пережить…
«Группа греков в панцирях, держась плотно один к другому и окружив себя щитами, как сплошной стеной, подобно единому существу с головой и конечностями, наступала с ревом, какого никто и никогда здесь прежде не слыхивал», —

Ахиллес и тень Патрокла. Художник: гравюра 1793 года по Джону Флаксману (1755–1826)
так от имени несчастной пророчицы описывает морской десант ахейцев немецкая писательница Криста Вольф в своей повести «Кассандра».
На пологой прибрежной равнине греков встретили фаланги троянцев, готовые сбросить в море незваных гостей. Завязалась битва, первая в этой долгой войне. Троянцы оборонялись упорно; дольше всех сопротивлялся герой по имени Кикн, сын Посейдона, который, как и сын Фетиды, был неуязвим для меча и копья. Ахилл сошелся с Кикном в схватке и, после нескольких неудачных попыток заколоть, оглушил ударами щита по голове и задушил ремнями его же шлема. Троянцы дрогнули, отступили, а потом и побежали, спеша укрыться за каменными стенами города. Поле битвы осталось за ахейцами.
Менелай с Одиссеем отправились в Трою на переговоры, чтобы решить дело миром: предложить отдать обратно Елену и вернуть украденные сокровища. Они почти убедили в этом Приама, но Парис заупрямился, его поддержали братья, и переговорщикам в итоге пришлось уносить ноги. Трижды ахейцы ходили на штурм, но были отбиты с большими потерями. Троянцы не смели показываться за воротами – поле боя полностью было под контролем Ахилла, который сеял смерть и наводил на них ужас. Ахейцы перешли к осадной тактике, взялись разорять окрестные селения и небольшие города, но полностью перерезать пути снабжения не смогли, и часть окрестностей оставалась под контролем троянцев. То, что задумывалось как стремительная и победоносная экспедиция, превратилось в затяжную десятилетнюю войну. Корабли врастали в песок и ветшали; вокруг прибрежного лагеря стотысячного войска ахейцев возникло подобие города. Цари и вожди заполняли шатры награбленным по окрестностям скарбом и захваченными наложницами. Градус воинственности предсказуемо снижался, и все чаще звучали разговоры о том, что лучше бы отправиться по домам. Больше всех на эту тему рассуждал Паламед, и это его погубило. Одиссей не забыл, как тот положил его новорожденного сына перед плугом и этим вынудил оставить семью и отправиться на войну. От имени Паламеда он послал царю Трои Приаму поддельное письмо, где сообщал о попытках убедить греков снять осаду и благодарил за золото, полученное от троянцев за эти услуги. Письмо это хитроумный Одиссей вручил пленному местному жителю и выпустил его из лагеря. Едва гонец выбрался за стены, как его настигли стражи вместе с людьми Одиссея и убили на месте. На трупе нашлось письмо, которое передали Агамемнону. Тот немедленно устроил обыск в шатре Паламеда, где нашел троянское золото, заранее спрятанное Одиссеем. В условиях войны улики сочли достаточными, и беднягу Паламеда тем же утром забили камнями на берегу моря.
После этого никто больше не вел разговоров о мире. Осада превратилась в рутину. Вожди развлекались набегами на окрестности, грабежами и захватом наложниц, одна из которых стала причиной событий, изложенных в поэме Гомера
«Илиада»
Мифологическое повествование всегда очень простое по форме. Для рассказчика миф не вымысел: это изложение знания о мироустройстве, или символический текст, или исторический факт, поэтому тут принципиальна точность передачи текста устной традиции и нет места художественным экспериментам.
Литература осознается как вымысел, в этом ее принципиальное отличие от любой формы мифа. Это тоже слепок с натуры, но оживленный творческим воображением автора, который может сразу погружать читателя внутрь событий, чередовать общий и крупный план, играть с хронологией, забегая вперед и отступая назад. Когда мы видим такое в тексте, это – литература.
В мифах можно найти метафизические смыслы и символы, но не нравственную проблематику, которая допускает отсутствие однозначных ответов о зле и добре, правильном и неправильном. Миф не позволяет двояких интерпретаций конфликта, в его системе координат существуют не просто четкие, а единственно возможные ориентиры, позволяющее отличить хорошее от плохого. Если в произведении есть место для моральной дискуссии на неоднозначно трактуемом материале – это литература.
Миф всегда про глобальное, даже если рассказывает о нем через личные судьбы. Трагедия Ниобы, вечные муки Сизифа, жизнеописание Персея или Геракла – это больше про богов и правила мироздания, чем про людей. Для литературы всегда важней человек, и, предпринимая художественное исследование реальности, автор всегда идет от частного к общему, а не наоборот.
Миф бескомпромиссно делит мир на своих и чужих, не оставляя последним шансов на уважение и сочувствие. Литературе известны сомнения и полутона. Парадоксально, но именно поэтому литературный вымысел лучше отражает реальность, чем претендующий на истину миф.
Кажется невероятным, что больше 2 500 лет назад Гомер, легко обращаясь с повествовательной формой, создал многофигурное эпическое полотно о легендарной войне, где в центре сюжета находится история частного конфликта, который никак не повлиял на исход противостояния, был, вероятнее всего, полностью вымышлен автором, и основой которого является внутренний нравственный выбор и ценности персонажей.
Первая песнь поэмы носит грозное название «Язва. Гнев», и мы оказываемся погружены внутрь событий с ее начальных строк – тех самых, которые процитировали в начале этой главы. Их очень сложно переложить на современный манер, но если попытаться, то вышло бы так:
«Гнев Ахилла был страшен своими последствиями: сотни гниющих трупов, выброшенных за стены лагеря, непогребенных и лишь кое-как забросанных мусором и песком, терзаемых бродячими псами, падальщиками и стервятниками – и всё из-за ссоры с Агамемноном, ставшей роковой для ахейцев».
Что же случилось?
Во время одного из грабительских рейдов Агамемнон взял в плен юную Хрисеиду, дочь Хриса, престарелого жреца Аполлона. Почтенный отец, согласно статусу облачившись в торжественное одеяние и взяв жреческий скипетр, поспешил к Агамемнону, чтобы самым почтительным образом предложить богатый выкуп за дочь. Однако доброжелательного приема у лидера ахейского войска Хрис не встретил:
«Старец, чтоб я никогда тебя не видал пред судами!
Здесь и теперь ты не медли и впредь не дерзай показаться!
Или тебя не избавит ни скиптр, ни венец Аполлона.
Деве свободы не дам я; она обветшает в неволе,
В Аргосе, в нашем дому, от тебя, от отчизны далече —
Ткальньй стан обходя или ложе со мной разделяя.
Прочь удались и меня ты не гневай, да здрав возвратишься!».
Обратите внимание, как сквозь вязь архаичных конструкций прорывается живая и яркая речь! Кажется, что велеречивый гекзаметр и устаревшая лексика лишь усиливают беспощадную грубость слов Агамемнона, и никакая современная брань не прозвучала бы так резко, как эта отповедь, завершенная недвусмысленными угрозами.
Несчастный Хрис, униженный таким безжалостным образом, в отчаянии обратился за помощью к Аполлону – тот внял слезным мольбам своего жреца, и очень скоро на греческий лагерь полетели его губительные стрелы. Безусловно, Гомер понимает этот обстрел метафорически, и божественный гнев реализуется в смертоносной эпидемии: сначала заражаются и погибают мулы и бродячие псы, а потом зараза распространяется и на людей. В условиях тесной скученности стотысячного ахейского войска это пострашнее любой военной опасности; девять дней в лагере чадят жирным дымом погребальные костры, а на десятый цари и вожди собираются на срочный совет. Для всех очевидно, что дело не обошлось без гнева богов, наславших моровую язву, и за ответами обращаются к прорицателю Калхасу. Примечательно, что тот сначала испрашивает для себя у Ахилла гарантии безопасности – жрецам, за редкими исключениями, никогда не доставало смелости сообщать неприятную правду владыкам:
«Царь Ахиллес! возвестить повелел ты, любимец Зевеса,
Праведный гнев Аполлона, далеко разящего бога?
Я возвещу; но и ты согласись, поклянись мне, что верно
Сам ты меня защитить и словами готов и руками».
Ахилл заверяет Калхаса, что тому ничего не грозит, и прорицатель излагает дело, как есть, рассказав про пленницу Агамемнона, про ее безутешного отца, жреца Хриса, про его предложение выкупа за свободу дочери и про оскорбительный ответ, который ему дал предводитель ахейского войска.
Все взволновались, Ахилл – больше всех. Он стал требовать, чтобы Агамемнон вернул Хрисеиду отцу, добавив подарков и обильных жертв Аполлону. Агамемнон, скрежеща зубами от ярости, вынужденно согласился, но при условии, что потерю дочери жреца ему компенсируют пленницей из числа тех, которых захватили себе другие вожди, а в случае отказа он сам отберет себе долю добычи у кого вздумается. Вспыхивает яростная перебранка между верховным полководцем ахейцев и самым сильным героем их войска, и снова пышность торжественных архаизмов как будто усиливает пламенную эмоциональность речи. В дело идут старые счеты, обиды, упреки, угрозы и изощренные оскорбления.
«Сколько ни доблестен ты, Ахиллес, бессмертным подобный,
Хитро не умствуй: меня ни провесть, ни склонить не успеешь.
Хочешь, чтоб сам обладал ты наградой, а я чтоб, лишенный,
Молча сидел? и советуешь мне ты, чтоб деву я выдал?..» —
возмущается Агамемнон и немедленно получает от Ахилла в ответ все, что накипело – и про неравенство военных наград, и про чужую войну, с которой он, Ахилл, пожалуй, отправится обратно домой:
«Царь, облеченный бесстыдством, коварный душою мздолюбец!
Кто из ахеян захочет твои повеления слушать?
Кто иль поход совершит, иль с враждебными храбро сразится?
Я за себя ли пришел, чтоб троян, укротителей коней,
Здесь воевать? Предо мною ни в чем не виновны трояне:
Нет, за тебя мы пришли, веселим мы тебя, на троянах
Чести ища Менелаю, тебе, человек псообразный!
Ты же, бесстыдный, считаешь ничем то и все презираешь,
Ты угрожаешь и мне, что мою ты награду похитишь,
Подвигов тягостных мзду, драгоценнейший дар мне ахеян?..
Но с тобой никогда не имею награды я равной!
Ныне во Фтию иду: для меня несравненно приятней
В дом возвратиться на быстрых судах; посрамленный тобою,
Я не намерен тебе умножать здесь добыч и сокровищ», —
…а взбешенный упреками Агамемнон, тоже перестав сдерживаться в выражениях, употребляет власть и, взамен утерянной дочери жреца Аполлона, отбирает у Ахилла пленницу Брисеиду:
«Ты ненавистнейший мне меж царями, питомцами Зевса!
Только тебе и приятны вражда, да раздоры, да битвы.
Храбростью ты знаменит; но она дарование бога.
В дом возвратясь, с кораблями беги и с дружиной своею;
Властвуй своими фессальцами! Я о тебе не забочусь;
Гнев твой вменяю в ничто; а, напротив, грожу тебе так я:
Требует бог Аполлон, чтобы я возвратил Хрисеиду;
Я возвращу, – и в моем корабле, и с моею дружиной
Деву пошлю; но к тебе я приду, и из кущи твоей Брисеиду
Сам увлеку я, награду твою, чтобы ясно ты понял,
Сколько я властию выше тебя, и чтоб каждый страшился
Равным себя мне считать и дерзко верстаться со мною!».

Мозаичный пол с Ахиллесом и Брисеидой. 100–300 гг. н. э.
Эту восхитительную пикировку легко можно было бы пересказать в сниженном уличном стиле, настолько полна речь персонажей понятными и простыми эмоциями, но мимолетное искушение сделать это быстро проходит: во-первых, кощунственной будет любая замена великолепных ругательств, типа «коварный душою мздолюбец» или «человек псообразный» – а дальше в этом же диалоге будет еще и «винопийца с сердцем еленя». Во-вторых, в таком пересказе, скорее всего, уже нет нужды: к середине первой песни читатель адаптируется к сложному на первый взгляд тексту, а языковое чутье позволяет справляться и со специфическим ритмом, и с многочисленными архаизмами, и с присущими стилю поэмы постоянными метафорами и повторами – этими опорами для устной передачи, своего рода древним стихотворным каноном. Интуитивно становится ясно, что ахейцы, данайцы и аргивяне – это все одни и те же греки; привычным делается, что чаще всего они «пышнопоножные», что бы это ни значило[10]; что копье или пика всегда «длиннотенная», то есть отбрасывающая длинную тень; что герои могут называться не только по именам, но и по отчеству, например, Пелид, или Атрид, или Капанид… И даже если сходу в этом не разобраться, то на восприятие живой гармонии поэтических строк это не повлияет. Совсем немного читательских усилий, и мы не только легко станем воспринимать содержание, но и увидим самобытную красоту формы, в том числе, знаменитых гомеровских развернутых метафор, в которых сравнение рождает новые образы, например, так:
«…народы же реяли к сонму.
Словно как пчелы, из горных пещер вылетая роями,
Мчатся густые, всечасно за купою новая купа;
В образе гроздий они над цветами весенними вьются
Или то здесь, несчетной толпою, то там пролетают, —
Так аргивян племена, от своих кораблей и от кущей,
Вкруг по безмерному брегу, несчетные, к сонму тянулись
Быстро толпа за толпой…»
Но вернемся к сюжету, тем более что вспыльчивый Ахилл готов перейти от слов к делу, схватился за меч и уже потянул его из «влагалища», чтобы
«…встречных рассыпать ему и убить властелина Атрида».
И он бы непременно это исполнил, если бы не Афина, в последний момент незримо представшая рядом и в буквальном смысле схватившая Ахилла за волосы. Мы подробно обсуждали взаимную проницаемость мира богов и людей, характерную для античной мифологии, и в «Илиаде» она проявляется в полной мере: боги постоянно внушают пагубные и спасительные помыслы, вводят в заблуждение, манипулируют, невидимками являются к героям с советами, вступают с людьми в диалоги и споры, помогают в бою, направляют удары копий и полет стрел, сопровождают почти каждое действие и даже сами сходятся в поединках, сражаясь за одну из сторон. Ахилл послушался Афину Палладу: не стал резать Агамемнона, согласился отдать ему пленницу взамен Хрисеиды и даже остался со своими людьми в расположении ахейского войска – но поклялся страшною клятвой, что ни он, ни его воины мирмидонцы больше никогда не станут сражаться против троянцев.
Агамемнон только раздраженно отмахнулся в ответ, а зря.
Ахилл отбыл на войну почти мальчишкой, и прошедшие девять лет кровавых подвигов и жестоких сражений несильно его изменили: больно задетый Агамемноном, он отправился на берег моря – рыдать от горькой обиды и звать маму. И Фетида явилась, разделив скорбь своего обреченного на скорую смерть единственного сына – мало того, что его век будет короток, так еще и приходится терпеть несправедливость! – и отправилась с жалобой к Зевсу.
Антропоморфность Олимпийских богов хорошо нам известна, но у Гомера она доведена до художественного абсолюта, и Олимп предстает совершенной проекцией, зеркалом мира людей и человеческих отношений во всех проявлениях. Так, Фетида говорит своему сыну, что обязательно поговорит о его горе с Зевсом, но позже: сейчас все боги отсутствуют, они отправились вместе куда-то в страну эфиопов, вернутся только через двенадцать дней, а связаться с Зевсом пораньше не выйдет. Дождавшись его возвращения, Фетида отправляется на Олимп спозаранку, пока все боги спят – а они у Гомера спят! – чтобы, неровен час, не столкнуться там с Герой: ведь просить предстояло о том, чтобы, ради искупления обиды Ахилла, временно даровать победу троянцам, против которых Гера настроена была чрезвычайно решительно. Этот диалог с Зевсом полон очаровательных человеческих чувств, резонов и спекуляций: например, чтобы склонить на свою сторону царя богов, который не очень-то хочет ссориться со своей супругой, Фетида говорит:

Зевс и Гера. Гравюра 16 в.
«Дай непреложный обет, и священное мание сделай,
Или отвергни: ты страха не знаешь; реки, да уверюсь,
Всех ли презреннейшей я меж бессмертных богинь остаюся».
Тут все прекрасно: и провоцирующее «ты страха не знаешь», и мнимая готовность принять отказ, но тогда уж наверняка увериться, что она презреннейшая меж богинь. Зевс, меж тем, страх как раз знает, и это страх перед Герой:
«Ей, воздохнувши глубоко, ответствовал тучегонитель:
«Скорбное дело, ненависть ты на меня возбуждаешь
Геры надменной: озлобит меня оскорбительной речью;
Гера и так непрестанно, пред сонмом бессмертных, со мною
Спорит и вопит, что я за троян побораю во брани.
Но удалися теперь, да тебя на Олимпе не узрит
Гера; о прочем заботы приемлю я сам и исполню».
Чтение произведений литературы прошедших веков и тысячелетий всегда приводит к двум выводам: как сильно изменилось общество за это время, и, вместе с тем, насколько неизменными остались люди, их чувства и отношения. Это всегда неожиданно: встретить почти тридцать веков назад среди жертвенных алтарей, прорицателей, колесниц, копьеносцев, богов и дележки захваченных пленниц такие живые и понятные чувства, знакомо звучащие споры, очаровательные женские манипуляции и узнаваемую токсичность в отношениях пары, пусть даже это царь всех богов и его супруга. Не менее знакомо и современно выглядит и завязка сюжета: конфликт смелого и принципиального воина с несправедливым, деспотичным и корыстолюбивым начальником.
Раздосадованный ссорой с Ахиллом, Агамемнон намерен дать троянцам решающий бой. Как мы помним, последние девять лет дело ограничивалось только набегами по окрестностям, и греки не подступали к стенам Трои, а ее защитники опасались выходить в поле и атаковать лагерь у кораблей. Теперь все должно измениться, и Агамемнон отдает приказ всему сводному ахейскому войску готовиться к большому сражению. Гомер сообщает нам, что на это катастрофическое по своим последствиям решение склонил его посланный Зевсом обманчивый Сон, но и без всякой мистики простая психология подскажет нам, что уязвленный упреками самого сильного из героев Агамемнон хочет доказать и себе, и Ахиллу, что может добыть победу в войне и без его помощи. Стотысячный лагерь приходит в движение, и во второй песне, которая называется «Сон. Беотия. Список кораблей», Гомер рассказывает обо всех героях и полководцах со стороны эллинов и троянцев.
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся»[11].
Классическая форма эпического повествования предполагает, что подробная экспозиция героев должна предшествовать рассказу о событиях; но «Илиада» – это литература, и Гомер сначала создает напряженную сюжетную интригу – Ахилл отказывается воевать, Зевс соглашается помочь троянцам, обманутый им Агамемнон выводит ахейцев в поле, что же будет?! – и только потом, когда читатель и слушатель уже никуда от него не денется, приступает к эпически обстоятельному перечислению героев, вождей и племен.
Мне было 13 лет, когда я впервые прочел «Илиаду», и подробнейший гомеровский список нашел благодарный отклик у моего подросткового педантизма: я аккуратно выписал на одной половине листа бумаги имена всех сорока трех греческих героев, прибывших с дружинами на 1 141 корабле, а на второй половине – двадцать пять их троянских противников, чтобы потом вычеркивать погибших по ходу сражений. Забегая вперед, скажу, что вычеркивать пришлось предостаточно.
Чрезвычайная подробность повествования – характерная черта древних эпических произведений. Авторы современной прозы тоже уделяют много внимания характерным деталям, именно детали формируют художественную правду, в них – тепло жизни. Но современные авторы стараются сохранить баланс описаний и действия, а Гомер, не колеблясь, разменивает на пространные описания повествовательный темп. На общем собрании войска Агамемнон встает, опираясь на скипетр – и на страницу примерно следует рассказ об этом скипетре, о том, кем он был сделан, кому передан и как попал к Агамемнону; отвозят на кораблях к отцу возвращенную от греха подальше юную Хрисеиду – и мы получаем долгий и обстоятельный рассказ о том, как поднимали паруса на корабле, как управляли им, как причалили к берегу, как здоровались, приносили жертвы, как прощались и как вернулись обратно. Поднимается на собрании какой-то герой, чтобы сказать свое слово – и мы узнаем всю его родословную; в диалогах персонажи обмениваются репликами, достойными монологов, а перед каждым значимым действием непременно следует обстоятельно описанное жертвоприношение. Это отчасти закон эпических жанров, согласно которому рассказ о событиях тем лучше, чем он полнее, отчасти – авторский стиль, но в большей степени – особенность бытования произведения в среде слушателей и читателей. Две с половиной тысячи лет назад никто никуда не спешил; люди собирались, чтобы послушать или прочесть поэтическую историю – и слушали, и читали, не отвлекаясь ни на что и погружаясь в неторопливую размеренность слога. Собственно, и сегодня читатели вполне могут позволить себе такой темп чтения, потому что единственное, куда мы спешим, сидя на месте, это прочитать еще несколько новостей в лентах мессенджерах и социальных сетей. Раньше люди умели удерживать свое внимание дольше, отсюда и медитативная, почти гипнотическая неспешность повествования. Помимо художественности, эпически подробные описания добавляют произведению исторической и бытовой познавательной ценности: мы узнаем, как управлять кораблем, как правильно приготовить быка для жертвоприношения, как возделывать виноградники, вспахивать землю; что щиты делали из семи слоев кожи, а сверху покрывали тонким листом меди, и размером такой щит, если его забросить за спину, был от шеи до пяток; что во время больших собраний были глашатаи, которые по цепочке передавали слова ораторов; что троянцы шли в бой с боевым кличем и голосили, как птицы, а ахейцы наступали в грозном молчании… И, помимо всего, мы получаем ценнейшие знания о том, какие народы и племена населяли области и города Эллады в эпоху Темных веков.
Интересно, что сам Гомер понимает избыточность своего корабельного перечня и применяет чисто литературный прием: прекрасная Елена с башни Трои показывает престарелому царю Приаму ахейское войско и указывает на самых значимых героев – вот царь Агамемнон; вот Одиссей, пониже его, но коренастый; а вот этот, огромного роста и широкий в плечах, Аякс Теламонид, самый сильный боец после Ахилла. Мы добавим к ее короткому списку еще Диомеда, царя Аргоса, и брата Аякса – лучника Тевкра Теламонида, а из троянцев отметим для себя уже знакомого нам Париса[12], Энея, сына Афродиты и напарника Париса по похищению Елены, и предводителя троянского войска Гектора, старшего и куда более здравомыслящего брата Париса. Вот, кстати, и он: идет впереди передового отряда троянцев навстречу приближающимся фалангам греков.
Троянцев меньше в разы, и перспективы сражения кажутся однозначными. Гектор, чтобы спасти город и жизни людей, буквально силой выволакивает Париса, спрятавшегося в глубине боевых порядков, и заставляет его вступить в поединок с Менелаем, предлагая ахейцам условия: в случае победы Париса Елена остается в Трое, а греки немедленно снимают осаду и уходят домой; в случае победы Менелая ему возвращают Елену, украденные сокровища и выплачивают пени за моральный ущерб, сколько тот пожелает. Это прекрасный шанс для сторон закончить затяжную войну, а потому условия приняты, скреплены клятвами, и воины опускают оружие. Парис и Менелай начинают готовиться к поединку. Кажется, его исход не вызывает сомнений ни у одной из сторон – и действительно, все идет довольно предсказуемо: Парис неловко бросает копье, а Менелай своим копьем пробивает противнику щит и доспехи, ломает меч о шлем, а когда Парис падает, оглушенный, то в ярости хватает его за гребень шлема и волочет, задыхающегося и полумертвого, по земле под ликующие крики ахейцев. Своего любимца спасает Афродита: ремень шлема лопается, а богиня скрывает Париса темным маревом и уносит его подальше от поля боя, за стены Трои. Возникает всеобщее замешательство; рассвирепевший Менелай рыщет в поисках вдруг пропавшего недруга, Агамемнон ходит вдоль строя троянцев и греков, крича об очевидной победе Менелая, и требует выдать обещанные сокровища и Елену.
В этом хаосе некто Пандар, троянский лучник, накладывает стрелу и целится в Менелая. Разумеется, его надоумила это сделать Афина, вовсе не заинтересованная в прекращении войны; Пандара прикрывают щитами троянцы, и вот, после подробнейшего описания характеристик натянутого лука, стрелы и обещаний богатых жертв Аполлону, выстрел сделан. Стрела попадает в застежку брони Менелая, которая образует двойной слой защиты, пробивает ее насквозь, но лишь ранит царя Спарты. Льется кровь; Агамемнон в отчаянии зовет врача для раненого брата; клятвы нарушены, и начинается кровавая битва.

Отьезд Гектора. Гравюра 1786 г.
«Рати, одна на другую идущие, чуть соступились,
Разом сразилися кожи, сразилися копья и силы
Воинов, медью одеянных; выпуклобляшные разом
Сшиблись щиты со щитами; гром раздался ужасный.
Вместе смешались победные крики и смертные стоны
Воев, губящих и гибнущих; кровью земля заструилась».
Эпическое стремление к подробности диктует особенности описаний сражений: здесь почти нет общих планов, битва распадается на бесконечный ряд поединков, и мы, словно бы вместе с кровожадными керами, похищающими души убитых, реем меж схваток, наблюдая все предельно детально, пугающе реально и страшно близко. Жестокие удары копий пробивают черепа, выворачивают внутренности, бьют в пах:
«В голову около тыла копьем поразил изощренным.
Медь, меж зубов пролетевши, подсекла язык у Педея:
Грянулся в прах он и медь холодную стиснул зубами».
Или:
«Быстро в десное стегно поразил копием, – и глубоко,
Прямо в пузырь, под лобковою костью, проникнуло жало:
С воплем он пал на колена, и падшего Смерть осенила».
И еще:
«…и пику вонзил средь утробы; на землю
Вылилась внутренность вся, – и мрак осенил ему очи».
Достается и тому самому Пандару, который, всем на беду, пустил роковую стрелу в Менелая:
«Так произнес – и поверг; и копье направляет Афина
Пандару в нос близ очей: пролетело сквозь белые зубы,
Гибкий язык сокрушительной медью при корне отсекло
И, острием просверкнувши насквозь, замерло в подбородке».
В ближнем бою в ход идут топоры и мечи:
«Выхватил медный красивый топор, с топорищем оливным,
Длинным, блистательно гладким, и оба сразилися разом:
Сей поражает по выпуке шлема, косматого гривой,
Около самого гребня, а тот наступавшего по лбу
В верх переносицы: хряснула кость, и глаза у Пизандра,
Выскочив, подле него на кровавую землю упали»
…а потом и тяжелые камни:
«Камнем Энея таким поразил по бедру, где крутая
Лядвея ходит в бедре по составу, зовомому чашкой;
Чашку удар раздробил, разорвал и бедерные жилы,
Сорвал и кожу камень жестокий. Герой пораженный
Пал на колено вперед; и, колеблясь, могучей рукою
В дол упирался, и взор его черная ночь осенила».
Однако Энею, несмотря на открытый перелом коленного сустава, удалось избежать смерти: на помощь пришла его мать, Афродита, и понесла прочь из битвы, подальше от поразившего Энея камнем Диомеда, как раньше спасла Париса от рассвирепевшего Менелая. Но в этот раз досталось и Афродите: развоевавшийся Диомед ударил ее копьем и ранил в ладонь. Бедняжка, залившись слезами, унеслась с поля битвы; раненого Энея прикрыл Аполлон, но Диомед атаковал и его, в ярости нападая раз за разом, и отступил от бога только тогда, когда тот на него прикрикнул:
«Вспомни себя, отступи и не мысли равняться с богами,
Гордый Тидид! никогда меж собою не будет подобно
Племя бессмертных богов и по праху влачащихся смертных!»
Впрочем, это не помешало Диомеду чуть погодя, с помощью богини Афины, ранить самого Ареса, засадив ему копьем в пах,
«…и взревел Арей меднобронный
Страшно, как будто бы девять иль десять воскликнули тысяч
Сильных мужей на войне, зачинающих ярую битву».
В этих образах богов, лезущих в бой между смертными, получающих раны, рыдающих и ревущих, мы можем увидеть пресловутое очеловечивание сверхъестественного, характерное для античного мифа, или эффектный художественный ход, добавляющий увлекательности сюжету, а можем – метафору, подчеркивающую ужас войны, заставляющей страдать основы самого мироздания.
Вообще Гомер как классический повествователь подчеркнуто отстранен от оценки событий; он рассказывает историю, но, при всей яркой эмоциональности языка, не высказывает прямо своего личного отношения к событиям и героям. Однако сама эта объективная остраненность многозначительна.
В «Илиаде» герои – все: и троянцы, и греки. Они равно доблестны, равно страдают; они бывают жестоки или милосердны вне зависимости от того, на чьей стороне участвуют в битве. Автор не отказывает троянцам в героизме и не идеализирует ахейцев, даже лучших из них, даже вождей; он не дает оценок, но рассказывает достаточно, чтобы оценку мог дать читатель, как, например, в этом эпизоде с убийством пленного:
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽