Знакомьтесь, литература! От Античности до Шекспира
Текст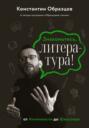


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 54,90 ₽
- Объем: 760 стр. 200 иллюстраций
- Жанр: литературоведение
На Крите Геракл изловил бешеного быка, посланного Посейдоном, и на его спине доплыл до Пелопоннеса.
Для того, чтобы добыть пояс Ипполиты, царицы амазонок, Гераклу пришлось сколотить небольшой отряд и отправиться в Фемиксиру, что у черноморского побережья современной Турции, на противоположной стороне от Крыма. Есть гипотеза, что в этой вылазке вместе с Гераклом принимал участие и Тесей. Дело снова не обошлось без кровопролития, так что в итоге Ипполита с облегчением отдала Гераклу свой пояс, лишь бы только он убрался восвояси.
За коровами, принадлежащими могучему великану Гериону, добираться было еще дальше, чем до Фемиксиры, к атлантическому побережью Западной Африки. До острова Эрифейи, где жил Герион, Геракла любезно подбросил на своем челноке сам бог Солнца Гелиос. Двуглавого пастушьего пса, охраняющего коров, и пастуха-великана Геракл без лишних слов прикончил дубиной, а Гериону сначала всадил стрелу в глаз, а потом добил палицей. Больше пришлось повозиться со скотиной: Геракл на челне Гелиоса переправил коров на побережье Испании, а потом долго гнал их через Пиренейские горы, Италию, Македонию и всю Грецию к Эврисфею в Микены.

Геракл убивает Диомеда и его плотоядных кобыл. Гравюра по мотивам Генриха Фюсли. 1806 г.

Амазономахия (битва между греками и амазонками). Терракотовый кратер с волютами (чаша для смешивания вина и воды). Ок. 450 г. до н. э.
После того, как Геракл благополучно вернулся и с побережья Черного моря, и из Западной Африки, Эврисфею пришлось поломать голову, куда бы еще его отправить, да так, чтобы он подольше не возвращался. Поручить привести трехглавого адского пса Цербера показалось хорошим решением, и Геракл, закинув палицу на плечо и обновив запас ядовитых стрел, отправился в царство Аида. Что характерно: в этом случае он не стал размахивать направо и налево дубиной или пытаться украсть Цербера, а пришел к Аиду и почтительно попросил разрешения забрать пса. Так, мол, и так, не по своей воле, а по заданию Эврисфея, служу которому, между прочим, по решению Олимпийских богов и лично Зевса. Аид разрешил. Тогда же Геракл освободил от уз попавшего в западню Тесея, тоже предварительно спросив позволения у Аида и Персефоны.
В последнем подвиге Геракл достигает высшей точки своего мифологического величия. Отправившись по поручению Эврисфея за золотыми яблоками, он оказался в мистических садах Гесперид, прекрасных дочерей титана Атласа, державшего на плечах край небесного свода. Атлас просит Геракла немного подержать небо, пока он сходит нарвать ему яблок – и вот земной человек подменяет собой стихийное божество, принимая на плечи всё мироздание, становясь на время его главной опорой.

Афина, Геракл, ведущий Цербера, и Гермес. Амфора (кувшин) Ок. 525–500 гг. до н. э.
Истории о двенадцати подвигах Геракла – это настоящий высокий стандарт архаической мифологии. Персей так и остался в рамках такого стандарта, демонстрируя чистоту героической безупречности. В Тесее уже больше проявляется человеческое начало; если бы мы рассматривали не скомпилированный из множества источников образ, а литературного героя, я бы сказал, что в нем будто что-то сломалось после роковой встречи с Дионисом на Наксосе, что он не смог ни забыть, ни простить самому себе молчаливое бегство и оставленную Ариадну; что оттого он, прекрасно зная, чем кончится дело, и отправился с Пирифоем в подземное царство. Но это развитие единого, целостного персонажа под влиянием обстоятельств. Геракл же как будто искусственно сконструирован из двух неравных частей: архаического полубога, сражающегося с чудовищами и держащего на плечах небо, и вполне себе земного мстительного громилы, подверженного приступам неконтролируемой ярости. Виражи биографии после окончания службы у Эврисфея достойны героя эпохи Ренессанса или модерна. Клиническая точность описания его припадков бешенства, одинаковая у всех мифографов, заставляет предположить, что древний образ героя наложился на портрет более позднего вполне исторического персонажа.
Едва освободившись из двенадцатилетнего рабства, Геракл расстается с несчастной Мегарой, троих детей которой он в беспамятстве погубил, и отправляется на поиски новой молодой жены. На Эвбее он пытается свататься к юной красавице Иоле, но ее отец, царь Эврит, наотрез отказывает Гераклу, а потом еще и обвиняет его в краже коров. Старший сын Эврита едет к Гераклу, чтобы обсудить и как-то смягчить конфликт, и вроде бы даже все идет хорошо, но потом Геракл снова впадает в бешенство и сбрасывает юношу со скалы. Как и после убийства своих детей, он отправляется в Дельфы, но на этот раз не получает ответа, ибо запятнал себя не только убийством, но и нарушением установленного богами закона гостеприимства. Геракл опять неистовствует, пытается то ли разбить, то ли украсть жертвенный треножник, и дело доходит до того, что для усмирения буйного гостя своего святилища является сам Аполлон, с которым Геракл немедленно вступает в драку. Сцепившихся сыновей разнимает лично Зевс. Геракла в наказание за бесчинства на три года продают в рабство царице Омфале. В отличие от Эврисфея, изощрявшегося в придумывании бесполезных подвигов, она была женщиной практической и с огоньком: разогнала с помощью Геракла окрестных разбойников, избавилась от зловредных карликов-кекропов, а еще заставляла его ткать, работать по дому, постоянно переодевала в женское платье и использовала как любовника, родив в итоге то ли троих, то ли четверых детей.

Геракл, несущий мир, с Афиной и Атласом по обеим сторонам. Фото 1890–1895 гг.
Позже Геракл участвовал в походе аргонавтов за Золотым руном, но отстал от корабля, вместе с другом надолго задержавшись в обществе нимф на острове Кеос; с небольшим войском разорил и подчистую разграбил Трою; сея смерть и смятение, с дубиной в руках прошел через всю Элладу и добрался до Калидона, где женился на Деянире, дочери местного царя, причем в борьбе за нее изрядно намял бока одному второстепенному речному богу. На своей свадьбе он снова впал в ярость из-за того, что прислуживавший мальчик перепутал воду для омовения рук и ног, и одним ударом убил ребенка на месте. Очередное убийство осталось безнаказанным, но из Калидона им с Деянирой все же пришлось уехать в Тиринф. По дороге случилось событие, ставшее первым в ряду тех, что привели Геракла к трагической и страшной развязке: во время переправы через бурную реку перевозчик-кентавр Несс внезапно схватил Деяниру и попытался бежать. Геракл выстрелил. Отравленная стрела настигла кентавра, яд гидры смешался с потоками крови, и, пока Геракл спешил на помощь жене, Несс успел нашептать Деянире верное средство для укрепления семейного счастья: нужно набрать его, Несса, крови, и, едва появятся подозрения в неверности мужа, пропитать ему этой кровью одежду. Подозрений пришлось ждать недолго. Геракл оставил супругу в Тиринфе, а сам, следуя зову злопамятной мести, отправился на Эвбею, чтобы покарать Эврита, который когда-то не отдал за него свою дочь Иолу и одного из сыновей, которого он убил. Месть удалась: столица Эвбеи, город Ойхалия, была разорена, Эврит и все его оставшиеся в живых дети убиты, боги не имели претензий, и можно было отправляться домой. Но Геракл захватил в плен в качестве военной добычи Иолу, руки которой он когда-то добивался. Эта новость быстро достигла скучающей в ожидании мужа ревнивицы Деяниры, и та, как говорится, сложив два и два, достала сосуд с отравленной кровью Несса, пропитала ею нарядный хитон – или плащ, в данном случае это неважно – и отправила его Гераклу с гонцом.

Геракл застрелил кентавра Несса, унося Деяниру. Гравюра Франко Баттиста (1510–1561) 1500–1599 гг.
Геракл надел присланный женой плащ и отправился приносить благодарственные жертвы богам. Все авторы сходятся в том, что яд гидры начал действовать, когда солнечные лучи как следует нагрели пропитанную им ткань: она стала расползаться на клочья, и Геракл почувствовал невыносимое жжение во всем теле. Растворенный в крови яд чудовища не был настолько силен, чтобы убить его сразу, но причинял страшные муки; Геракл пытался сорвать плащ – безуспешно, он будто прикипел к телу и вместе с остатками ткани отрывались лоскуты кожи. Обезумевший от боли Геракл успел убить ничего не подозревавшего гонца, и поубивал бы, наверное, вообще всех, собравшихся в тот день у жертвенника, но боль подточила силы, и он рухнул на землю. Мучения продолжались так долго и были настолько ужасны, что Геракл упросил положить его на погребальный костер живым – смерть в огне представлялась лучшей альтернативой невыносимым страданиям. Это желание было исполнено, и, когда клубы горького дыма и летучие языки пламени почти скрыли из виду лежащего на костре Геракла, в небе громыхнул гром, сверкнула молния, на сверкающей колеснице примчались Афина Паллада с Гермесом и вознесли его на Олимп.

Гермес и Афина. Неизвестный художник. 1750–1850 гг.
Там Геракл неплохо устроился: смягчившаяся Гера отдала ему в жены свою дочь, вечно юную Гебу, прислуживающую богам на пирах, и устроила на место привратника у дверей в мир богов. Зевс, в знак признания его особых заслуг, увековечил сына в виде созвездия Змееносец, в память о самом первом и самом невинном из деяний Геракла, когда он еще малышом удавил двух змей у себя в колыбели. Впрочем, есть и другие версии его посмертной судьбы: так, Гомер, например, утверждает, что не было ни грома, ни молнии, ни колесницы, а Геракл и поныне бродит по полям асфоделей в царстве Аида, удерживая в руках вечно натянутый лук, который не может ни ослабить, ни отпустить – метафора, исполненная чисто античной философской и художественной глубины.
Кун, почти буквально цитируя древнегреческих мифографов, пишет, что Геракл удостоился бессмертия и вечного блаженства на светлом Олимпе «за все его великие подвиги на земле». Такая формулировка для современного сознания непостижима, ибо жизнеописание этого героя почти целиком состоит из совершенных в припадках злобы убийств, разорения городов, кровавого мщения, уничтожения целых родов и семей и снова убийств. Но именно потому мы уделили столько внимания критериям добра и зла, сформулированным в образах космологических мифов, и нравственным ценностям, дидактически поданным через примеры жизни героев, чтобы понять картину мира людей древней эпохи, их представления о хорошем и плохом. В современной гуманистической культуре «слезинка ребенка» – весомый нравственный аргумент, и он остается таким, несмотря на все пропагандистские злоупотребления и манипуляции. Для архаического же сознания мальчик, убитый Гераклом только за то, что подал не ту воду для мытья рук – мелочь, досадная неприятность, не имеющая никакого веса рядом с победой над гидрой или Немейским львом. Убийство в мифологической системе ценностей есть поступок, безусловно, порицаемый, но от него можно очиститься, принести пару жертв – и дело с концом. Зато нарушение законов богов, непослушание или проявление к ним непочтения гарантированно приведет в царство Аида. Геракл мстителен, злопамятен и крайне жесток, но таковы и боги, карающие без всякой жалости лишь за неосторожное слово.
Он человек, который во всех своих проявлениях действовал, словно бог – и в итоге закономерно стал богом.
Геракл – последний герой эпохи архаических мифов. Несмотря на то, что двенадцать подвигов на службе у Эврисфея являются центром его мифологической биографии, значительно большую ее часть занимают истории осад и сражений. Образ Геракла маркирует границу глобальной социально-культурной трансформации, укрепление построенных на власти военных элит государств и начало доминирования патриархально-военной культуры. В прошлое уходят герои, защищающие мир людей от порождений тьмы и хаоса; новое время называет героями тех, кто разрушает города и покоряет народы на поле сражений. Их приветствует наступившая эра письменной литературы, и о них повествуют ее первые величественные творения.
Глава 2
Гомер. «Илиада» и «Одиссея»
Каждая книга начинается одинаково. Мы берем ее в руки и на обложке видим имя автора, название, иногда – жанровое определение, например, «детективный роман», или «фантастическая повесть». Так мы впервые знакомимся с книгой и, как правило, это краткое представление в дополнениях не нуждается. Но вот мы открываем обложку, переворачиваем первую страницу «Илиады», начинаем читать:
«Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:
Многие души могучие славных героев низринул
В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным
Птицам окрестным и псам (совершалася Зевсова воля), —
С оного дня, как, воздвигшие спор, воспылали враждою
Пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный», —
и понимаем, что, когда речь идет о произведении, созданном более 2 500 лет назад, без уточнений и комментариев не обойтись. Начнем с простого и главного.
Существует три рода литературы: эпос, лирика, драма. Драма определяется легче всего: это любые произведения, написанные для представления в театре. Они имеют характерную форму, практически не изменяющуюся на протяжении тысячелетий: будь то «Царь Эдип» Софокла, чеховская «Чайка» или «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета, мы увидим в начале список действующих лиц, текст будет представлять собой почти исключительно прямую речь, а вот описания не встретятся вовсе.
Отличительная черта лирики – выражение субъективных чувств или мыслей автора; в подавляющем большинстве случаев лирические произведения созданы в стихотворной форме, но встречаются и «стихотворения в прозе»: например, очевидно, что в «Песне о Буревестнике» Горькому важнее не рассказать о полете птицы над штормовым морем, а высказать личное эмоциональное отношение к метафорам бури и прячущихся от нее пингвинов. Когда Гоголь называет «Мертвые души» поэмой, он недвусмысленно указывает нам, что главное здесь – не похождения Чичикова, но пространные авторские лирические отступления от сюжета.
Основа эпоса – повествование. Какими бы новыми смыслами не обрастало в современном речевом обиходе слово «эпический», по сути, это любой рассказ о событиях. Эпические жанры отличаются друг от друга по форме, но не содержательно, поэтому роман, повесть, рассказ, сказка, новелла и небылица – это жанры, а, например, «мистический триллер» не жанр, а торговый ярлык, помогающий издателям и продавцам хоть как-то упорядочить на полках сумасшедшее количество публикуемых сегодня книг. «Илиаду» в этом контексте вполне можно было назвать «боевое фэнтези», или «фантастическая военная драма», или «исторический мистический боевик», что соответствовало бы содержанию, но не имело отношения к определению жанра. «Илиада» – это эпическая поэма, то есть повествование о событиях, изложенное в стихотворной форме. Главное здесь – сама история. Так же считал и Пушкин, называя «Евгения Онегина» романом в стихах, и, хотя в пушкинском тексте множество очаровательных лирических пассажей, смысловым центром является рассказанный эпизод из жизни героя.
«Илиада» пришла в Россию как раз в пушкинские времена. В Западной Европе первые переводы оригинального греческого текста были сделаны еще в XVI в.; в России первым был перевод Кондратовича 1758 года, исполненный прозой с латинского подстрочника. Большого интереса эта работа не вызвала. Во второй половине XVIII и начале XIX вв. еще несколько авторов приступали к поэме Гомера, экспериментируя с формой, пока в 1829 году Николай Гнедич не представил читающей публике свой поэтический перевод, выполненный тем же стихотворным размером, что и оригинал – величественным и размашистым дактилическим гекзаметром. По сей день этот перевод считается лучшим и наиболее аутентичным переложением «Илиады» на русский язык.
К тому времени, когда Гнедич взялся за перевод «Илиады», он был вполне состоявшимся литератором, вице-президентом «Вольного общества любителей российской словесности» и членом-корреспондентом Санкт-Петербургской Академии наук, однако в историю русской литературы он вошел прежде всего как переводчик знаменитого античного эпоса. Гнедич не только сохранил гомеровский стихотворный размер, но и широко использовал архаизмы, чтобы передать древность и возвышенную стилистику оригинала, поэтому в тексте мы постоянно встречаем, например, «дщерь» вместо «дочь», «десница» вместо «правая рука», «перси» вместо «грудь», что выглядит несколько забавно, когда «перси власатые». Или, например, «влагалище», из которого то и дело вынимают меч, потому что «влагалище» – то, куда что-то вкладывают, и в данном случае имеются ввиду ножны. Воссоздание изощренной гомеровской образности при помощи архаических славянизмов типа «лепокудрая» или «лилейнораменная» показалось сначала несколько избыточным даже современникам, и язвительный западник Пушкин не удержался от эпиграммы, сверстанной тем же гекзаметром:
«Крив был Гнедич-поэт, преложитель слепого Гомера,
Боком одним с образцом схож и его перевод», —
довольно бестактно напоминая о физическом недостатке Гнедича, который потерял глаз, переболев оспой. Впрочем, позже, после прочтения «Илиады», тот же Пушкин высказался уже совсем по-другому:
«Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи,
Старца великого тень чую смущенной душой».
«Великий старец» Гомер – поэт легендарный. Это значит, что историчность его личности под вопросом, причем, в отличие, например, от споров о существовании Шекспира или личности автора «Тихого Дона», речь идет не о спекуляциях, а об обоснованном сомнении.
Достоверных сведений о жизни Гомера нет. Принято считать, что он жил на рубеже VIII–VII вв. до н. э.; в качестве подтверждения этой версии обычно приводят свидетельство о поэтическом состязании между Гомером и Гесиодом, в котором, кстати, победа была присуждена Гесиоду за миролюбивое содержание его пасторалей, в отличие от воинственных гимнов Гомера. Однако запись о таком состязании появилась только в III в. до н. э., и больше похожа на попытку придать историчности образу слепого поэта, легендарному автору «Илиады» и «Одиссеи».
С самим авторством дела обстоят тоже неоднозначно. Создателем литературного произведения является тот, что его написал – и точка. Это альфа и омега, начало и конец любого текста: былины, романа, летописи, священной книги или частушек – они столетия могут существовать в устной форме, но тот, кто в итоге их положил на бумагу, и есть автор, пусть даже имя его навсегда останется неизвестным. От него зависит, какой из множества устных вариантов древних преданий переживет века, а какой исчезнет бесследно. Если же художественный текст существует в устной форме половину тысячелетия, то и поэтика, и стиль, и даже смыслы, неизбежно меняясь от века к веку и от поколения к поколению, в итоге будут определены создателем первой письменной редакции. «Илиада» и «Одиссея» – именно литературные произведения, а не просто стихотворные изложения мифологических событий; в них чувствуется авторская рука, самобытность и творческий замысел. Вот только сам Гомер, даже если он реально существовал как личность, никакого отношения к письменным версиям иметь не мог. Достоверно известно, что они были созданы в Афинах в VI в. до н. э., при правлении Писистрата, повелевшего, наконец, навести порядок в исполняемых на праздниках знаменитых поэмах, и случилось это минимум через сто лет после смерти их легендарного автора. И лишь примерно в IV в. до н. э. они были разделены на 24 песни (главы), по числу букв греческого алфавита. Так кому же тогда мы обязаны сюжетной структурой, выразительным слогом, яркой образностью? Кто был тем последним аэдом, певцом-исполнителем, который по памяти надиктовал почти 30 000 стихов в своем собственном неповторимом авторском исполнении? Кто записал их? И записал ли буквально, или, перечитывая перед тем, как передать в библиотеку, взял да и поправил немного на свой вкус и лад? Однозначных ответов на эти вопросы история литературы не знает; мы же, для простоты, будем называть неизвестного автора Гомером, надеясь на высшую справедливость того, что это имя пережило тысячелетия.

Бюст Гомера. 1791 г. Художник: Иоганн Каспар Лафатер (1741–1801) гг.

Акрополь, Афины, Греция. Храм Зевса Олимпийского вдалеке и арка Адриана на переднем плане. Фото ок. 1870 г.
От описываемых в «Илиаде» и «Одиссеи» событий Гомера отделяло как минимум 400 лет. Это сообщает поэмам не только литературную, но и историческую ценность: действие произведений относится примерно к XII в. до н. э., эпохе так называемых «тёмных веков», продолжительностью около 300 лет. Об этом времени есть лишь очень скудные и порой противоречивые сведения; очевидно лишь, что это был один из тех переходных этапов истории человеческих обществ, которые сопровождаются резким культурным упадком, разрушением прежних социальных формаций и обыкновенно предшествуют становлению новых социокультурных систем. «Темные века», которые еще называют «гомеровской эпохой», отделяют условную мифологическую эпоху от исторической: они ознаменованы закатом древнейшей крито-микенской цивилизации, частью которой являлась уже упоминаемая нами минойская; в это время утрачивается ранняя письменность и забываются культы, разрушаются города-дворцы Крита и ранние поселения Средиземноморья, из которых уцелели только Афины. Причиной тому, по общепринятой версии, стало масштабное переселение племен с севера Балканского полуострова на юг. Среди этих племен были дорийцы, по имени которых этот процесс назвали «дорийским нашествием», и ахейцы, ставшие много позже собирательным названием, используемым Гомером для народов, населявших Древнюю Грецию. Как и любой тектонический социокультурный процесс, это переселение сопровождалось многочисленными междоусобными войнами, и одна из самых значительных нашла свое отражение в «Илиаде».
Несмотря на то, что еще Эратосфен – тот самый, который с помощью палки и арифметики верно вычислил длину земной окружности – определил годом падения Трои 1184 до н. э., долгое время описанные в ней события считались исключительно художественным вымыслом. Но в 1870-х годах археолог-любитель Генрих Шлиман, одержимый поэмой Гомера, обнаружил стены древнего поселения на холме Гиссарлык в Турции, в 5 километрах от Дарданелл: останки незахороненных тел, обилие наконечников копий и следы страшных пожаров свидетельствовали о войне, разрушившей город где-то между 1300 и 1200 гг. до н. э.
Это были руины некогда величественной Трои, или Илиона, давшем название гомеровской «Илиаде».
«Троянский цикл» мифов описан 5 авторами в 8 разных книгах: кроме Гомера, это Стасин и его «Киприи»; «Эфиопида» и «Разрушение Илиона» Арктина Милетского, Лесх Лесбосский и «Малая Илиада», «Возвращения» Евмела Коринфского и «Телегония» авторства еще одного легендарного поэта – Евгаммона из Кирены. Сам цикл охватывает события предыстории войны, десятилетнюю осаду Трои, возвращение героев войны по домам и заканчивается смертью Одиссея. «Илиада» Гомера рассказывает только об одном эпизоде последнего года троянской войны, продолжительностью около 50 дней, и поэтому, прежде чем перейти к самому тексту, нам не обойтись без рассмотрения предшествующих событий.
В годы преподавания перед началом изучения «Илиады» я обыкновенно давал ученикам задание: самостоятельно найти первопричину троянской войны. Как правило, самые пытливые добирались до свадьбы Фетиды и Пелея, но тесная связь божественного и человеческого, характерная для мифологии, отправляет нас в поисках истока конфликта в гораздо более дремучие легендарные эпохи, почти к временам сотворения мира.
Полагаю, всем в общих чертах известен миф о Прометее: титан, сочувствующий бедствовавшим во тьме и голоде людям, украл огонь у деспота Зевса, за что был обречен на вечные муки – прикован к скале, куда прилетал ежедневно орел и клевал его печень. Этим изложением мы обязаны авторскому взгляду Эсхила, использовавшего сюжет о Прометее для своей трагедии «Прометей прикованный», и образ бунтаря-гуманиста закрепился в культуре, став особенно актуальным на советском пространстве. Меж тем, Гесиод, не стремившийся к авторскому самовыражению, но ставивший целью возможно более точно передать и систематизировать известные ему мифы, рассказывает нам несколько другую историю.
Прометей не был простым титаном: он участвовал в сотворении человека из земного праха и глины, что характеризует его как одного из демиургов, и в иудео-христианской мифологической системе он был бы минимум архангелом. Прометей действительно сочувствовал людям, но им это сочувствие на пользу не пошло: однажды Прометей подсказал, как во время жертвоприношения подсунуть богам части быка похуже, чем разгневал Зевса, и тот отобрал у людей огонь. Упрямый Прометей утащил огонь из кузни Гефеста в полом тростниковом стебле и снова передал людям, за что и был прикован к скале то ли на Кавказе, то ли в Крыму – и вот тут, обладая пророческим даром, Прометей не удержался и в отместку сообщил Зевсу, что знает, кто лишит его власти. Зевс, который, как и его отец Крон, был чрезвычайно мнительным – вспомним, как он от испуга проглотил богиню Метиду! – приступил с вопросами, но титан отвечать на них не пожелал. Тогда и появился тот самый орел, который столетиями клевал Прометею печень, а Зевс периодически то свергал упрямца в подземелья Аида вместе со скалой, то поднимал обратно. Всему на свете бывает предел; в итоге Прометей сдался и рассказал Зевсу, что тому ни в коем случае нельзя вступать в связь с речной богиней Фетидой, которая обладает нетривиальным свойством: рожденный ею сын будет непременно сильнее отца. Зевс выдохнул с облегчением, освободил Прометея, вопрос же с Фетидой закрыл решительно и эффективно: выдал ее замуж, да не за кого попало, а за Пелея, который приходился Зевсу внуком и на тот момент времени считался самым могучим героем Эллады.
На свадьбу Пелея и Фетиды торжествующий Зевс пригласил всех богов, но – увы! – совсем позабыл про богиню раздора Эриду. А может быть, не позвал специально из-за ее дурного нрава. Раздосадованная Эрида подбросила на пиршественный стол золотое яблоко – то самое «яблоко раздора» – с надписью «Прекраснейшей», из-за которого мгновенно сцепились Гера, Афродита и даже умница Афина. Каждая имела основания полагать, что яблоко предназначено ей. Они было обратились к Зевсу с просьбой рассудить их, но тот мудро решил в подобный спор не встревать и указал буквально на первого попавшегося смертного, чтобы спровадить всё более распалявшихся богинь: вот, видите, в Малой Азии, на берегу моря, паренек овечек пасет? Вам к нему.

Прометей. Гравюра Корнелиса Блумарт (II), по Жану Варену (II), 1655–1716 гг.

Гера с копьем. Фото 1859 г. Ватикан, Рим
Юным пастухом был Парис, сын царя Трои Приама, и он едва дар речи не потерял, когда перед ним в блеске славы явились три великих богини, да еще и в сопровождении Гермеса в придачу. Играть честно богини не собирались, и каждая принялась обещать Парису награду, если он признает ее прекраснейшей: Гера предложила власть над всей Азией, Афина – высокие компетенции стратега и воинские победы, а Афродита – самую красивую смертную девушку в мире. Может быть, человек постарше и рассудил дело иначе, но Парис был еще мальчишкой, а потому без колебаний отдал яблоко Афродите, приобретя на всю жизнь для себя и для Трои могущественных и смертельных врагов в лице Афины и Геры.
Парис, кстати, об этом эпизоде довольно скоро забыл: он взрослел, погружался в дела города, так что сама Афродита спустя несколько лет напомнила ему про свое обещание. Парис тогда как раз искал жену, напоминание пришлось кстати, и вот уже в компании с троянцем Энеем и под покровительством Афродиты он отплывает в далекий путь, держа курс на Спарту, где со своим мужем, царем Менелаем и дочерью Гермионой живет дочь Зевса и Леды, красивейшая из смертных Елена, которую, как мы помним, в девичестве уже похищали из отчего дома Тесей и Пирифой. Вслед кораблю голосит, предрекая недоброе, сестра Париса, юная пророчица Кассандра, но ей, как обычно, никто не верит: за то, что она не ответила на ухаживания Аполлона, тот наложил проклятие, и с тех пор несчастная ясно видит будущее и предрекает его, но не может предотвратить, пусть даже пророчества ее постоянно сбываются.
Менелай радушно принял гостей, не подозревая подвоха. Афродита взялась за дело и без труда внушила Елене страсть к красивому и молодому сыну царя Трои. Едва только Менелай отлучился на время из дома по каким-то царским делам, как Парис увел на корабль Елену, не забыв прихватить вместе с ней сокровища Менелая, и пустился в обратный путь.
Если бы нарушивший законы гостеприимства соблазнитель и вор был обычным грабителем, Менелай легко совершил бы возмездие своими силами – хватило бы пары кораблей со спартанскими копьеносцами. Но Парис был сыном царя Трои, крупного полиса с сильной, хорошо вооруженной и обученной армией, поэтому Менелай обратился за помощью к своему брату, царю Микен Агамемнону. Тот кинул клич – и вот из Аргоса и Лакриды, из Афин, с Крита, Саламина, Эвбеи и многих других областей Эллады потянулись корабли и дружины, готовые помочь восстановить справедливость, а заодно и разграбить один из самых богатых городов малой Азии. Впрочем, воевать желали не все: например, правитель Итаки Одиссей, которому Гомер присвоил постоянный эпитет «хитроумный», в поход не стремился. У него только что родился сын, да и дома хватало дел, а потому Одиссей попытался избежать призыва древним, как сама античность, способом – симулировать психическое расстройство. Едва на остров прибыли Агамемнон, Менелай и другие члены их военного штаба, Одиссей запряг в плуг быка с ослом и принялся пахать морской берег, обильно засевая его солью. Увы, но номер не удался: некий Паламед, царь Эвбеи, взял новорожденного сына Одиссея и положил младенца перед упряжкой. Разумеется, Одиссею пришлось остановиться, что очевидно доказало вменяемость и пригодность к войне, на которую он и отправился, затаив против Паламеда обиду.

Спартанские войны. Похищение Елены. Гравюра. Ок.1560–1595 гг.
Агамемнону удалось собрать в итоге целую армию в количестве около 100 000 воинов, которые шли к Трое более, чем на 1000 кораблях. Это и по нынешним временам внушительная военная сила, но для обеспечения решительного преимущества не хватало еще ударного центра, некоего чудо-оружия, которое должно было гарантировать абсолютное превосходство на поле боя. Таким оружием предстояло стать Ахиллу, тому самому сыну Пелея и Фетиды.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽