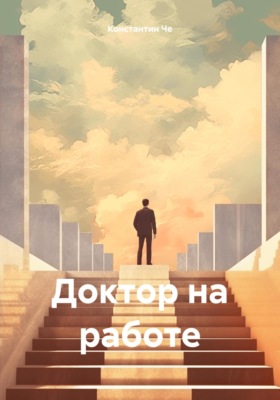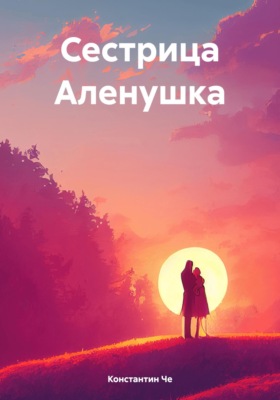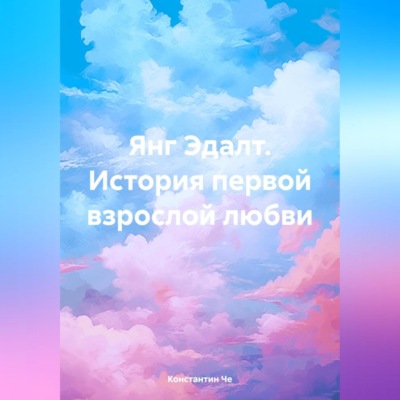Константин Че
 1 подписчик
1 подписчикОтправим уведомление о новых книгах, аудиокнигах, подкастах
Все книги автора
Все книги
Без серии
Электронная версия бесплатно
от 49,90 ₽
Электронная версия бесплатно
от 49,90 ₽
349 ₽
Книги Константина Че можно скачать в форматах fb2, txt, epub, pdf или читать онлайн.
Войдите, чтобы оставить отзыв