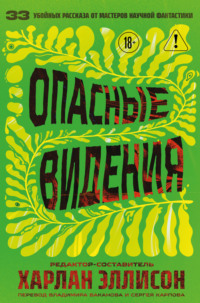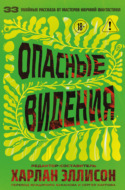Читать книгу: «Опасные видения», страница 2
Предисловие I
Вторая революция
Айзек Азимов
Сегодня – в этот самый день, когда я это пишу, – мне позвонили из «Нью-Йорк таймс». Там приняли статью, которую я прислал три дня назад. Тема: колонизация Луны.
И меня поблагодарили!
О великая богиня Луна, как изменились времена!
Тридцать лет назад, когда я только начинал писать фантастику (и был еще очень молод), колонизация нашего спутника была темой строго для бульварного чтива с аляповатыми обложками. Для литературы в стиле «только не говори, что веришь в эту чушь». Для литературы в стиле «не забивай голову этой дрянью». И прежде всего – для эскапистской литературы!
Порой я смотрю на наш мир с недоверием. Фантастика считалась эскапистской литературой. Мы сбегали. Мы отворачивались от таких насущных проблем, как стикбол, и домашка, и драки, чтобы погрузиться в небывалый мир демографических взрывов, ракет, лунных исследований, атомных бомб, лучевой болезни и загрязненной атмосферы.
Разве не здорово? Разве не замечательно, что нас, юных эскапистов, вознаградили по заслугам? Обо всех великих, головоломных, безнадежных проблемах сегодняшнего дня мы переживали за двадцать лет до всего остального человечества. Как вам такой эскапизм?
Зато теперь можно колонизировать Луну на респектабельных черно-белых страницах «Нью-Йорк таймс» – и вовсе не в фантастическом рассказе, а во взвешенном анализе вполне возможной ситуации.
Это важная перемена, причем непосредственно связанная с книгой, что вы сейчас держите в руках. Давайте объясню, как именно!
Я стал фантастом в 1938 году, как раз когда Джон В. Кэмпбелл-мл. принес в жанр революцию одним простым требованием: чтобы фантасты твердо стояли на стыке науки и литературы.
Докэмпбелловская фантастика почти всегда делится на две категории. Она либо ненаучная, либо слишком научная. Ненаучные истории – приключенческие, где обычные западные слова периодически заменялись на эквивалент космических. Писатель мог не забивать голову научными знаниями – хватало технического жаргона, который можно было лепить, где вздумается.
А слишком научные рассказы, с другой стороны, населялись исключительно карикатурами на ученых. Одни ученые были безумными, другие – рассеянными, третьи – благородными. Общим у них было пристрастие разглагольствовать о своих теориях. Безумные их вопили, рассеянные – бормотали, благородные – провозглашали, но все они читали мучительно долгие лекции. А рассказ служил жидким цементом для длинных монологов, чтобы создать иллюзию, будто у них есть связность.
Конечно, встречались и исключения. Позвольте, к примеру, назвать «Марсианскую Одиссею» Стенли Вейнбаума (трагически скончался от рака в тридцатишестилетнем возрасте). Она вышла в июльском выпуске 1934 года Wonder Stories – это идеальный кэмпбелловский рассказ за четыре года до революции самого Кэмпбелла.
Вкладом Кэмпбелла было требование, чтобы исключение стало правилом. Чтобы в рассказе имелась и настоящая наука, и настоящий рассказ – и чтобы одно не преобладало над другим. Он не всегда получал, что хотел, но все-таки получал достаточно часто, чтобы породить то, что старожилы зовут Золотым веком фантастики.
Конечно, свой Золотой век есть у каждого поколения, но кэмпбелловский Золотой век – конкретно мой, и, когда я говорю «Золотой век», имею в виду именно его. Слава богу, я пришел в литературу как раз вовремя, чтобы внести в этот Золотой век и свой вклад (причем довольно неплохой – и к черту ложную скромность).
И все же во всех Золотых веках заключаются и семена их погибели, и по завершении можно оглянуться назад и без труда их найти. (О, этот великий задний ум! Как хорошо пророчествовать о том, что уже произошло. Никогда не ошибешься!)
В данном случае кэмпбелловское требование и реальной науки, и реальных историй породило двойного врага – как для реальной науки, так и для реальных историй.
С реальной наукой рассказы выглядели все правдоподобнее и правдоподобнее – и, собственно, правдоподобными и были. Авторы, стремясь к реализму, изображали компьютеры, ракеты и ядерное оружие именно такими, какими компьютеры, ракеты и ядерное оружие и стали всего через одно десятилетие. В результате реальная жизнь пятидесятых и шестидесятых очень похожа на кэмпбелловскую фантастику сороковых.
Да, фантастика сороковых заходила куда дальше того, чего мы добились. Мы, писатели, не просто стремились к Луне или слали беспилотные ракеты к Марсу; мы бороздили всю Галактику со сверхсветовыми двигателями. И все-таки наши космические приключения основывались на том же мышлении, из которого сейчас исходит НАСА.
И как раз потому, что сегодняшняя реальная жизнь так сильно напоминает позавчерашнюю фантазию, старые фанаты недовольны. У них в глубине души засело, признают они это или нет, разочарование и даже возмущение из-за того, что внешний мир вторгся в их личное царство. Они чувствуют утрату «ощущения чуда», ведь то, что когда-то правда считалось «чудом», теперь прозаичное и житейское.
К тому же отчего-то не сбылась надежда, что кэмпбелловская научная фантастика вознесется ввысь по великой спирали популярности и респектабельности. Новое поколение потенциальных читателей фантастики видит всю фантастику, какая ему может понадобиться, в обычных газетах и журналах и уже не испытывает необоримого желания покупать специализированные фантастические журналы.
Вот и вышло так, что после недолгого рывка в первой половине пятидесятых, когда как будто исполнились все золотые мечты фантастов и издателей, наступил спад, и журналы уже не процветали, как в сороковых. Даже запуск первого спутника не остановил этот спад – уж скорее ускорил.
Это все о враге реальной науки. А что же там с реальными историями?
В двадцатых и тридцатых, когда фантастика еще оставалась неповоротливым жанром, хороший стиль не требовался. Фантасты того времени были надежными поставщиками; сколько живут, столько пишут фантастику, потому что все остальное требует мастерства и им не по зубам. (Поспешу здесь оговориться об исключениях, и одним из них вспоминается Мюррей Лейнстер.)
Но авторам, которых воспитывал Кэмпбелл, и так приходилось писать хорошо, иначе бы Кэмпбелл их не взял. А под кнутом собственных амбиций они писали все лучше и лучше. И со временем неизбежно обнаруживали, что уже могут заработать побольше на чем-то другом – и тогда их вклад в фантастику иссякал.
Вот и получается, что в какой-то мере две погибели Золотого века трудились рука об руку. Немало авторов тех времен последовало за фантастикой в ее путешествии от вымысла к факту. И такие, как Пол Андерсон, Артур Кларк, Лестер дель Рей и Клиффорд Саймак, начали писать о научных фактах.
Они-то на самом деле не изменились – изменился жанр. Темы, которые они брали в литературе (ракеты, космические путешествия, жизнь на других планетах и так далее), перешли от вымысла к факту и захватили с собой авторов. Естественно, каждая их страница нефантастической литературы – это одной страницей меньше для фантастической.
Чтобы знающий читатель не начал тут саркастически бормотать себе под нос, мне лучше сразу и вполне открыто признать, что из всей кэмпбелловской команды я, пожалуй, подчинился этой перемене сильнее всех. После запуска спутника и после того, как в Америке перевернулось отношение к науке (хотя бы временно), я опубликовал – на данный момент – пятьдесят восемь книг, из которых только девять можно считать художественной литературой.
Мне самому, без шуток, стыдно и неприятно, ведь куда бы я ни шел и что бы ни делал, всегда буду считать себя прежде всего фантастом. И все-таки, если в «Нью-Йорк таймс» меня просят колонизировать Луну, а в Harper’s – исследовать край Вселенной, как я могу отказать? Эти темы – труд всей моей жизни.
И позвольте в свою защиту сказать, что я не совсем забросил фантастику в строгом смысле этого понятия. В мартовском выпуске Worlds of If 1967 года (уже на полках на момент написания) вышла моя повесть «Бильярдный шар».
Но довольно обо мне, вернемся к самой фантастике…
Каким был ее ответ на эту двойную погибель? Очевидно, жанру требовалось подстроиться – и он подстроился. Чистые кэмпбелловские вещи еще писались, но уже не считались костяком жанра. Уж слишком близко подобралась реальность.
И снова в начале шестидесятых произошла фантастическая революция, ярче всего проявившись, пожалуй, в журнале Galaxy под руководством его редактора Фредерика Пола. Наука отступила, а на первый план выступила современная художественная техника.
Акцент резко сдвинулся к стилю. Когда свою революцию начинал Кэмпбелл, новые писатели, приходившие в жанр, приносили с собой ауру университетов, науки и инженерии, логарифмическую линейку и лабораторную пробирку. Теперь новые авторы пришли под знаком поэтов и артистов – и заодно почему-то с аурой Гринвич-Виллиджа и левого берега Сены.
Естественно, ни один эволюционный катаклизм не происходит без довольно масштабных вымираний. Метеорит, окончивший меловой период, стер с лица земли динозавров, а переход от немого кино к звуковому оставил без работы орду фиглярствующих позеров.
Так же и с революциями в фантастике.
Прочитайте список авторов любого фантастического журнала начала тридцатых, а потом – список авторов фантастического журнала начала сороковых. Смена почти полная, потому что после крупного вымирания немногие угнались за жанром. (Среди немногих успевших – Эдмонд Гамильтон и Джек Уильямсон.)
Между сороковыми и пятидесятыми изменилось немногое. Еще шел своим чередом кэмпбелловский период, и это говорит нам о том, что одного только окончания десятилетия самого по себе недостаточно.
Но теперь сравните авторов журнала начала пятидесятых с сегодняшним журналом. Очередная смена. Снова кое-кто выжил, но уже влился целый поток молодых ярких авторов новой школы.
Эта Вторая революция не такая заметная и очевидная, как Первая. Среди всего прочего, что есть сейчас и чего не было тогда, – фантастическая антология, а антология размывает переход.
Каждый год выходит немало антологий, и рассказы в них почти всегда набираются из прошлого. В антологиях шестидесятых всегда заметно представлены рассказы сороковых и пятидесятых, и потому в них Вторая революция еще не случилась.
И это причина появления антологии, которую вы теперь держите в руках. Ее составляли не из рассказов прошлого. Ее составляли из рассказов, написанных только что, под влиянием Второй революции. Харлан Эллисон стремился представить жанр, как он есть сейчас, а не каким был раньше.
Если заглянете в содержание, вы увидите ряд авторов, прославившихся в кэмпбелловский период – Лестер дель Рей, Пол Андерсон, Теодор Старджон и так далее. Это те писатели, кому хватило мастерства и воображения, чтобы пережить Вторую революцию. Но все-таки еще вы увидите авторов, которых родили шестидесятые и которые знают только новую эпоху. Среди них Ларри Нивен, Норман Спинрад, Роджер Желязны и так далее.
Глупо думать, что все новое встретит общее одобрение. Те, кто помнит старое и чьи воспоминания неразрывно связаны со своей молодостью, будут, конечно, скорбеть о прошлом.
Не стану скрывать, я и сам скорблю по прошлому. (Мне здесь дали право говорить все, что я хочу, и я намерен быть откровенным.) Меня породила Первая революция – и Первую революцию я буду хранить в сердце всегда.
Вот почему, когда Харлан попросил написать рассказ для этой антологии, я отстранился. Я чувствовал, что любой мой рассказ сфальшивит. Будет слишком серьезным, слишком респектабельным и, проще говоря, чертовски консервативным. И потому я согласился взамен написать предисловие – серьезное, респектабельное и совершенно консервативное предисловие.
И предлагаю тем из вас, кто не консервативен и кто считает Вторую революцию своей, приветствовать образцы новой фантастики от новых (и некоторых старых) мастеров. Здесь вы найдете жанр в его самой дерзкой и экспериментальной ипостаси; пусть же он вас подобающе взбудоражит и восхитит!
Айзек АзимовФевраль 1967 года
Предисловие II
Харлан и я
Айзек Азимов
Вся эта книга есть Харлан Эллисон. Она пропитана и пронизана Эллисоном. Да, признаю, в ней участвовали еще тридцать два автора (в каком-то смысле включая и меня), но предисловие Харлана и его тридцать два предисловия окружают, обрамляют и пропитывают рассказы колоритом его личности.
Поэтому здесь совершенно уместно рассказать, как я познакомился с Харланом.
Место действия – Всемирная конвенция научной фантастики, чуть больше десяти лет назад.
Я только что приехал в отель и тут же направился в бар. Я не пью, но знаю, что в баре будут все. И там в самом деле были все, и я выкрикнул приветствие, и все крикнули мне в ответ.
Но был среди них молодой человек, которого я еще никогда не видел: невысокий парнишка с острыми чертами лица и самыми живыми глазами, что я видел. И теперь эти живые глаза вперились в меня с тем, что я могу назвать только почтением.
– Вы Айзек Азимов? – спросил он. И было в его голосе благоговение, изумление и потрясение.
Мне это очень польстило, но я, хоть и с трудом, сохранил скромность.
– Да, это я.
– Не шутите? Вы правда Айзек Азимов? – Еще не придуманы слова, чтобы описать ту страсть и уважение, с какими его язык ласкал слоги моего имени.
Мне уж казалось, остается только положить руку ему на голову и благословить, но я сдержался.
– Да, это я, – ответил я, и моя улыбка уже была совершенно идиотическая и тошнотворная. – Прав- да я.
– По-моему, вы… – начал он все еще с той же интонацией и замолк на долю секунды, пока я слушал, а публика затаила дыхание. В эту долю секунды его выражение сменилось на полное презрение, и закончил он фразу с наивысшим безразличием: – Ничто!
Для меня это было подобно эффекту падения со скалы, о наличии которой я и не подозревал, и приземления плашмя.
Оставалось лишь бестолково моргать, пока все присутствующие покатывались от хохота.
Тем парнишкой, как вы уже понимаете, был Харлан Эллисон, и я еще с ним не пересекался и не знал о его несравненной дерзости. Зато знали все остальные и ждали, когда ловко поставят меня на место – что и произошло.
Когда же я с трудом восстановил некое подобие равновесия, уже давно прошло время для какого-никакого ответа.
Я мог только держаться, как получится, хромая и истекая кровью, сокрушаясь, что меня застигли врасплох – и что никому не хватило самоотверженности предупредить меня и поступиться удовольствием от зрелища того, как я получаю свое.
К счастью, я верю в прощение, поэтому решил целиком и полностью простить Харлана – как только отплачу ему сторицей.
Тут вы должны понимать, что Харлан возвышается среди прочих в смелости, воинственности, красноречии, остроумии, обаянии, уме – словом, во всем, кроме роста.
Он не то чтобы высок. На самом деле, если говорить без обиняков, он довольно низок – даже ниже Напо- леона.
И пока я оправлялся от катастрофы, чутье подсказало, что для этого молодого человека, кого теперь мне представили как известного фаната – Харлана Эллисона, данная тема самую чуточку чувствительна. Я запомнил это себе на будущее.
На следующий день на конвенции я был на сцене, представлял известных людей добрым словом. Но на сей раз не спускал глаз с Харлана – ведь он сидел в первом ряду (а где же еще?).
Как только он отвлекся, я вдруг назвал его имя. Он встал, удивленный и растерявшийся, а я наклонился к нему и сказал как можно любезнее:
– Харлан, встань на своего соседа, чтобы люди тебя видели.
И пока публика (причем на сей раз куда многочисленнее) злорадно хохотала, я простил Харлана, и с тех пор мы добрые друзья19.
Айзек АзимовФевраль 1967 года
Введение 1967 года
Тридцать два предсказателя
Харлан Эллисон
Вы держите в руках не просто книгу. Если нам повезет, это революция.
Эта книга – все двести тридцать девять тысяч слов, самая большая в истории спекулятивной литературы антология оригинальных рассказов, а то и самая большая в принципе, – собиралась с конкретной целью революции. Она задумывалась, чтобы встряхнуть. Она рождена из потребности в новых горизонтах, новых формах, новых стилях, новых вызовах в литературе нашего времени. Если мы все сделали правильно, она даст те самые новые горизонты, стили, формы и вызовы. А если и нет, то это все равно чертовски хорошая книжка с интересными рассказами.
Есть тесный круг критиков, аналитиков и читателей, которые заявляют, будто «просто развлечения» мало, что в рассказе должны быть суть и вес, важное послание, или философия, или сверхизобилие сверхнауки. Хотя в их заявлениях что-то есть, слишком уж часто это сводилось ко всей цели литературы – нравоучительное желание «что-то высказать». Хотя заявление, что теория должна затмевать сюжет, ненамного обоснованнее, чем то, что сказки – тот высший уровень, к которому должна стремиться современная литература, но мы, если бы нас сковали и угрожали загнать нам бамбуковые щепки под ногти, все-таки выбрали бы второе, а не первое.
К счастью, эта книга бьет ровно между двумя крайностями. Каждый рассказ чуть ли не агрессивно развлекателен. Но при этом каждый полон идей. И не просто тех конвейерных идей, что вы уже видели сотню раз, а идей новых и дерзких; каждая по-своему – опасное видение.
С чего вдруг столько разговоров о противостоянии развлекательности и идей? Причем в таком длинном предисловии к книге еще длиннее? Почему не дать рассказам говорить за себя? Потому что… хоть оно ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка и водится с утками, это еще не обязательно утка. Это сборник уток, которые прямо на ваших глазах превратятся в лебедей. Это рассказы настолько развлекательны, что сложно поверить, чтобы их писали ради идей. Но так оно и было, и, с изумлением наблюдая, как утки развлечений становятся лебедями идей, вы переживете тридцатитрехрассказовую демонстрацию «чего-то новенького» в спекулятивной литературе – nouvelle vague20, если угодно.
А это, дорогие читатели, и есть революция.
Кое-кто говорит, будто спекулятивная литература пошла от Лукиана из Самосаты или от Эзопа. Спрэг де Камп в его превосходном «Справочнике фантастики» (Science Fiction Handbook, 1953) перечисляет Лукиана, Вергилия, Гомера, Гелиодора, Апулея, Аристофана, Фукидида и зовет Платона «вторым греческим „отцом фантастики“». Грофф Конклин в «Лучшей фантастике» (The Best of Science Fiction, 1946) предполагает, что ее исторические корни можно без труда найти в «Гулливере» Свифта, «Великом военном синдикате» Фрэнка Р. Стоктона (The Great War Syndicate, 1889), «Большом лунном надувательстве» Ричарда Адамса Локка, «Через сто лет» Эдварда Беллами, Жюле Верне, Артуре Конан Дойле, Герберте Уэллсе и Эдгаре Аллане По. Хэйли и Маккомас в классической антологии «Приключения во времени и пространстве» (Adventures in Time and Space, 1946) склоняются к великому астроному Иоганну Кеплеру. Мой личный кандидат в главные источники влияния на фантазию, лежащую в основе всей великой спекулятивной литературы, – это Библия. (Проведем микросекунду молчания в молитве о том, чтобы Бог не поразил меня молнией в печень.)
Но прежде чем меня обвинят в попытках забрать дурную славу у известных историков спекулятивной литературы, позвольте заверить, что я перечисляю все эти основы основ, только чтобы обозначить: я свою домашнюю работу сделал и поэтому имею право на дальнейшие безапелляционные заявления.
На самом деле современная спекулятивная литература родилась с Уолтом Диснеем и его классическим мультфильмом «Пароходик Уилли» в 1928 году. А что, нет? Как бы – мышь за штурвалом парохода?
В конце концов, исток не хуже Лукиана; ведь если перейти к сути дела, зародил спекулятивную литературу тот первый кроманьонец, который представил себе, что же там шмыгает во тьме вокруг его костра. Если он вообразил девять голов, пчелиные фасетчатые глаза, огнедышащие пасти, кроссовки и жилет в цветную клетку, он создал спекулятивную литературу. А если увидел горного льва, то, скорее всего, просто следовал моде и это не считается. И вообще он был трусишка.
Никто в здравом уме не будет отрицать, что самый очевидный предок того, что сегодня, в этом томе, мы зовем «спекулятивной литературой», – это журнал Amazing Stories Гернсбека, издававшийся с 1926 года. И если мы согласны в этом, тогда нужно отдать должное и Эдгару Райсу Берроузу, Эдварду Элмеру Смиту, Говарду Филипсу Лавкрафту, Эду Эрлу Реппу, Ральфу Милну Фарли, капитану США С. П. Мику (в отставке)… всей той братии. И конечно же, Джону В. Кэмпбеллу-мл., бывшему редактору журнала фантастики под названием Astounding, а теперь – редактору журнала с кучей схем-иллюстраций под названием Analog. Мистера Кэмпбелла принято считать «четвертым отцом современной фантастики» или кем-то в этом роде, поскольку это он предложил писателям сажать в свои аппараты персонажей. Так мы с вами подошли к сороковым – и к рассказам об изобретениях.
Но о шестидесятых это нам еще ничего не говорит.
После Кэмпбелла были Хорас Голд21, и Тони Баучер22, и Мик Маккомас, проложившие путь для радикальной идеи, что фантастику надо судить по тем же высоким меркам, что и все литературные жанры. То еще потрясение для бедолаг, которые писали и обустраивались в жанре. Пришлось им теперь учиться хорошо писать, а не только остроумно мыслить.
Отсюда мы и забредаем по колено в паршивых рассказах в Свингующие Шестидесятые. Которые еще не начали толком свинговать. Но революция уже не за горами. Потерпите.
Двадцать с лишним лет преданный фанат фантастики гордо бил себе в грудь и страдал из-за того, что мейнстримная литература не признает полеты фантазии. Сетовал, что книги вроде «1984», «Дивный новый мир», «Лимбо» и «На пляже» получили одобрение критиков, но «фантастикой» не считаются. Более того, заявлял он, их автоматически исключают из-за упрощающей теории, что это «хорошие книги, они просто не могут быть той фантастической ерундой». Он хватался за все пограничные попытки, пусть даже жалкие (например: «Бумаги „Ломоком“ Воука, „Гимн“ Айн Рэнд, „Белый лотос“ Херси, „Планета обезьян“ Буля»), только чтобы успокоить себя и подтвердить мысль, что мейнстрим подворовывает из другого жанра и что в том ouvrage de longue haleine23, которое есть фантастика, существует множество богатств.
Теперь этот бешеный фанат устарел. Отстал от жизни на двадцать лет. Порой его параноидальные бредни еще слышны на заднем фоне, но он скорее ископаемое, чем сила. Мейнстрим давно нашел спекулятивную литературу, применил на благо и теперь находится в процессе ассимиляции. «Заводной апельсин» Бёрджесса, «Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер» и «Колыбель для кошки» Воннегута, «Покупатель детей» Херси, «Выжили только влюбленные» Уоллиса, «Люди или животные?» Веркора (если брать только недавнюю россыпь) – всё спекулятивные романы высшего пилотажа, где задействованы многие инструменты, отточенные фантастами в своем застойном жанровом болотце. Ни один номер крупных глянцевых журналов не выходит без какого-либо упоминания спекулятивной литературы – либо со ссылкой на то, что она предсказала какой-нибудь ныне распространенный предмет научного интереса, либо открыто примазываясь к ведущим именам в жанре, ставя их в один ряд с джонами чиверсами, джонами апдайками, бернардами маламудами, солами беллоу.
Мы добились своего, такой здесь следует неизбежный вывод.
И все же тот не унимающийся фанат и множество писателей, критиков и редакторов, у кого за годы геттоизации выработалось туннельное зрение, не прекращают свои допотопные стенания, сами не подпускают к себе то самое признание, по которому так плачутся. Вот что Чарльз Форт называл «временем парового двигателя». Когда настает время изобрести паровой двигатель, его изобретут – не Джеймс Уотт, так кто-нибудь другой.
Сейчас – «время парового двигателя» для авторов спекулятивной литературы. Новое тысячелетие на дворе. Мы – то, что происходит.
И большинство тех любителей фантастики, что стоят у плачущей стены, в бешенстве. Ведь ни с того ни с сего и водитель автобуса, и стоматолог, и пляжный бездельник, и посыльный бакалейной лавки читают его рассказы; и хуже того, эти запоздалые новички не выказывают должного почтения к Великим Старым Мастерам жанра, не говорят, что рассказы о «Жаворонке» – блестящие, зрелые и увлекательные; не хотят копаться в терминологии, принятой в спекулятивной литературе уже тридцать лет, а хотят сразу понимать, что происходит; не встают в строй старого порядка. Они предпочитают «Звездный путь» и Кубрика Барсуму, и Рэю Каммингсу. И потому они – объекты фанатских издевок, изгибающихся в усмешках губ, очень напоминающих загибающиеся страницы древнего палп-издания Famous Fantastic Mysteries.
Но еще пагубнее для них появление писателей, не признающих старые обычаи. Тех юных умников, которые «пишут всякие литературные штуки», которые берут принятые замшелые идеи спекулятивной арены и переворачивают их с ног на голову. Это кощунство. Да поразит их Бог молнией в печень.
И все-таки спекулятивная литература (а заметили, как я ловко избегаю названия «научная фантастика»? уловили суть, друзья? вы купили эту самую спекулятивную литературу и даже не заметили! ну, раз уж попались, почему бы не дочитать и не просветиться) – самая плодородная почва для роста писательского таланта: здесь нет границ, здесь горизонты как будто никогда не становятся ближе. И вот эти наглые умники все лезут и лезут, доводя старую гвардию до белого каления. И боже мой! Как пали сильные мира сего; многие «большие имена» в жанре, светившиеся на обложках и в рейтингах журналов дольше, чем того заслуживают, больше не справляются, больше не пишут. Или ушли в другие области. Уступая новым, ярким – и тем, кто сам когда-то был новым и ярким, но остался обойден вниманием, потому что не считался «большим именем».
Но, несмотря на новый интерес мейнстрима к спекулятивной литературе, несмотря на расширенные и разнообразные стили новых авторов, несмотря на мощь и множество тем этих авторов, несмотря на то, что внешне выглядит здоровым рыночным бумом… у многих редакторов в жанре остается ограниченное, узколобое мышление. Потому что многие редакторы когда-то были просто фанатами и сохранили деформированные вкусы из спекулятивной литературы своей молодости. Писатель за писателем сталкивается с тем, что его работы цензурируются раньше, чем он их напишет: он же знает, что один редактор не допустит разговоров о политике на своих страницах, а другой сторонится исследований секса в будущем, а третий, что под плинтусом, не платит, разве что рисом с фасолью, – так к чему прожигать серые клеточки на дерзкую идею, когда какой-нибудь паразит купит затертую поделку про безумца в машине времени?
Это называется табу. И в жанре нет ни единого редактора, который не будет божиться под страхом водяной пытки, что у него их нет, что он даже поливает редакцию инсектицидом, чтоб табу не угнездились у него в папках, как чешуйница. Они говорят это на конвентах, говорят в печати, но больше десятка писателей в одной только этой книге при малейшем поводе расскажут об ужасах цензуры, называя имена всех редакторов в жанре – даже тех, кто живет под плинтусом.
О да, в жанре есть вызовы, публикуются действительно противоречивые, шокирующие рассказы; но как много всего еще остается не у дел.
И никто ни разу не говорил писателю спекулятивной литературы: «Пустись во все тяжкие, не сдерживайся, только выскажись!» Пока не появилась эта книга.
А теперь отвернитесь – вы на линии огня большой революции.
В 1961 году ваш редактор…
…секундочку. А то сейчас придумал, о чем лучше сказать. Вы уже могли заметить отсутствие серьезности и сдержанности со стороны Эллисона-редактора. Это вызвано не столько юношеским запалом – хотя в последние семнадцать лет целые легионы клялись, будто я выгляжу на четырнадцать лет моложе своего возраста, – сколько нежеланием со стороны Эллисона смириться с той жестокой реальностью, что я – писатель до мозга костей – отказался от капельки авторского гештальта и стал Редактором. Мне кажется странным, что из всех мудрецов в жанре – из всех тех, кто больше меня заслуживает писать предисловие к такой важной книге, какой мне бы хотелось считать эту, – такая задача выпала именно мне. Но если подумать, это и неизбежно; не столько из-за таланта, сколько из-за моей веры в важность книги и твердой решимости, что она просто-таки обязана выйти. Если бы я с самого начала знал, что книгу придется собирать больше двух лет, обо всех страданиях и расходах, я бы все равно на это пошел.
И в обмен на все радости антологии вам придется потерпеть навязчивость редактора, который как писатель не хуже всех здешних авторов и просто слишком рад возможности разок поиграть в Бога.
Так о чем это я?
Итак, в 1961-м ваш редактор работал над линейкой изданий в мягкой обложке для небольшого издательства в Эванстоне, штат Иллинойс. Среди проектов, которые мне хотелось отправить на печатный станок, был сборник спекулятивных рассказов от лучших писателей – все оригинальные и все крайне провокационные. Я нанял известного составителя антологий, и он, как сказали бы многие, поработал на совесть. Многие, но не я. Мне рассказы казались либо дурацкими, либо бессмысленными, либо грубыми, либо скучными. Многие из них с тех пор уже публиковались, даже в антологиях «лучшего». И Лейбер, и Бретнор, и Хайнлайн, если назвать только троих. Но та книга не возбудила меня так, как, по-моему, должен возбуждать подобный сборник. Когда я ушел из издательства, за проект попробовали взяться другой редактор и другой составитель. Дальше меня они не продвинулись. Проект умер при рождении. Понятия не имею, что случилось с рассказами, которые собрали они.
В 1965 году ко мне в гости в мой крошечный лос-анджелесский домик на дереве, с шутливым прозванием «Страна Чудес Эллисона» в честь одноименного сборника, приезжал Норман Спинрад. Сидим мы и болтаем о том да сем, как тут Норман принялся жаловаться на антологии – по какому поводу, уже не припомню. Но он сказал, что мне пора бы применить на деле те крамольные идеи о моем «чем-то новеньком» в спекулятивной литературе, которые я распространял, и собрать свою антологию. Я поспешил заметить, что это не мое «что-то новенькое» – как и не Джудит Меррил и не Майкла Муркока. У нас-то свои бренды.
И я глупо улыбнулся. Я в жизни не редактировал антологию, какого черта я в этом понимаю? (Так же скажут многие критики, когда дочитают эту книгу. Но продолжим…)
Незадолго до этого я продал Роберту Силвербергу рассказ для его будущей антологии. Я придрался к какой-то мелочи и получил ответ в неподражаемом стиле Силвербоба, часть которого приводится далее:
Харлан Эллисон.
* На самом деле метр шестьдесят восемь. – Прим. пер.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе