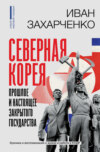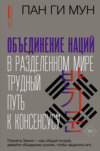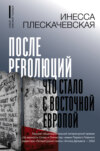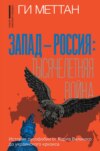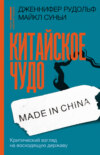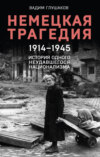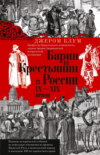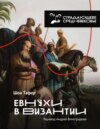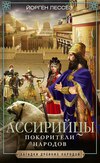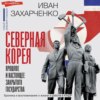Читать книгу: «Северная Корея: прошлое и настоящее закрытого государства», страница 3
Пхеньянское метро
В воскресенье 27 сентября 1987 года я подошел к станции пхеньянского метро «Сынни» («Победа») со стороны троллейбусной остановки. В стороне кучка школьников и женщин с маленькими детьми столпилась у трехколесного велосипеда с кузовом, в котором под складным тентом-зонтом были установлены несколько аквариумов. В одном из них плавали яркие хвостатые гуппи, в другом – меченосцы и рыбы-петушки. Продавщица вылавливала маленьким сачком рыбок и продавала покупателям в небольших полиэтиленовых пакетиках, перевязывая их нитками.
Из здания «Первого универмага» к станции стекались люди, спускаясь по каменной лестнице под землю, откуда в лицо ударял теплый влажный воздух, сохранившийся в недрах метро после жарких летних дней.
У левой стены подземного коридора у маленького окошка выстроилась небольшая очередь. Я решил, что это за билетами, и пристроился к очереди. Какая-то пожилая женщина норовила пролезть вперед меня вдоль стены.
Когда я студентом стажировался в Пхеньянском университете, в окошках метро продавали продолговатые бумажные билетики с цифрой 10 на лицевой поверхности, что означало цену проезда в чонах – самых мелких денежных единицах в КНДР. Такой билетик нужно было отдать дежурной сотруднице метро в синей форме у эскалаторов. Она разрывала билет и опускала его в деревянный ящик-урну.
Помнится, в начале 80-х какие-то старшеклассники решили подшутить над молоденькой дежурной метрополитена, и когда она протянула руку за билетами, мальчишки схватили ее и с хохотом утянули с собой на спускающийся эскалатор. Смущенная девушка вырвалась и по ступеням поспешила наверх к своему посту принимать билеты у пассажиров.
На этот раз система изменилась, и когда я подошел к окошку, то увидел, что корейцы протягивали бумажные банкноты и получали взамен разменные монеты. Так я понял, что люди стояли не за билетами, а чтобы разменять деньги.
У эскалатора вместо дежурных стояли турникеты. У меня в кармане была монета на 10 чон, и я опустил ее в турникет. Загорелась большая зеленая лампочка, и я прошел внутрь к эскалатору. По уходящему вниз глубокому тоннелю рассеивался дневной свет из полупрозрачных пластиковых стенок по обеим сторонам движущейся лестницы.
На станции пассажиры столпились у табло на стене, подошел и я. Это был стенд со схемой метро из двух перекрещивающихся линий. У отметок, означающих станции, были помещены мини-фотографии зданий, учреждений, которые находятся близ этих станций в городе. Внизу этого табло были расположены кнопки, каждая из которых соответствовала отдельной станции.
Нажимаю на кнопку станции «Хвангымполь» («Золотое поле»), и на схеме высвечивается весь путь до требуемой станции, причем указываются все станции, через которые следует проехать. На указателях платформ и на их стенах указано только два названия. Станция, на которой вы находитесь, была обозначена красным цветом, а следующая станция – синим.
На платформе пассажиры осторожно осматривают меня, некоторые сидят, опустившись на корточки. В центре станции установлены стенды, на которых под стеклом вывешены свежие номера газеты «Нодон синмун» – центральной в стране. Мужчины средних лет, студенты вчитываются в мелкие газетные строки на страницах печатного органа Центрального комитета Трудовой партии Кореи.
Пхеньянское метро начали строить в 1961 году, и первая линия была запущена в 1973 году, а вторая в 1978 году.
Раздается звонок, и на платформу медленно выезжает зеленый поезд. Посадка производилась быстро, однако названия станций не объявлялись. По сравнению с началом восьмидесятых годов произошло еще одно изменение – не было столь привычной музыки, которая прежде прорывалась бодрыми маршами сквозь вой несущегося в тоннеле поезда.
Я опускаюсь на первое сидение у дверей вагона. Сиденья расположены перпендикулярно оси вагона, как в автобусах или трамваях. Двери автоматически закрываются, и поезд с негромким шумом катится в темное горло тоннеля.

Пионерский патруль
Читающих в вагоне я не приметил. Кто-то разговаривал, большая часть пассажиров была погружена в раздумье. В целом они выглядели очень просто, все в неброской одежде. Лица тоже простые, трудовые руки мужчин держали поручни. Некоторые из них украдкой поглядывали на меня, делая вид, что ничего необычного не происходит. А уже в то время иностранцы обычно не пользовались общественным транспортом – их возили на спецавтобусах и машинах. Но вообще было похоже, что корейцы к тому времени привыкли к иностранцам, и если пять лет до этого меня провожали взглядом все прохожие, шедшие мне навстречу, то теперь уже внимания на мою особу почти не обращали.
Поезд подходил к станции «Хвангымполь», на всякий случай я уточнил у пожилой женщины у дверей, та ли эта станция.
– Да, это Хвангымполь, – подтвердила она, и я вместе с другими попутчиками вышел из вагона. В нос ударил аммиачный запах нашатыря, но никто не показывал ни малейшего беспокойства, и я решил, что ничего страшного не происходит.
Меня часто спрашивали знакомые, приходилось ли мне замечать в КНДР, что за мною следили. Ответ на это достаточно простой – в слежке в прямом понимании смысла просто не было необходимости, с европейской внешностью ты и так там на виду.
В Пхеньяне, в частности на перекрестках и у пешеходных подземных переходов, можно было увидеть школьников-пионеров с блокнотиками в руках. Это пионерские патрули, которые следили за порядком. Если в их поле зрения оказывался иностранец или автомобиль с номерными знаками иностранца, то пионеры записывали, когда и кто появился у их поста и что именно делал. По таким данным можно было без труда выяснить все передвижение иностранного жителя Пхеньяна.
В 90-е годы я замечал, как на улице какие-то люди стали демонстративно фотографировать меня, что было само по себе неприятно. Однажды меня около Центрального банка КНДР сфотографировала бабушка, я подошел к ней и устроил разбирательство, позвав стоявшего недалеко военного. Корейцы стояли, как немые, и никакого результата моих попыток привлечь внимание к тому, что кто-то меня фотографирует, не было. Видимо, это было рассчитано на психологический эффект в отношении иностранца.
Кстати, с такой же практикой я столкнулся и в Токио, когда в очередной раз прибыл туда на работу в 2014 году. Какие-то люди в штатском фотографировали меня специально, чтобы я это видел, но длилось такое испытание недолго и в конце концов прекратилось. Когда японцы расспрашивали меня про КНДР, я обязательно упоминал, что и в Токио меня так же фотографировали на улице, как и в Пхеньяне. Поразительное оказалось сходство!
Приемы по случаю дней рождения вождей
Для всего дипкорпуса в КНДР 23 февраля 1988 года в 17 вечера в театре «Мансудэ» устроили концерт, а после него корейцы преподнесли сюрприз так, что все то и дело его вспоминали – VIP‑прием в особом ресторане «Моннангван» («Магнолия-холл»).
Что это и где он находится, никто не знал. Поэтому после концерта вереница машин дипкорпуса двинулась вслед за сопровождающими автомобилями корейцев. Все двигались по улице Чхоллима вверх, проехали Народный дворец культуры и свернули налево к домам, в которых расположены здания и квартиры сотрудников ЦК ТПК. Они окружены мощными железными заборами и вооруженной охраной. В глубине оказалось зеленого цвета квадратное здание без окон и дверей. Когда все вошли внутрь, увидели огромный светлый зал, отделанный пластиком цвета слоновой кости и зеркалами.
В центре зала был установлен стол с яствами, в том числе грибами сони-посот, которые в Японии известны как дорогущие «мацутакэ», а также с морепродуктами, традиционными салатами и подобием оливье с вареными макаронами. На горячее подали утиные ножки, тушеные с мандаринами, а на каждый круглый стол для гостей выставили дорогие сорта виски, коньяка и корейской водки.
Все это сильно удивило дипломатов и сотрудников загранучреждений в Пхеньяне. Затем на белой сцене открылся занавес, и оркестр электронных инструментов стал исполнять известные мелодии относительно современной в то время иностранной поп-музыки.
На сцене вдруг появился танцевальный ансамбль миловидных девушек, выступление которых представляло собой чистый кордебалет. Коронным номером было «переодевание» во время танца, когда девушки незаметно сменяли свои одеяния.
Когда концерт закончился, девушки вышли в зал приглашать на танец гостей банкета. Дипломаты, военные атташе разных стран кружились в вальсе с кореянками, разогревшись напитками.
Такие же приемы устраивались для иностранцев в Пхеньяне еще несколько раз, по случаю дней рождения Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Жены дипломатов шили специально для такого выхода в свет себе платья в ателье магазина «Пхеньян» в дипломатическом городке. Ткани выбирали там же, но каково было разочарование тех женщин, которые на приеме вдруг обнаруживали, что из таких же одинаковых тканей были сшиты одеяния и некоторых других жен дипломатов.

Цветок Кимирсения
Дни рождения Ким Ир Сена 15 апреля и Ким Чен Ира 16 февраля были возведены в ранг главных государственных праздников КНДР, наполненных большим символизмом. К примеру, по мере приближения этих дат в разных уголках страны и, разумеется, в самом Пхеньяне проводились фестивали цветов «кимирсения» и «кимченирия» (по-корейски «кимильсонхва» и «кимчжонильхва»), на которые стекались толпы паломников. Итак, что это за цветы?
«Кимирсения» представляет собой орхидею, специально выведенную в Индонезии в апреле 1965 года и подаренную Ким Ир Сену бывшим индонезийским лидером Сукарно. С тех пор эти цветы в массовых масштабах выращивают в КНДР. В 2002 году в Пхеньяне специально построили для них оранжерею площадью 450 квадратных метров. В различных районах страны функционируют около 100 подобных оранжерей.
«Кимченирия» тоже имеет иностранное происхождение, она из семейства бегониевых и была выведена японским садовником Мотодэру Камо из города Какэгава в 1988 году. По данным северокорейских СМИ, японец прислал Ким Чен Иру свой цветок с поздравлением по случаю очередного дня рождения. С тех пор алую бегонию, которой присвоили имя Ким Чен Ира, стали разводить по всей стране. «Кимченирия» достигает в высоту 30–70 сантиметров и имеет до 10–15 соцветий диаметром 20–25 сантиметров каждое.
В Центральном ботаническом саду в Пхеньяне построен специальный выставочный центр-оранжерея, в котором выращенные чиновниками и обычными гражданами цветы выстраиваются в композиции, к примеру, в виде красного силуэта всего Корейского полуострова. В стране действует даже национальный «Союз кимченирии», устраиваются научные симпозиумы о том, как лучше выращивать эти цветы.
Закрытость в обществе
Весьма широко распространено мнение о замкнутости корейцев в КНДР, но я бы сказал, что она есть не везде и не всегда. Приведу один пример. Как-то я возвращался из аэропорта Сунан в Пхеньян и на дороге увидел голосующих, явно спешащих куда-то, девушек в солдатской форме. Я остановился, они сели спешно в машину, но, увидев, что я иностранец, опешили и хотели выйти. Я сказал: «Не волнуйтесь! Куда едете?»
– Пхеньянский вокзал, – ответили солдатки, видимо, очень торопясь, и мы тронулись.
По дороге я не расспрашивал их ни о чем, чтобы не показалось, что именно для этого я их и подсадил. Они тоже не заговаривали со мной. Доехали мы быстро, прямо к вокзалу. Подъезжая, девушка на переднем сиденье оторвала из своего блокнота серый листок бумаги и что-то на нем написала. Потом вручила мне и сказала:
– Вот, это адрес моего отца в деревне. Будет время, приезжайте в гости, спасибо Вам!
Я был тронут приглашением и тем, что военный человек в КНДР не побоялся дать адрес иностранному гражданину.
Потом я не раз замечал, что чем отдаленнее от Пхеньяна места, тем более открыты и менее замкнуты там жители, они охотнее вступают в контакт. Корейцы, пожившие за границей, тоже становятся более раскованными.

Пхеньянский вокзал
В начале 90-х годов я возвращался на поезде из Пекина в Пхеньян и в одном купе ехал со студентом, который учился в Китае. Там он застал события на площади Тяньаньмэнь и сказал, что поддерживает китайских студентов.
Надо сказать, что в самой КНДР открыто не сообщалось о нашумевших на весь мир демонстрациях в Пекине, и жители северокорейской столицы с удивлением смотрели на шествие обучавшихся в Пхеньяне китайских студентов, которые пришли к посольству КНР с плакатами в поддержку сверстников на родине и с требованиями политической свободы.
«Вечер дружбы»
Всех советских корреспондентов в Пхеньяне 6 января 1988 года пригласили в ресторан гостиницы «Тэдонган». В гостевой комнате, пока готовили трапезу, всех принял начальник департамента информации МИД КНДР Ан Хиджон. Это был высокий средних лет человек, худощавый, с вытянутым лицом и сильно прищуренными глазами. Пожимая каждому руку, он произносил какие-то замечания и протяжно смеялся: «А‑ха-ха-ха!» Этот смех он пускал в ход при каждом удобном случае.
Зал, в котором был накрыт стол, казался небольшим, но уютным, располагающим к общению. Наклеенные обои на стенах образовали орнамент – пейзаж из русских тонких берез. У одной из стен была разложена гармошка ширмы с изображением цветов, бутонов в традиционном корейском стиле.
Разговор клеился не сразу. Поэтому начались тосты за руководителей двух стран, потом за здоровье всех присутствующих и лично товарища Ан Хиджона.
На столе были накрыты яства: креветки в кляре, курица фаршированная, кимчхи, салат из листовой капусты с кусочками ошпаренного мяса с уксусом, жареные полоски мяса «пулькоги», пиво, водка «Пхеньян-суль».
Закончив с тостами и закусив, товарищ Ан перешел к делу.
«Сегодня разворачиваются события так, что обстановка в Корее складывается сложной. Мы благодарны советскому народу за оказанную поддержку делу объединения Кореи. Мы просим сильнее требовать вывода американских войск с юга полуострова, а мы в свою очередь будем усиливать поддержку вывода советских войск из Афганистана», – сказал Ан.
Далее он обратился к теме выборов в Южной Корее, на которых тогда победил Ро Дэ У (правильнее произносить «Но Тхэу»).
– У вас пишут, что это произошло из-за раскола оппозиции. Наверно, не стоит об этом так много писать. Ро Дэ У победил из-за махинаций марионеточного правительства, – поучал корейский чиновник.
– Сейчас близится олимпиада (в Сеуле 1988 года). Если вы поедете на юг, не надо писать материалы, которые показывают Южную Корею с положительной стороны. Всякий раз, написав статью, подумайте, не нанесёт ли она вред объединению в Корее, – говорил Ан Хиджон.
Все его выступление было связано с появлением – кстати, в «Комсомольской правде» и «Известиях» – публикаций о том, что не принято было прежде обсуждать в отношении КНДР. Политику «гласности» в Пхеньяне не понимали и не принимали.
Вечер дружбы завершился традиционными тостами за дружбу и здоровье руководителей двух стран и всех присутствовавших.

Снег
Корейцы вообще крайне ревностно следили за тем, что пишут о них иностранцы и особенно из СССР. Приведу пример: в первые дни нового 1988 года выпал снег в Пхеньяне. В течение нескольких часов на землю падали крупные белые хлопья снега. Мгновенно все дороги занесло, крыши машин чуть ли ни прогибались под его тяжестью. На улицы и площади Пхеньяна вышли люди, в основном женщины, дети, старухи и старики. Вооружившись лопатами, ломиками, они объявили войну снегу и гололеду.
У пхеньянского родильного дома (Дворец матери и ребёнка «Санвон») снег расчищал медицинский персонал прямо в белых халатах.
Мне показалось это интересным, и я написал краткую новость – зарисовку о том, как быстро в Пхеньяне жители города справились со снегом.
Сотрудник МИД КНДР на состоявшейся в скором времени беседе задал мне вопрос: «Что вы хотели сказать этой статьей?»
Не поняв смысла вопроса, я уточнил, в чем была проблема. Чиновник просверлил меня прищуренными глазами и сказал: «У вас в стране снег убирают машины, а у нас люди с лопатами. Вы хотели подчеркнуть, что наша страна бедная».
Все мои попытки разубедить его оказались бесполезными.
Надо сказать, что не только для КНДР характерны такие попытки влиять на журналистов из других стран. С тем же я столкнулся, например, в Японии, когда при ограничениях во время пандемии COVID‑19 я написал репортаж об изменениях в работе японских храмов. Как стало известно, сотрудник посольства Японии в Москве написал жалобу моему руководству о том, что хотя все написано верно, но представляет Японию «в слишком мрачном свете». Хотя и в КНДР, и в Японии к такому сравнению отнеслись бы весьма негативно, оно явно напрашивается в такой ситуации.
Да и в Южной Корее, когда я едва успел вступить на ее землю, разные официальные лица говорили: «Пишите хорошие статьи о нашей стране!»
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе