Не плохо иногда почитать подобные вещи. Как бальзам на душу. Напомнило Архимандрит Тихон (Шевкунов) - «Несвятые святые» и другие рассказы . Как же приятно читать. Здесь движухи не так много. Автор делится своими впечатлениями от посещения Валаамской обители, куда он с молодой женой поехал в свадебное путешествие. Шикарное место, где нет суеты, где жизнь размеренна. Здесь совсем другой образ жизни. А какое описание природы, а диалоги с людьми, живущими в обители? Это чтение - для души, для умиротворения. Конечно, для чтения нужен определенный настрой. Но читать обязательно надо. Своего рода очищение, что ли...
За это время многое переменилось и во мне, и вне. Россия, православная Россия – где, какая?! Да и весь мир переменился. Вспомнишь… а Троице-Сергиевская лавра, а Оптина Пустынь? а Саров, а Соловки?! Валаам остался, уцелел. Все тот же? Говорят, все тот же. Слава Богу. Ну, конечно, кое в чем переменился – время, новая судьба.
Да и весь мир переменился, - какая знакомая фраза, вам не кажется? Когда она была написана, шел слом устоявшегося уклада, жестокий, глубокий и беспощадный. Сколько таких сломов было после, как же они ускорились! И действительно хочется вспомнить о чем-то светлом и одухотворенном.... Почему я так депрессивно и ностальгически реагирую? "Старый Валаам" настраивает на такой лад.
 Красивые места, необычные по современным меркам люди, очень простые и без изысков. Это не означает, что они наивны или глупы, нет, но они сумели найти определенное просветление, отрешиться от чрезмерной мирской суеты, понять иной подход к жизни и ее ценностям. Это все Валаам. В крепости живут, но уповают лишь на крепость духа - это тоже Валаам. Сказать что бездельничают - так тоже не повернется язык, автор тщательно описывает их суровый быт и неоднократно подчеркивает невероятное трудолюбие, "не для себя, для Бога". Именно с таким посылом строят они дома, проводят водопровод, сажают на камнях сады, выращивая ягоды и фрукты. Именно с ним печется хлеб, готовятся витражи, расписываются стены, иконы, да много чего еще...
Красивые места, необычные по современным меркам люди, очень простые и без изысков. Это не означает, что они наивны или глупы, нет, но они сумели найти определенное просветление, отрешиться от чрезмерной мирской суеты, понять иной подход к жизни и ее ценностям. Это все Валаам. В крепости живут, но уповают лишь на крепость духа - это тоже Валаам. Сказать что бездельничают - так тоже не повернется язык, автор тщательно описывает их суровый быт и неоднократно подчеркивает невероятное трудолюбие, "не для себя, для Бога". Именно с таким посылом строят они дома, проводят водопровод, сажают на камнях сады, выращивая ягоды и фрукты. Именно с ним печется хлеб, готовятся витражи, расписываются стены, иконы, да много чего еще...
 И немного наивный, немного кичащийся своими университетскими знаниями студент со столь же юной супругой серьезно проникаются не только эстетикой Валаама, за которой они скорее всего и ехали, но и его философией, его душой.
Меня бы, наверное, эта книга впечатлила бы гораздо больше, ведь она дарит поистине прекрасные ощущения, но случилась в моей жизни Сергей Дурылин - Тихие яблони (сборник) , которая настроением очень похожа, но зацепила давно и гораздо глубже.
Тем не менее "Старый Валаам" достоин большего, его нужно читать, пытаться узнать философию простого праведного счастья в окружении суровой и прекрасной стихии, погружаться в быт и чувствовать душой происходившее тогда, столетие назад...
И немного наивный, немного кичащийся своими университетскими знаниями студент со столь же юной супругой серьезно проникаются не только эстетикой Валаама, за которой они скорее всего и ехали, но и его философией, его душой.
Меня бы, наверное, эта книга впечатлила бы гораздо больше, ведь она дарит поистине прекрасные ощущения, но случилась в моей жизни Сергей Дурылин - Тихие яблони (сборник) , которая настроением очень похожа, но зацепила давно и гораздо глубже.
Тем не менее "Старый Валаам" достоин большего, его нужно читать, пытаться узнать философию простого праведного счастья в окружении суровой и прекрасной стихии, погружаться в быт и чувствовать душой происходившее тогда, столетие назад...
Действительно, эта книга из тех, которые светятся и дают вчитываться, никуда не гонят и ничему не препятствуют. Не будучи художественной по жанру, она художественная по чистоте и красоте момента жизни. Написана очевидцем — и не монахом, а студентом, тогда не слишком верующим, пытающимся все объяснить с точки зрения науки и хранящим светские предубеждения (монахи — лентяи?!). Этой книгой И. Шмелев вспоминает сорокалетней давности поездку на Валаам (ездил с женой просто так, «ни за чем») и, как будто удивляясь, нет-нет да и сравнивает: чего не понимал тогда, чего так и не понял за всю жизнь, а в чем утвердился. Рассказал о неземной жизни на земле так, что нет сил быстро закрыть книгу. Не отпускает, осмысливается. Особенно мне думается об «отсеянных» и «неотсеянных»:
Люди здесь не обычные, как везде: здесь подбираются «по духу», — кто-то нам говорил», — как «сквозь решето отсеяны». Люди меняться могут! Что-то есть в людях разного... В деревне, откуда был родом Дамаскин, славный игумен Валаама, были другие мальчики, но они не пошли искать, а вот Дамиан пошел, — «сквозь решето отсеялся». Значит, есть что-то в человеке, что тянется к святому, ищет. Особенное... душа? — то, что не умирает, как верят эти отшельники...
И мне эта мысль не дает покоя, восхищает, как Бог дает человеку такое предназначение и особое Свое благоволение, и как человек вдруг обнаруживает его в себе. Мирскому жителю кажется, что такой человек истязает себя зря, умерщвляет плоть во имя химеры, что он просто-напросто глуп. Но может ли ответить мирской житель, почему даже тело Божьего подвижника после смерти остается нетленным? Не то ли особое здесь, что церковь называет «наградой на небесах», не знак ли вечности верной Богу души?
Шмелеву, однако, и вот что было заметно:
Этот был обыкновенный, до мира жадный, с живыми, даже горячими глазами, — «неотсеянный»: так и останется «в решете».
Еще в этой книге видна полная бессмысленность агрессии: звери на острове непуганые, а в хозяйстве нет даже кнута, чтобы стегать лошадей. Лошадь — она слово понимает, а с молитвой доброе дело легче пойдет, зло в помощь ему — не требуется. Книга меня так захватила (охватила даже), наверное, еще и благодаря синхронности. В том смысле, что если какое-то новое знание или чувство появились сегодня и оставили след, то в самое ближайшее время они непременно напомнят о себе вновь — из других источников, и появятся уже узнаваемыми, отзывающимися в душе. «Старый Валаам» оказался прочтенным мной после «Несвятых святых» и фильмов о монастырях, после богослужений и дальней поездки через леса, и от этого отзывается еще мощнее, в тон. Все слова из песнопений, которые цитирует Шмелев, я знаю, читаешь — и сердце бьется чаще. Раньше была уверена, что если уж ехать куда-то, — то в Грецию, в Париж, да мало ли куда... А сейчас — не смейтесь — стало позарез необходимо увидеть Валаам, пусть и не именно тот, старый, шмелевского времени (тот был разрушен в ХХ веке), но все же Валаам. Может, когда-нибудь удастся. Хочу присоединиться к призыву Inok (которому я очень благодарна), автора первой рецензии: прочитайте «Старый Валаам»! Свет тихий льется.
Пораженный, я думаю: здесь ни «борьбы», ни «труда и капитала», ни «прибавочной ценности», одна «ценность» – во имя Божие. Во имя, – какая это сила! Т а м – во имя... чего? Узнал у вас самое важное, самое глубокое... понял, как вкушают хлеб насущный... и что такое... вкушать!
Книга проста, как ломоть хлеба на обеденном столе. И в тоже время в ней столько всего. Ведь в краюхе хлеба тоже собрались: лучики солнца, шум дождя, шелест колосьев, труд хлебороба, пекаря. Оо, можно долго перечислять. Но зачем, ведь это и так всем известно. То же и здесь. Книга о вере. О том, как нужна она каждому из нас. Как важно иметь веру в сердце, не показную, не для красного словца, а настоящую.
Вера горами движет. В отсечении воли мы, и что возвещено нам – исполняем, ежели даже и не разумеем, а по вере все нам дано есть!
Это книга воспоминаний. Ностальгия о месте, где молодой студент Иван Шмелёв переосмыслил жизнь свою, сам того не сознавая.
Жизнь здесь какая-то иная, чем там, в миру. Зло как бы отступило, притупилось. И зло, и страх. Зверь не боится человека, и человек тут тоже другим становится.
После Валаама и Иван стал другим. Там, в святом месте он узнал и прочувствовал, что такое вера. Это было впечатление на всю жизнь.
Светлая, благостная история. Здесь вера сочится из каждой страницы не агитацией, а умиротворением. Во имя. Во имя Божие.
Об этой книге узнала при посещении Валаама в августе этого года. Книга представляет собой очерки, составленные по воспоминаниям Ивана Шмелева, приехавшего на Валлам в свадебное путешествие. Вот так, неожиданно, не в паломническую поездку, а как турист. И здесь практически не будет описания служб (разве лишь вскользь), здесь больше о людях, природе, да и о самом монастыре. Конечно, слушая (книгу я слушала), невольно предаешься сравнениям и представляешь, где находится пристань, старый фруктовый сад, Спасо-Преображенский собор, Никольский скит, вспоминается трапеза и старое кладбище...

Очень тронул рассказ об отце Николае, которого на Валаам... выслали. Выслали за пьянство. И вот уже давно миновал назначенный срок "исправления", отец Николай ждёт бумагу, встречает каждый пароход, но, увы, про него забыли. А в это время его матушка-попадья с детьми очень нуждаются материально, а приход его занят... Но священник настолько законопослушный, что не может без разрешения покинуть обитель и вернуться домой. В самом конце автор говорит, что так и не получил он заветного разрешения и остался на Валааме насовсем. Отдельно рассказывается и о главном игумене-строителе монастыря Дамаскине. Суров был, но как говорит автор, именно таких и выбирает Бог.
Уверена, эту книгу надо читать всем посетившим Валаам. Именно после.
Отдельное удовольствие - язык. Красивый, правильный, элегический. Слушать было очень приятно. Я слушала в исполнении Георгия Корольчука. Время около 5 часов. Запись была осуществлена для радио "Град Петров" и сопровождается колокольным звоном и песнопениями, что усилило впечатление.
Про Ивана Шмелёва впервые услышала я много лет назад, ещё на университетской скамье, от преподавателя психологии. Он настоятельно советовал нам прочесть "Лето Господне", постоянно приводил отрывки из этого произведения, но разве станешь читать такие книги, когда тебе 19 лет, вокруг столько всего интересного, а сам ты - "в поле ветер, в попе дым"? Но книги, которые должны быть прочтены, всё равно находят своих читателей, пусть для этого им и приходится ждать много лет. Так, спустя четверть века, "доросла" я и до Шмелёва. Увидев, что его повесть есть в списке книг по Карелии (в рамках проекта "Читаем Россию"), на другие произведения я уже и не смотрела. "Старый Валаам" - это небольшой очерк о путешествии автора, двадцатилетнего юноши, в эти земли. Поездка эта состоялась в 1895 году, и инициатором её стала молодая жена автора, Ольга. По этому поводу Иван Сергеевич писал:
И вот мы решили отправиться в свадебное путешествие. Но – куда?… Петербург? …Ладога, Валаамский монастырь?.. туда поехать? От Церкви я уже шатнулся, был если не безбожник, то никакой. Я с увлечением читал Бокля, Дарвина, Сеченова, Летурно… Я питал ненасытную жажду «знать»… это знание уводило меня от самого важного знания – от источника Знания, от Церкви. И вот в каком-то полубезбожном настроении, да еще в радостном путешествии, в свадебном путешествии, меня потянуло… к монастырям!
После этой поездки молодой Шмелёв написал свою первую книгу «На скалах Валаама. За гранью мира. Путевые очерки». Но она была запрещена Синодом. После того, как тираж издания, обезображенного цензурой, был за копейки продан букинисту, Шмелёв долго ничего не писал. "Старый Валаам" увидел свет в Париже в 1935 году. Итак, это очерк, путевые заметки. После прибытия на Валаам автор с супругой селится в маленькой келье местной гостиницы при монастыре. Всё здесь удивляет: и то, что плата не предусмотрена (ни за постой, ни за трапезу: "как силы будет, так и дают, кто может, по достатку"), и то, что стук в дверь заменяет строка молитвы (нужно ответить "аминь", тогда войдут: "на возглас приходящего поаминить надо, без аминя у нас не входят".) Чем же потчуют здесь гостей? А вот, пожалуйста:
В мисочках щи с грибами, с лавром и перчиком, каша с конопляным маслом, винегрет, посыпанный семечками тмина и укропом; стопа душистого хлеба валаамского, ломтями – черный хлеб монастырский в славе, а «валаамский» – «в преславности»; пузатый графин темно-малинового квасу.
Пожалуй, только Шмелёв мог так писать о пище, что не только представляешь её, но даже словно и запах чувствуешь. Быстро пролетело время, что автор с супругой планировали провести на Валааме, вот уже пора отправляться в обратный путь. Но часто в течение всей своей жизни, как пишет Шмелёв, вспоминал он и местных монахов, и невыразимо прекрасную северную природу, и особый дух спокойствия и благости, что царил там. Тихое, светлое произведение для медленного вдумчивого чтения...
Эту книгу я прослушал в аудиоформате. Я несколько дней пытался скачать ее с торрентов, но не получалось: видимо единственный ее обладатель упорно не хотел включать компьютер. Тогда я начал искать ее в других источниках и нашел на одном из православных сайтах. Книга звучала на радио "Град Петров" в исполнении Георгия Корольчука. И как звучала!!! Проникновенная, душевная речь со вставками из колокольного звона и песнопений мужского хора. Я слушал и наслаждался всеми фибрами души и сюжетом , и исполнением. В этой книге автор, уже в зрелом возрасте, находящийся в изгнании, вспоминает о своем свадебном путешествии на Валаам. "Странное место для свадебного путешествия и медового месяца",- можете сказать вы. Я так тоже подумал, когда начинал слушать. А теперь думаю , если бы все свадебные путешествия проходили по таким местам, то и разводов, видимо, было бы намного меньше. Я не буду пересказывать сюжет. Отмечу лишь восторг и восхищение автора и постоянно возникающий вопрос: "Ну вот же он, образец идеального существования человеческого общества! Почему же не везде и всегда так оно устроено?" И действительно, сложный вопрос, на который , правда, и сам автор отчасти отвечает - ведь чтобы попасть туда, люди проходят через определенное сито, и попадают туда и остаются люди с чистой душой и незапятнанной совестью. Может это и есть рецепт идеального сосуществования и общества? А?
Пахнет щепой еловой, смолой, водой и… ладаном? Валаамом пахнет. Это запах вечерней свежести, сетей смоленых и – святости? – запах Валаама, обители «за гранью мира» – называл я так – впитался в память, и доселе слышу. И.С.Шмелёв
Вот он, старый Валаам, на старых фото

 Кто был на Валааме, тот помнит его запах. Он пахнет, да. А кто не посещал святого места, тому в помощь да будет эта книга, читая которую, отдыхаешь душой, словно возвращаешься на Валаам.
Шмелев известен своей нелегкой судьбой русского эмигранта и православного писателя. Именно в данном очерке он описывает, как тронуло его сердце благодать Божия во время посещения монастыря и прикосновения к его святыням. Знакомство с подвижниками благочестия, разговоры с простыми монахами из народа, "прозрение" и "вразумление" в общении с ними многое изменило в душе еще молодого студента. Только через сорок лет, в свои шестьдесят, писатель вернулся воспоминаниями в тот многозначительный для него момент пребывания на Валааме и поделился этим событием в своем очерке, подробно описывающей не только Валаам времен молодости Шмелева, но и затрагивая историю святой обители.
А вот и сегодняшний Валаам
Кто был на Валааме, тот помнит его запах. Он пахнет, да. А кто не посещал святого места, тому в помощь да будет эта книга, читая которую, отдыхаешь душой, словно возвращаешься на Валаам.
Шмелев известен своей нелегкой судьбой русского эмигранта и православного писателя. Именно в данном очерке он описывает, как тронуло его сердце благодать Божия во время посещения монастыря и прикосновения к его святыням. Знакомство с подвижниками благочестия, разговоры с простыми монахами из народа, "прозрение" и "вразумление" в общении с ними многое изменило в душе еще молодого студента. Только через сорок лет, в свои шестьдесят, писатель вернулся воспоминаниями в тот многозначительный для него момент пребывания на Валааме и поделился этим событием в своем очерке, подробно описывающей не только Валаам времен молодости Шмелева, но и затрагивая историю святой обители.
А вот и сегодняшний Валаам
 Обязательно побывайте на этом дивном Божьем острове! Чтобы навсегда запомнить его запах!
Обязательно побывайте на этом дивном Божьем острове! Чтобы навсегда запомнить его запах!
Читая - отдыхал. Душой дышал.
Очень личная книга, путешествие вглубь. Иван Сергеевич был человеком непростой судьбы - человеком тонким, чувствительным, не побоюсь этого слова, - нежным. Его светлые страницы - цветок, распустившийся в душе, относиться к которому надо либо бережно, либо - никак. Воротить нос от излишней гладкости, "сусальности", раздраженно махать рукой на "идеализированное" замоскворечье Шмелевского текста значит топтаться по чудным цветам. Можно ли?
Юный Иван с супругой Ольгой едут в качестве первого совместного путешествия... на холодные Валаамские острова. Там они ходят по лесу, посещают скиты, любуются храмами, общаются с монахами, кушают постное и наблюдают за журавлями. Вот и вся книга. Но как много таится за этими простыми событиями! Кто знает, какие духовные конструкции заложены в душе Шмелева на каменистой тверди Валаама? Ничто никуда не исчезает. Десять лет шла Валаамская весточка - десять лет тянулась по небу косяком журавлей, чтобы найти адресата, оказавшегося на распутье. Дивны пути Твои, Господи. Нити жизни переплетаются и вьются, стягивая между собой прошлое и будущее, сливая воедино. Кто знает, где был бы Иван Сергеевич и знали бы мы его сейчас, если бы не та удивительная поездка?
Это что касается личной - промыслительной - части книги. Если же говорить о части описательной, то "Старый Валаам" создает ощущение паломничества - изобразительной экспрессией ("тряпками носятся вороны в ветре"!) достигается эффект присутствия, погружения. Красивый, мудрый рассказ из самых глубин, из тайников сердца.
...живые нити протянулись от "ныне" - к прошлому, и это прошлое мне светит. В этом свете - тот Валаам, далекий.
Вот оно, чудо творчества - Валаам светит не только автору, но и нам, читателям. Значит, не зря кричали те журавли, не зря. И нам кричат - издалека. Слышим ли?
"Какая осенняя книга!" - подумала я, дочитав последние строки. Живописная, пронзительно грустная, с запахом дождя и мокрой листвы. Книга - воспоминание об ушедшей молодости, тоска по покинутой Родине. В нескольких местах хотелось плакать, так хорошо автор передает свои чувства.
Автобиографический очерк "Старый Валаам" Шмелев написал в 1935 году в Париже, где он жил после эмиграции из Советского Союза. Книга основана на воспоминаниях Ивана Сергеевича о его поездке с женой на остров Валаам, которая случилась после их свадьбы. Он тогда был студентом, много читал учебников, научных брошюр и философских трудов, думал, что все в жизни понял и постиг. Поездка далеко не сразу переменила его взгляды, кое-что он понял лишь спустя много лет.
В очерке подробно рассказывается об укладе жизни в дореволюционном монастыре. Приведены жизнеописания святых, связанных с Валаамом.
Начислим
+4
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе


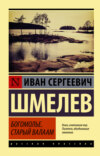

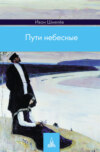


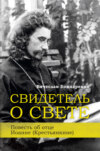

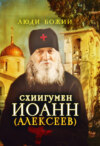
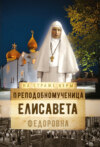
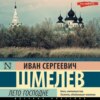

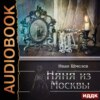
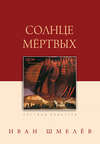
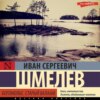


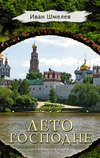
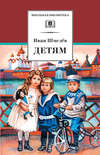
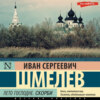
Отзывы на книгу «Старый Валаам», страница 2, 37 отзывов