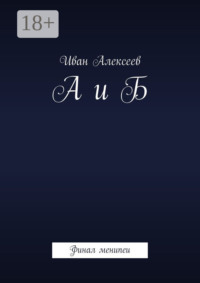Читать книгу: «А и Б. Финал менипеи», страница 3
Ириному дружку тоже будет, что мне напомнить: о наших с женой поездках по лесам, речкам и родникам, за ягодами-грибами и просто так, отдохнуть от города.
Третьяков увезёт меня вместе с Ириной жарким летом из города, чтобы поплавать в лесном карьере и показать любимые роднички.
На спокойном шоссе с плавными поворотами мы будем смотреть на ленту асфальта перед собой, на тёмные еловые леса и березовые заросли по обочинам, слушать ровный шум двигателя и шуршание шин. Шоссе выведет нас на поле и к богатой деревне с коттеджами вдоль узкой извилистой реки. Проехав мост, мы поднимемся на сосновый пригорок и свернём на грунтовую аллею, пересекающую поля. Затем дорога заведёт в перелесок, пересечёт ручей и поднимется по косогору на широкое поле, за которым откроется расположенная у запруженного ручья деревня в одну улицу, только несколько домов в которой кричаще кичатся размерами и этажами. А впереди, за березовым подлеском, позовёт к себе светлый сосновый лес с покачивающимися на ветру красно-жёлтыми стволами деревьев.
Дорога в лесу пойдет длинными слегка укачивающими волнами. Дима расскажет нам, куда ведут отвороты налево и направо, про проданные частникам пионерские лагеря, про сколоченные из досок городки играющих в историю реконструкторов, про забор вокруг одинокого коттеджа на берегу лесной реки, про грибы и ягоды, которые здесь собирают. Мы будем ехать и ехать по этому лесу и этим волнам, несущим безмятежный покой и радость жизни, и согласно кивнём на Димин вопрос: «Правда ведь, лес лечит?»
Мы проедем отворот на родник, отворот к речным лугам со сладкой клубникой-белобочкой, отворот к деревне, отворот на древнее лесное кладбище, выедем на гравийную дорогу, с неё на асфальт, переедем речку по мосту и станем возвращаться другим берегом и просёлком, с одной стороны которого будет лес, а с другой, внизу, речка. Обратный путь более прямой, короткий и менее живописный. Все отвороты будут к реке, к машинам на берегу и вьющимся кое-где дымкам из мангалов. Дима, перекупавшийся во всех близлежащих речках и озерах, объехавший на велосипеде все пригородные рощи, а на машине забиравшийся в такие дебри, что даже со своей осторожной ездой на отечественном внедорожнике два раза ходил искать трактор, – скажет, что речка, вдоль которой мы едем, красива лесами и лугами, а купаться в ней летом скучно – воды по колено.
Проехав уже знакомую деревню с коттеджами, мы свернём к недалекой сосновой роще, за которой окажется песчаный карьер размером не больше двухсот метров, с двумя заводями, заросшими камышом, и высоким обрывистым берегом со стороны рощи. Обогнув высокий берег с редкими соснами, между которыми будут тесниться машины и виться дымки, доносящие запах сгоревшего мяса, мы проедем к противоположным нижнему берегу, заросшему кустами. За кустами будет большой песочный пляж, на котором всегда найдётся никем не занятое место.
На отмелях на середине небольшого и неглубокого озера две девчонки будут бесстыже целоваться, обняв руками и ногами похожих друг на друга бритых мужиков, а у пляжа шумная компания разгорячённых пивом великовозрастных детей – драться понарошку за надувной матрас. Ирина поплавает у берега в сторонке, выглядывая, как солнце присаживается на макушки сосен, а высокий берег отбрасывает тень на воду, в которой сначала потеряется и из которой выплывет вместе с утками её кавалер.
На большом покрывале, разложенном у самой воды, мы увидим двух женщин, маленькую мохнатую собачку и больного на голову мальчика лет восемнадцати с вывернутой правой рукой. Раз в минуту он будет громко называть себя резким лающим голосом: «Паша видит!», «Паше жарко!», «Паша купаться!» – и протягивать маме маску с трубкой. Ирина ровесница, с хорошей фигурой, приятным лицом и мягким взглядом, она будет ласково поглаживать сына, тихо уговаривая его, почти напевая, и смотреть в одну далёкую точку за озеро. Молча сидящая на покрывале молодка отвернётся от них, показав нам пустые глаза и вывернутую, как у мальчика, правую руку. Вслед за ней и собачка, терпеливо лежащая на покрывале с вытянутыми передними лапками, повернёт в нашу сторону мордашку с умными преданными глазками, словно просящими ничему не удивляться и принимать всё таким, как оно есть.
На следующий день мы поедем на источники.
Первый из них, самый простой и близкий, – в овраге, в сосновом лесу, который мы проезжали накануне. Вода вытекает из-под корней многовековых сосен, держащих края ямы. Тонкие ручейки бегут с разных сторон по её дну, собираясь у небольшой каменной запруды, из которой по желобу водичка выливается водопадом на ровную площадку, устроенную для питья и набора воды в посуду, и утекает вниз по заросшей травой и крапивой земле в сторону речки. Вода хороша на вкус, ломит зубы. Овраг метров двадцати шириной, глубиной в три-четыре человеческих роста. На дно ведёт тропинка со ступеньками, образованными корнями деревьев. Из обязательных святынь здесь крест с крышей домиком, вкопанный между двух ручейков в тени самой древней сосны. Сосны-хранительницы снизу, из оврага, кажутся сказочными великанами, достающими до неба. Заросшая травой темная часть оврага с крестом тоже как из сказки. Склоны оврага, ручейки, солнечные лучики, пробивающиеся сквозь кроны деревьев, трава, тропинка, поднимающаяся в сухой теплый лес, – завораживающая панорама словно замедляет время. Полная идиллия сопричастия и проникновения в еле слышное гулкое волнение леса, – если бы не настырные комары над водой.
Ориентир для поворота к второму источнику – деревня с трёхглавой белой церковью и пристроенной колокольней, синяя глава которой из луковицы в нижней части переходит в устремленную в небо пирамиду в верхней. Наезженный проселок ведёт мимо деревни в тёмный еловый лес. В лесу утоптанная многими ногами влажная дорожка, вдоль которой как часовые стоят высоченные необхватные ели. Перед спуском к источнику, на широкой полянке, закрытой деревьями от солнечного света, стоят резные беседки с лавками и дубовым столом. На орешнике и берёзе за ними сотни разноцветных тряпочек, привязанных суеверными людьми, а чуть дальше капитальная деревянная лестница с удобными перилами и широкими ступеньками ведёт вниз, к бревенчатому домику с купальней. Над входом в домик висит иконка, внутри, над чашей с водой – ещё одна. На полочке под иконкой потухшая свечка и несколько кривых огарков.
От второго источника до третьего полчаса езды через райцентр, железнодорожный переезд, красивый мост через красивую узкую Волгу с непривычно высокими зелёными берегами и белыми валунами у воды и в воде. Путь с многими поворотами, надёжно сбивающими ориентацию по сторонам света. Обжитой, с несколькими постройками источник располагается не в лесу, а в речной низине между полей. Вокруг спускающегося к речке луга с подстриженной травой и разбитыми цветочными клумбами, между купальнями, часовнями, молельным домиком, мостиком через речку и полянкой для пикника с мангалами и крытыми верандами проложены дорожки и деревянные мостки над болотистыми местами. По дорожкам и мосткам парами и группами ходят люди. Сверху в луг уткнулись десяток легковушек и два заказных автобуса. Перед часовней две предприимчивые женщины в белых платках собирают пожертвования на строительство храма и заодно торгуют пятилитровыми пластиковыми бутылками – пустыми и наполненными освящённой водой из родника, все по одной цене и дороже, чем в магазине. Одинокая бедная берёзка на задах часовни как разукрашенная ёлка – в ленточках и тряпочках, шевелящихся на ветру. Купальни для мужчин и женщин отдельно. От сараев их отличают небольшие окошки по обе стороны от двойной двери, открывающейся половинками налево и направо. За купальнями мостки к роднику в сторону большой часовни и, далее, к роднику у реки, который скрыт в домике с тремя оконными проёмами без стекол. Через мостик, за заболоченной и закрытой кустами лозняка шустрой речушкой, возле малой почерневшей часовни, самый дальний родничок. Две худосочные берёзки перед мостиком и за ним повязаны разноцветными тряпочками не с ног до головы, а только там, где доставала рука.
Накатавшись по родникам, мы вернёмся готовить шашлыки в близкий к городу светлый сосновый лес. Повернув от одиноко затаившегося в лесу коттеджа, мы выедем на высокий речной берег с песчаным обрывом. На берегу сухо, редко растут корабельные сосны, рассмотреть макушки которых можно, только задрав голову. Сосны покачиваются от верхового ветра, и это качание чувствуется спиной, если встать на краю обрыва. Там замирает дух от высоты, и нужно удерживать себя от желания побежать-покатиться по отвесному песчаному склону, врезающемуся в реку. На сухих полянках с бодрым вереском и грустными черничными и брусничными кустиками, ягоды на которых горят от жары, и ниже по течению, в скрытой высоким берегом от ветра зелёной низине, – места для палаток, вкопанные в землю бревенчатые столы и лавки около чёрных кострищ. Ветер и возможное соседство других шашлычников заставят нас проехать в другое, более интимное место.
Вернувшись к коттеджу, проехав ручей за ним и не доехав до оврага с родником, мы свернём в сосновое редколесье и окажемся на редко посещаемой поляне на высоком берегу. Там мы устроим костёр, а когда огонь развалит выстроенный в мангале домик, языки пламени перестанут взлетать вверх, и надо будет дать время на обугливание поленьев, прогуляемся по тропе, идущей над старицей. За ней, за заросшим крапивой и кривыми низкорослыми деревьями берегом будет призывно шуметь невидная речка. Мы спустимся к старице, перейдём её по бобровой плотине, осторожно, чтобы не обжечься, минуем заросли крапивы, пройдём лозняк, тальник и выйдем к ивам, берёзам, осинкам, одинокой яблоне, усыпанной зелёными плодами, и намытому быстрой речушкой узкой песчаной косе. С нашего низкого берега, укрытого кустами и деревьями, высокий противоположный, с красным сосновым лесом на утёсе и шикарным песочным обрывом, – будет как на ладони. Река тут делает резкий поворот, и если решить, что в кустах напротив нет подглядывающих глаз, случайно оказавшейся под обрывом беззаботной парочке легко представить себя здесь Адамом и Евой в раю. В один из жарких майских деньков я там видел таких счастливчиков. Молодая женщина, шумно поплескавшись в холодной воде, неспешно выходила на берег к своему мужчине, который терпеливо ждал её с полотенцем. Голая женщина, её кавалер в семейных трусах, белые тела с капельками воды в солнечном свете, смех и голоса, радость жизни, видная на расстоянии любовь одних на целом свете людей, – они несли в наш мир настолько сильную и интимную красоту, что понимать его созданным не для жизни в радости и любви было невозможно».
4
Наново пересказав некоторые идеи из первой книжки сочинений, под стук сердца, разгорячённого воспоминаниями и взглядом в будущее, Алексеев увидел в своих текстах три смысловых ряда.
Первый из них, отталкивавшийся от философии гуманизма и призывов становиться человеками, потерял для него былую привлекательность, оказавшись перепевом истин, к которым никогда не хотели и не хотят прислушиваться люди. Фон его собственных жизненных неурядиц и свершений если и помогал организовать новую аранжировку старой песни, не делал её лучше других, известных и безвестных, появляющихся и растворяющихся в водовороте времени.
Вторые смыслы порождали психологические перипетии жизненных устремлений его героев с их изначальными внутренними конфликтами, усиленные агрессивным внешним давлением сбивающего с толку информационного мусора. То, что Алексеев, в отличие от расплодившихся ремесленников от литературы, вкладывал в героев пережитое и прочувствованное навзрыд, не сильно отдаляло его от ремесла, поскольку его личное снова оказывалось лишь аранжировкой изъезженных вдоль и поперёк сюжетных линий и ходов, все из которых давно известны и отражены с любой степенью психологической достоверности. Как бы ему ни нравились, как бы ни любил он своих героев, с большой вероятностью он любил в них себя.
Изюминкой, которой Алексеев мог гордиться, получался третий смысловой ряд, растворённый в наблюдениях за живой природой, – то, что он оформлял текстом проще и быстрее всего, без особого усердия, и полагал теми пустяками, которые Белкин называл отступлениями от темы, помогающими связать разбегающиеся мысли повествователя. Белкину они нужны были для соединения вымученных подсказок при выборе прямого жизненного пути. Но не только. Илья Ильич, слушая своё взволнованное наблюдениями сердце, признавал существование надмирного наблюдателя, способного за верно подсмотренные Белкиным будто бы пустяки наполнить сердце восторгом и творческим удовлетворением. Если поверить Белкину, – а не верить своему альтер эго у Алексеева оснований не было, – все эти мелочи, детали и пустяки, ничего не стоящие отдельно друг от друга, сами по себе, – образовывали вместе скрытый смысловой ряд обострённой ранимости чувств, беззащитной открытости, душевной боли, прикосновений к тайне жизни и смерти, который наилучшим образом раскрывал неброскую красоту и манящий свет жизни.
Переводя сказанное на научный язык, от которого нашему герою трудно было отделаться, первый ряд ставил его литературные изыскания на обоснованные классические постулаты, второй давал достоверные литературные результаты, а третий привносил элементы новизны, определяющие ценность любого творчества.
То есть затея переворошить тот творческий мусор, из которого появлялись волнующие Алексеевское сердце изюминки, получалась не пустой и потенциально полезной. Больше того, если ему интересно припомнить как можно больше исходных для его сочинений деталей в их естественной простоте, то на этом и стоит сосредоточиться, не заморачиваясь морализаторством и переосмыслением общих «гениальных» идей, которые скорее затушат, чем поддержат огонёк сочинительства.
Алексеев про «Херувима»
«Работа над первой книжкой помогла мне определиться с собственными литературными возможностями. Как рыба в воде я чувствовал себя в рамках повести. Причём проба разных сюжетных линий: игровой, романтической, лирической, деловой и даже без формального сюжета, – показала, что они никак не ограничивают моей возможности самовыражения, в отличие от неправильно выстроенной композиции произведения.
На жанр следующей книжки повлияла мода на романы. Понимая, что родить классический роман было сверх моих возможностей, я постарался сочинить «почти роман» в виде ряда согласных между собой повестей. «Повести Ильи Ильича» были для меня в этом смысле примером, который можно было развить, повысив градус приближения к роману за счёт введения дополнительного уровня соединения частей, помимо общих темы, идей и смыслов. Эстафетная связь героев разных повестей представлялась при этом самым простым композиционным решением.
То есть мне были нужны три-четыре взаимосвязанных повести с эффектом присутствия в каждой из них общих героев, по очереди из повести в повесть передающих друг другу эстафетную палочку главной роли.
Правдивость повествованиям должна была обеспечить хорошо мной освоенная позиция подведения персонажами жизненных итогов. Вдохнуть не воображаемую, а реальную жизнь предстояло по образу и подобию людей мне интересных, которых я хорошо знал и наблюдал в разных обстоятельствах и возрастах. Среди моих знакомств требовалось выбрать длительные, с вероятным знанием подспудного: жизненных целей, устремлений, возможных и выбранных путей их достижения, – без чего психологические портреты героев, да и всё повествование о них повисало в воздухе, готовое раствориться в фальшивой или, как принято ныне говорить, виртуальной реальности.
Из таких друзей-приятелей, после многих уже отданных Белкину и «Светлым историям», вырисовывались три персоны: условные Рылов, Канцев и Дивин. Каждый из них довольно просто списывался из жизни с нужными мне прибавлениями некоторых характерных черт и мыслительных акцентов. Чтобы не путаться в условных и реальных именах при переходах туда-обратно, пришлось воспользоваться удобной белкинской придумкой: в реальных фамилиях изменить или убрать один слог, а имя-отчество поменять местами. Отсчёт повествования следовало вести со знакомства моей троицы, отнесённое на советское время, которое простейшим образом организовывалось заселением в одну комнату общежития молодых специалистов, прибывших по распределению на предприятие оборонной промышленности.
Пока я всё это мысленно прикидывал, подбирая, с кого начать, как буду продолжать и чем завершу, память и некоторые случайности подкидывали мне подсказки в виде огрызков смыслов, сорных словосочетаний и большого количества библейских образов.
«Херувим у сада Едемского». «Иже Херувимы». «Яко да Царя всех подымем». «Бог сидит на херувиме и наблюдает, что творится в Его мире. А херувимы не имеют определённой формы, являясь то мужчинами, то женщинами, то духами и ангелами. Лицо херувима – отроческое».
«Во глубине небес необозримой» представлялись тьмы волнующихся ангелов, летающих серафимов, музицирующих херувимов и безмолвствующих архангелов.
Там же были «огнегривый лев, синий вол, исполненный очей, и золотой орёл небесный» из песни. И обрывок церковного толкования: «Серафим, котораго видел Пророк Иезекииль, есть образ верных душ, кои подвизаются достигнуть совершенства. Имел он шесть крыльев, преисполненных очами; имел также четыре лица, смотрящих на четыре стороны: одно лицо подобно лицу человека, другое – лицу тельца, третье – лицу льва, четвёртое – лицу орла». Лицо человеческое означает верных, подобный тельцу несёт тяжёлые труды и совершает подвиги телесные, льву – кто «исходит в уединение и вступает в борьбу с невидимыми демонами». «Когда же победит он невидимых врагов и возобладает над страстьми и подчинит их себе, … уподобится лицу орла».
В общем, из этого мусорного безобразия родилось название «почти романного» произведения – «Херувим четырёхликий» – и его построение лесенкой из четырёх повестей-ликов: вопрошающего, бунтующего, зовущего и смиренного. Первый лик – Рылов. Из выбранной тройки героев он был наиболее приспособлен к жизни по правилам и с ограничениями и лучше всех подходил для пролога и роли общего знакомого и передаточного звена. На ступеньку выше него заступил бунтарь Канцев, особенно расположивший меня своими трудами, согласием слов и дел, искренним стремлением не отставать от убыстряющегося времени, мужественным преодолением сваливающихся на него несчастий – и неожиданно быстрым уходом, подгрузившим сердцу непреходящей жалости. На третьей ступеньке оказался старый и близкий приятель, о котором я многое знал и ведал и которому намеревался вложить главные свои мысли и терзания, дабы довести с его помощью действие до кульминации. Претендента на верхнюю ступеньку и эпилог у меня не было. На продиктованный интуицией смиренный лик лучшего всего подходила женщина, но откуда было взять нужную мне? Перебрав второстепенных персонажей и снова положившись на интуицию, я остановился на хоронившей Канцева жене, с которой он, разругавшись насмерть, развёлся и не примирился, несмотря на усилия многих посредников.
Общая композиция с иерархией повестей выстраивалась вроде бы сама собой: вопросы, бунт, зов, смирение, – но когда я спокойно, не замыленным глазом смотрю на результат, то не могу отделаться от ощущения направлявшей меня руки провидения. Ведь по-крупному я не ошибся: всё и все на своих местах. Первое лицо – человеческое. Оно означает верных, живущих в мире, исполняющих лежащие на них заповеди, – это Рылов. Кто «выйдет в монашество, то он подобным становится лицу тельца, потому что несет тяжёлые труды в исполнении монашеских правил и совершает подвиги более телесные», – это Канцев. «Кто, усовершившись в порядках общежития, исходит в уединение и вступает в борьбу с невидимыми демонами, тот уподобляется лицу льва, царя диких зверей», – вылитый Дивин. «Когда же победит он невидимых врагов и возобладает над страстьми и подчинит их себе, тогда будет восторгнут горе Духом Святым и увидит Божественныя видения; тут уподобится лицу орла: ум его будет тогда видеть все, могущее случиться с ним с шести сторон, подобясь тем 6-ти крылам, полным очей. Так станет он вполне Серафимом духовным и наследует вечное блаженство». Но чем не орлица старательно мной подкрашенная и почти идеализированная лучшими женскими качествами Канцева?
Вот уж, действительно: «Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда…»
Крупных ошибок нет, но неточности в тексте присутствуют. Самая большая, которую хотелось исправить, если вернуть время назад, – эпизод переписывания Дивиным чужого рассказа про Пушкина.
Этот рассказ на старости лет сочинил умница Зазнобин – большой знаток и поклонник поэта и публичный представитель отряда неравнодушных к людских бедам институтских преподавателей из бывших военных, учёных-«технарей» и совестливых гуманитариев, разработавших концепцию справедливого общества. Хороший аналитик и опытный лектор, в искусстве художественного сочинения Владимир Михайлович предстал любителем, не овладевшим писательской техникой. Интересное, с элементами научной новизны, расследование приватной беседы русских императора и главного поэта, о которую издавна точили зубы все, кому не лень, было перегружено разъяснениями и повторами, как у учителя, старающегося научить весь класс, включая двоечников. Вдалбливаемые в читательские головы находки каменели и придавливали живые и трогательные эпизоды, самый памятный из которых был о потере дара речи, когда рассказчик, числившийся среди лучших чтецов в суворовском училище, не смог на уроке продекламировать выученного «Пророка» и только благодаря собственному анализу «чёрного ящика» беседы царя с поэтом, на исходе жизни, смог понять, почему. Дурные описания и некоторые неудачные и неточно расставленные слова ещё больше снижали художественную ценность рассказанного. Раскритиковавший всё это Дивин переписал хитромудрый рассказ, распутав тщательно обдуманные слова, заплетённые между собой не хуже синоптических связей головного мозга, и переакцентировав повествование с беседы Зазнобина с невесть как оказавшемся в нашем времени поэтом на разгадку «Пророка».
Сегодня к отредактированному рассказу по мотивам исторического расследования концептуалов у меня есть претензии: сосредоточившись на исправлении художественных огрехов, я полностью доверился их аналитике и, похоже, растиражировал имевшиеся в ней неточности.
К найденной в «Пророке» закладке, вложенной поэтом для грамотеев из будущего, которые на ней обязательно споткнутся и задумаются, в чём дело, – претензий не было. Вопрос был в другом: раз Пушкин должен был уважить просьбу императора, но не отступить от своих взглядов на религию, – так он ли автор «Пророка»? Или это результат игры в менипею с другим поэтом, согласным по приказу Бога поступиться дарованной людям свободой воли? Честные и думающие литературоведы, не из официозного околопушкинского болота, склоняются ко второму. Оглядываясь на Илью Ильича Белкина, мне их позиция ближе и понятнее.
События около роковой дуэли – вторая неточность, которую следовало исправить Дивину, согласившись с более обоснованными, чем у «технарей», доводами других знатоков и исследователей пушкинского творчества.
Козни извращенца Гаккерна и его усыновлённого смазливого партнёра, открытое врагам Пушкина роковое предсказание цыганки, кольчуга Дантеса под мундиром гомосексуального по тем временам красного цвета, мучительные дворцовые балы и придворные интриги, полицейский надзор и неудобства высочайшей цензуры, напряжённая пикировка поэта с вредным Бенкендорфом – всё это также не обсуждается. Но приписывание авторства диплома рогоносца кривоногому Долгорукову слишком поверхностно. Все факты за то, что анонимный пасквиль был обращён к самодержцу и сочинён самим Пушкиным, который окончательно убедился в связи жены с Николаем. Решённая дуэль с прикрывавшим царя Дантесом разрубала все опутавшие поэта узлы при любом её исходе. Конечно, быть убитым вряд ли было целью, – скорее всего, поэт надеялся на высылку с семьёй в деревню. Но к смерти, загадывая на неумолимый рок и вражье искусство убивать, он был готов, зная, что ему мало отмерено и осталось недолго. Пушкин был неизлечимо болен. Лекарств от его болезни не было. Практиковавшиеся с юности интенсивные физические упражнения, долгие прогулки на свежем воздухе и побеги в деревенское уединенье перестали помогать. Болезнь прогрессировала, грозя умственной инвалидностью и скорой смертью, и из-за этого, а не от интриг вражьей рати и записных друзей, легкомыслия супруги, обезьяньих страстей высшего света или наделанных чрезмерных долгов – на него было страшно смотреть в последние перед дуэлью месяцы.
Другие неточности «Херувима» менее значимы, связаны с художественными огрехами, которые проявились по прошествии времени. Исправлять их теперь себе дороже, да и надо ли что-то исправлять? Пять лет книга живёт отдельной жизнью и радует автора такой, какой получилась. Вместо того, чтобы резать по живому, интересней по ней пройтись и отчертить на долгую память главное.
Первая повесть закручена вокруг лекции «Дата Майнинг» маститого столичного профессора Стецкого в провинциальном отраслевом институт, где ранее он защитил обе свои диссертации и откуда стартовал в высокие научные миры. На лекции и вечеринке после неё в компании старинных друзей-приятелей Фимы Стецкого присутствует наблюдательный Рылов, тридцать лет тому назад подтолкнутый будущим профессором в научные хляби и участие на досуге в институтской агитбригаде. Рылов сопоставляет себя нынешнего с собравшимися дедушками и бабушками, когда-то здорово певшими и скакавшими галопом по клубным сценам под визги, круговерть открывающих голые ноги юбок и музыку бьющего толстыми пальцами по аккордеону на манер деревенского гармониста и облизывающего при этом свои полные губы Фимы. Былое, разбуженное встречей, напоминает Саше Рылову и про общение в рыхлеющее советское времечко с соседями по холостяцкому общежитию: Фёдором Канцевым и Вадимом Дивиным.
Фёдор не стеснялся в открытую ругать бредни про ускорение, перестройку и экономику, которая должна быть экономной, получая за это по шее от хитро щурящихся партийных руководителей. Саше его позиция нравилась, хотя самому Рылову подчиняться официозу было удобней и лезть на рожон казалось глупостью. Ещё Фёдор был заводила по женскому полу и почти утянул в эту бездну неопытного Сашу. Дорожки их разошлись давно, встречались приятели от случая к случаю. В последнюю встречу Канцев Рылову не понравился. Оптимист и балагур, никогда не болевший и сохранивший все зубы, вроде бы знакомо посмеивался и шутил, но был явно озабочен прицепившейся к нему хворобой.
С подачи Вадика Дивина соседи прильнули к разлитому властью сладкому – по образцу муравьёв, добравшихся до блюдца с сахарным сиропом, поставленным, чтобы их извести. Был год гласности, когда духовно голодным людям разрешили выписывать любое количество толстых литературных журналов, а журналам разрешили печатать, что захотят. Приятели чего только не прочитали, а самые понравившееся публикации с помощью сооружённого рукастым Фёдором станочка вырывали и склеивали в книжки с обложками из синей и красной искусственной кожи, заполнив ими книжные полки в комнате общежития и подоконник в придачу. Начитавшийся книжек Вадик изменился. Обзавёлся широкими блокнотами и строчил по их жёлтой бумаге косыми фиолетовыми строчками. А чаще сидел над своей писаниной в прострации, одолеваемый думами и печалями. Саша помог ему договориться с одной из танцорок, подрабатывавшей машинописью, напечатать рассказ, который Вадик посылал в один из журналов. Теперь Вадику, должно быть, легко плодить тексты. Если он ещё занимается этой ерундой. А занимаются многие. И откуда столько одержимых? И информации всё больше. Всякой и разной. Может, и есть в ней что-то толковое. Но как его разглядеть в огромных мусорных кучах?
Домой после встречи Рылов двинулся пешком – и потому, что после длительного воздержания ему пришлось немного выпить, и чтобы собрать мысли, разбежавшиеся от разных обидных мелочей, начиная с отказа супруги составить ему компанию и заканчивая равнодушным отношением к нему Фимы и старожилов агитбригады. Полная жёлтая луна с видимыми пятнами тёмных морей сопровождала его путь вдоль реки. Низкая, большая, как солнце, она словно шла перед ним по противоположному берегу, иногда скрываясь, полностью или частично, за отдельными высокими домами. Постепенно лунный образ встроился в сознание мужчины и переключил на себя его внимание, подсказывая, что полнолуние располагает людей уступить злу и соблазнам. Боль за себя и всё человечество пронзила Рылова, он запнулся и остановился на полпути. Луна, за которой он наблюдал, остановилась вместе с ним. Пока Рылов шёл, она поднялась над горизонтом и застыла над двумя перевёрнутыми в небо золочёными луковицами. Тонкая белая колокольня и приземистая белая церковь на другом берегу, красиво подсвеченные прожекторами, словно удерживали своими крестами жёлтого небожителя, манящего людей отражённым светом. Почему-то они представились Рылову так, как он никогда не думал, – символами мужского и женского начал, противостоящих соблазну. Церковь в это время должна была быть пуста, но он думал, что в ней поют, и, если прислушаться к ночной тишине, то можно разобрать «иже херувимы» голосом актёра Пуговкина. А в окружающей храм темноте ему чудились пространства клубящейся тьмы, пытающейся прошелестеть странные слова «дата майнинг». Рылов дождался, когда луна ещё поднялась над землёй и сдвинулась влево от колокольни, осветив пустырь. И продолжил путь, радуясь скорой встрече с наверняка задремавшей супругой и загадав, что время додумать о мусорных информационных кучах и уготованных людям соблазнах у него ещё будет.
Вторая часть «Херувима» – про бунтаря Канцева, который больше всего на свете хотел, чтобы все люди всегда радовались жизни. Самые грустные и несчастные – улыбнитесь, и Фёдор полюбит вас за эту улыбку всей силой своей души. Но так не получается, и мятущаяся душа всю жизнь ищет, почему. Долго ли осталось искать? С тех пор, когда бугай врач, пересмешник и оптимист не меньший Канцева, ласково похлопал его по плечу: «Наш клиент!» – Канцева успели прооперировать и загрузить двумя курсами химиотерапии. И всё равно уклончиво отвечают о будущем.
Восстановившись после крепко отравившей его второй химии, Фёдор с удовольствием прогуливался. Пять весенних километров до работы ему были не в тягость. Ветерок утром тих. Солнышко подмигивает из-за белых облачков. Птички поют. Берёзки зеленеют молодыми листочками.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе