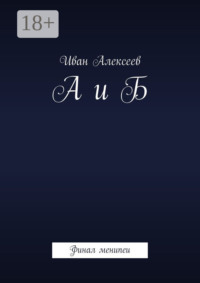Читать книгу: «А и Б. Финал менипеи», страница 2
Проговорив свои монологи окрестным ветрам, я отправляюсь в обратный путь, который получается таким коротким, что к его концу еле успеваю продумать, что буду говорить твоему отцу в следующей попытке.
Возможно, я начну с цитат, определяющих убогость нашего мозга от природы: «абстрагироваться от природы коры любви, которой мы думаем, крайне непросто», «эволюция посмеялась над нашим мышлением, заставив решать любые задачи через волшебную призму половых целей», «все наши предпочтения в одежде, пище, круге знакомств и профессиональных интересах проходят фильтр половой оценки».
То есть мозг, которым мы думаем, силён исключительно корой любви и энергией похотливых фантазий. Эффективно его использовать в иных целях без энергии любви весьма проблематично. Зато воспользовавшись этой энергией, можно решить многое. Например, продлить и украсить жизнь.
Я бы рассказал, что научился облегчать течение своих болезней игрой воображения, заставляя переделывать в уме самые неудачные мои романтические приключения в более, чем удачные. А чтобы воображаемый эффект был ярче, придумал ограничиться одной неудачей и переживать её неоднократно, всякий раз выбираясь из глупого положения по-новому и с непременным удовлетворением. И ещё я бы упомянул творчество, для которого нужна дополнительная энергия, которую взять нам, кроме как от коры любви, неоткуда.
С этими крайними мыслями о следующем разговоре я возвращаюсь в своё тело, оставляя в пелене надвигающегося забытья, на потом, прощальную слезу умирающей кошки, так похожую на слезу уходящего в одиночестве человека.
Это уже наша домашняя кошка, изжившая свой век и трижды в последний год готовая умереть, но поддержанная уколами. Она на границе света и тьмы. Как живая. Худющая, с опухолью на крестце, из-за которой на поворотах заплетались её задние лапы. Прячущаяся и вдруг противно кричащая, требуя то ли еды, то ли участия. До последнего пробующая запрыгивать на кровать и двигаться по квартире в поиске тёплых и тёмных углов. И этот взгляд уставших глаз с готовой пролиться прощальной слезой – я поймал его, когда нашёл спрятавшееся животное, пожалел словами и погладил. Еле поднятая в ответ мордочка, благодарное урчание и взгляд, отразивший кошачье погружение в небытие…
Наконец, полное забытье. Провал. За которым новый день. И новая ночь. И тьма. И сон по кругу с бестелесным путешествием. И желание всё это записать. И острое дневное разочарование от того, что записывать нечего…
Ну а теперь можно перейти к сегодняшнему дню и неинтересным мне, в силу рассказанного выше, поворотам судьбы одержимых героев «Моего пути». Впрочем, то, что о них знают многие, я готов пересказать.
Антонова год, как не преследуют фискальные и силовые службы. В конце ноября он прилетал из своей заграницы посмотреть на внучку от старшей дочери и проверить заодно оставшийся бизнес и некоторых недобросовестных своих управляющих наяву, а не по телефону и видеосвязи. Я пропустил его звонок и перезвонил на следующий день. «Я собирал всех в баню, – сказал он. – Жаль, что не дозвонился до тебя». «Вот, валю деревья на участке, – объяснил шум бензопилы. – Нравится мне это дело. Дома тоже этим балуюсь». «В Россию возвращаться не собираешься?» – спросил я. «Я буду приезжать, – ответил он. – Сразу после Нового года опять постараюсь прилететь. Скажи: старая наша городская баня работает? Отлично. Когда приеду, соберёмся там. А совсем переезжать обратно зачем? Девчонки мои от предыдущего брака живут самостоятельно. Сын учится в Московском университете, на каникулы прилетает к нам. Мы с женой там освоились. У нас двое маленьких детей, с которыми не соскучишься. Кружки, секции, языки». Слушая знакомый голос, я отметил, что Андрей не спешит закончить разговор и вообще не спешит, – как человек, которому спешить некуда. «Да он постарел», – подумал я, и, представив себе его стремительные движения, ухожено блестящие волосы, пышные усы и подсмеивающийся испытующий взгляд, какими запомнил их на полувековом юбилее, занялся редактированием: проредил и побелил его шевелюру, щедро посеребрил усы, добавил морщинок в уголки глаз, усталой мудрости взгляду и притормозил желания казаться первым во всём.
О генерале расскажу с чужих слов, институтских разговоров и жадных до остренького журналистских расследований. Беседовать с ним не мой уровень, хотя в обеденный перерыв на набережной мы частенько пересекались и здоровались. Я гулял, он шёл в ближайший ресторан, что на берегу и над речкой. От института до ресторана пар двести шагов. Василий Сергеевич до заморозков, даже когда все вокруг были в куртках, преодолевал это расстояние бодрым шагом и в одном костюме. Иногда он вёл за собой компанию столь же прилично одетых гостей. Он любил и съедал много мяса – над этим посмеивались в институте и должны были ценить официанты, особенно новые кавказские ребята, сменившие женщин после покупки ресторана азербайджанцами.
За Василием Сергеевичем пришли прямо в институт, на следующий день после приезда его московских приятелей, предупредивших под ресторанный коньячок о принятом Следственным комитетом решении. Поскольку предупреждений за последние полгода было несколько, отставной генерал им не внял, надеясь, видимо, на свои знакомства, – в том числе, с важным чиновником из комитета, должного помнить его по беседе в самолёте на пути из Китая и короткому застолью в микроавтобусе, встречавшем начальника нашего института в аэропорту.
Генерала арестовали за мошенничество. Взяли его вместе с тремя руководителями организованного им для кормления предприятия. Все трое пошли на сделку со следствием и были отпущены под домашний арест. Василий Сергеевич виновным себя не признал и, отказавшись вернуть миллионы, сидел больше года, пока его адвокату после неоднократно отклоняемых ходатайств удалось-таки уговорить отпустить подследственного дожидаться нескорого суда в загородном доме на берегу реки – с браслетом на ноге и обязательством не покидать дом ночью, не посещать институт и не общаться с его сотрудниками.
В вину генералу и его окружению вменялась типичная схема отмывания бюджетных денег: организованное им предприятие выполнило заказанные государством работы «мёртвыми душами» сотрудников института, а причитающиеся за это деньги получил Василий Сергеевич со своей камарильей. Фиктивно оформленных на работу сотрудников института было много, опросить надо было каждого, поэтому следствие затягивалось. Меня опрашивали одним из последних, когда нужные для самосохранения ответы были давно отработаны. «Вас кто-то готовил к опросу?» – «Нет». «Вы работали по такой-то теме?» – «Работал». «Что делали?» – «То-то и то-то». «Где работали? Кому передавали результаты?» – «Там-то. Тому-то». «Сколько заработали?» – «Столько-то». «Деньги получали?» – «Да». «Каким образом получали деньги?» – «С зарплатной карты». «Вы их должны были кому-то отдать?» – «Нет». Опрашивала прикомандированная следственная молодёжь, не удивляющаяся одинаковым, как под копирку, ответам. Ответы вбивались в шаблоны на компьютере. Опрашиваемые расписывались на каждом листе распечатанных показаний и отпускались. Общение со следователем длилось менее часа, было весьма вольным, без цели получить обвиняющие показания, которых, судя по всему, уже было предостаточно. Всё это подтверждало не раз слышимое: попав под каток следственно-судебной машины, вывернуться не получится. Медлительная и неповоротливая, она в любом случае упакует заказанного клиента.
Вникая в суть конфликта Василия Сергеевича с законом, следует признать, что генерал действовал в точном соответствии со своим девизом: «Мне система не нравится, но раз я ей служу и не могу переделать, то вправе играть по её негласным правилам в свою пользу». И не выходил за рамки того, на что раньше государство закрывало глаза: закрыл работу никому не нужными отчётами большого объёма, которые собрали ручные учёные за удвоенную зарплатную пайку, а для разбора фонда оплаты труда огромного размера разбавил исполнителей сотрудниками института. Падение его стало следствием редкого соединения нескольких обстоятельств: отказа освободить своё место, слишком большого проглоченного куска, жалоб обманутых пустой бумагой заказчиков и показной борьбы государства с коррупционерами. Но и попав под уголовное преследование, можно было Василию Сергеевичу обойтись малым, если бы не чрезмерный круг непосвящённых, наличие записей с видеокамер банкоматов, откуда генерал снимал деньги с чужих зарплатных карт, да трусость и жадность его ближнего круга, спасающего себя ценой предательства хозяина.
В общем, окормление генерала с присными приказало долго жить, что нетрудно было предсказать в 14-ом году, но столь разрушительных для самого генерала последствий вряд ли кто ожидал.
С камнем того же года, брошенным в огород Михал Михалыча, я тоже угадал не всё. Учёному начальнику я предрекал удел ненужного, когда «уйдут» генерала. На деле получилось сложнее.
«Жэкатешные» боли и «релюкс», которые ему лечили в санаториях, оказались вестниками опухолей. Он, конечно, собрал информацию о столичных клиниках и врачевателях его болячек и пробился к лучшим хирургам, которые успешно удалили бесполостным методом злокачественные образования вместе с изрядными долями здоровых тканей. Восстанавливался он после операции долго и на работу явился живым трупом, напомнив пришествие изведённого им Александра Петровича: вешалка с одетым будто с чужого плеча костюмом. Естественная волна жалости и прощенья оградила бедолагу от вероятного падения по служебной лестнице. «Берегите Михалыча», – выразил, увольняясь, общий настрой заместитель генерала, передавая болящего следующим за ним начальникам. Михалыча отпустили в свободное плавание, оставив за ним секретарство в учёном совете, и не трогают до сих пор, хотя он оброс мясом, выглядит сносно, стелет мягко и здоровье ставит выше дел. Однажды даже сорвался по старой памяти, явив неистребимую одержимость, но быстро опомнился и предложил мировую – невероятное событие применительно к нему до болезни. В общем, теперь он ограничен в некоторых житейских радостях, включая вкусную еду и банные посиделки, и не опасен по службе. Последнее, между прочим, позволило сложиться взаимовыгодному симбиозу «нового» Михалыча с оставшимися «рабочими лошадками» отдела. Кто-то больше работает головой, кто-то руками, Михалыч – учёными регалиями, связями и бодливой привычкой не пасовать перед бюрократами. И каждый в результате имеет необходимые научные труды, свободное время на более полезные занятия и частичную компенсацию недоплачиваемых науке денег. В части денег, например, мы освоили трёхлетний грант фонда прикладных исследований и готовы получить президентскую стипендию «за выдающиеся достижения», которых нет. И главная заслуга в этом, как ни крути, Михалыча. Почему? Каждый, кто крутится вокруг премий и стипендий, знает, как их получают. Для выбора победителей важны не достижения, разбираться в которых у членов комиссий нет ни времени, ни нужного кругозора, а грамотно составленные представления на кандидатов, подкреплённые личным знакомством или просьбой уважаемого человека. Михалыч тут вне конкуренции: он не стесняется самым естественным и не обидным образом напомнить о себе нужным людям, стартовавшим через наш диссертационный совет к своим руководящим постам.
Ну и хватит про одержимых. Наверное, я бы мог быть доволен тем, что мои предвиденья в их отношении определённым образом воплотились в жизни. Но счастливее от этого – ни тогда, когда предсказывал, ни тем более теперь – не стал. Напротив, больше прежнего щемит грудь от бессмысленного ползания по земле тех, кому наречено было быть лучшими среди нас, и больно за души, разучившиеся летать».
3
Алексеев переложил рассказ Белкина на бумагу и задумался, чем ему отвечать, гоня полнившие голову банальности вроде естественности с простотой: «Простота обычно естественна, а естественное всегда просто. Или наоборот?.. Вот что, голубушки: проваливайте обе и разбирайтесь между собой, а меня увольте».
Он открыл три свои книги и принялся их листать с долей родительской грусти, чувствуя, что книжки удаляются от него, как дети, начавшие жить своей жизнью. Продолжая листать, Алексеев вспомнил почти всё про работу над старыми текстами и некоторое время ощущал себя потерявшим спортивную форму атлетом, гордящимся старыми рекордами. А потом удивление и гордость собой заслонила тревожная мысль: недалёк час, когда память совсем ослабнет, и он не вспомнит, как всё это писал. И засомневается: он ли автор?
Мысль о том, что многие милые мелочи о старых трудах, с определённым усилием вспомненные сегодня, завтра могут оказаться утерянными, и в результате он не будет уверен в собственном родительском праве, – родила неприятное чувство и требовала своего разрешения.
Вот, что ему нужно: зафиксировать то, что вспомнит. Это будет не самый худший ответ Белкину и самому себе, – понял Алексеев и сразу почувствовал, что тревога отпускает его.
Рассказ Алексеева
«Творчество Белкина произвело на меня столь сильное впечатление, что когда он отказался тянуть лямку сочинительства дальше, я решил впрячься вместо него.
Пробой пера стал «Чечен», к которому на пойманной эйфории творчества прибавились опыт творческого «манифеста» и повесть поздней любви, приземлившие некоторые мои фантазии на заданную тему. Получились три «светлые истории»: «Чечен», «Мы есть», «Чаяно, нечаянно», – которые попробовали раскрыть, говоря высоким стилем, тему «любви в самом широком понимании, когда ожидание, вера, надежда и чувство к милому другу» ведут к миру и совершенству, а не к войне и упадку нравственности.
«Чечен» родился откликом на Киевский бунт и войну на Донбассе, понятых русскими людьми как новое наступление запада на восток. Причины нападения казались особенно понятными с позиций теории искусственного отбора мозга, а так как складывающиеся обстоятельства традиционно оказывались против нашей страны, подразумевая неизбежность затухания весенней волны открытого русского сопротивления, то требовалось поучаствовать в организации полупартизанской борьбы за нашу жизнь и любовь.
На роль проводника этой борьбы в задуманной повести лучше всего подходила девушка с крепким нравственным стержнем – такая отыскалась в закромах памяти. А тех, за кого предстояло бороться, – дети погибших в кавказской войне чеченских милиционеров, с которыми волей случая получилось однажды соседствовать на астраханской базе отдыха.
База отдыха стояла на берегу, когда-то занятом летними загородными лагерями – этими ежегодно доступными местами оздоровления детишек рабочих и служащих, оставившими след в душе каждого советского ребёнка. Меня в них отправляли со 2-го по 6-й класс – до тех пор, пока вместе с доброй половиной ребят лагерной смены я не оздоровился до дизентерии и месячного карантина в областной инфекционной больнице.
Но последний мой пионерский лагерь начала 1970-х годов запомнился не только диареей. После тихого часа в тенистой беседке между щитовыми домиками нашего и соседнего старшего отряда устраивались посиделки, на которые было трудно пробиться. Воспитательница старшего отряда —очкастая студентка пединститута, устроив с помощью бумажных гирлянд под потолком и дыма от свечки некую ауру тайны, пересказывала мальчишкам и девчонкам, которые чуть не смотрели ей в рот, хорошую фантастику, за которой тогда мы безуспешно охотились в библиотеках и книжных магазинах. В беседку было не протолкнуться, постоять с краешка и послушать рассказчицу мне удалось только два раза. При мне она пересказывала «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова и его же «Час быка», переиначив обе эти книжки в единое повествование о будущем и сумев заинтриговать мальчишечье сердце. Так что списывать для «Чечена» воспитательницу Марину было с кого. Отражая авторское неприятие нынешнего времени, образ Марины потребовалось приукрасить. Мама, всю жизнь проработавшая воспитательницей в садике, отметила, что таких идеальных девушек, какой получилась Марина, сегодня встретить трудно. Мама есть мама – мой замысел она раскрыла точно.
Что до ребят-чеченцев, то они находились под постоянной охраной двух бородачей, затворничали на выделенном им этаже и не понятно, чем занимались. Воспитательницы им явно не хватало, как показала живая детская реакция на устроенном для них студенческом концерте. Концерт и его озорная ведущая с негритянской внешностью, перебравшаяся вскоре на один из столичных телеканалов, естественным манером перекочевали в мою повесть.
К месту в «Чечене» пришлись и яркие наблюдения – те самые точные связующие мелочи, важные, по Белкину, для работы воображения.
Это и десятки потревоженных гадюк, прыгающих в воду с высокого берега на одной из проток волжской дельты, где в детстве я ловил воблу и куда добрался на своей первой машине вспомнить рыбацкую удачу. Моя пугливая спутница змеиных прыжков не видела. Ей хватило вильнувшей ящерки, чтобы согласиться с тем, что здесь не клюёт, и лучше нам поехать обратно.
И поле цветущей верблюжьей колючки перед прибрежной рощицей вязов – сотни плотных стеблей с большими розово-красными мохнатыми шариками, а над ними тучи больших стрекоз и слышимый сухой треск их прозрачных крыльев.
Стрекоз над верблюжьей колючкой я увидел в поездке на другую протоку, между Ахтубой и Волгой, куда теперь без денег не пустят шлагбаумы, заборы и сторожа ушлых хозяев всевозможных рыбацких баз и домов отдыха. Там мы ловили судаков: с высокого берега на леску с грузилом и резинку – после будящей кровь борьбы с попавшей на крючок рыбой перед вечерней зорькой, и с песчаного мелководья на далеко заброшенные удочки со сторожками – ночью, без сопротивления вытягивая безвольно заснувшие на крючке тушки.
Для полного писательского удовлетворения оставалось оживить героя придуманного Мариной рассказа и полюбившего её чеченского мальчишки. Первому пригодились мои туристические впечатления о походах в советское время через Кавказские горы из Карачаево-Черкесии в Абхазию, второму – выложенные в блогосфере рассказы нового чеченского лидера о своих родителях, детстве и отношениях внутри рода.
Последовавшую за «Чеченом» повесть «Мы есть» я интуитивно обозвал манифестом, не зная поначалу точно: манифестом кого? Собирательное «мы» стало образом, нащупываемым в тумане скучной обыденности. В опубликованных письмах академика Колмогорова, который был намечен заочным героем манифеста, я нашёл и вставил эпиграфом согласное с моим представлением видение: «человечество всегда мне представлялось в виде множества блуждающих в тумане огоньков, которые лишь смутно чувствуют сияние, рассеиваемое всеми другими. Но они связаны сетью ясных огненных нитей, каждый в одном, двух, трех… направлениях».
Фактическим содержанием манифеста стал процесс взросления умов Игната Прянишникова и его талантливых одноклассников по школе-интернату, «белорусов и ребят из ближних к столице областей. Много было тамбовских – Игнат связал это с тем, что уроженцем Тамбова был Колмогоров, придумавший эти интернаты для одаренных детей».
Провинциалы, отобранные для столичного употребления, представляли собой замечательный предмет художественного анализа процессов ускоренного отбора мозга. С рождения отличающиеся от большинства, формирующие сознание в столкновении с инстинктивно-гормональными принципами поведения, некоторые из них вырастают в странных людей, вынужденных скрывать свою мыслительную активность, которая направлена на решение отсроченных рассудочных задач. Один из них – Прянишников, который «понял и удивился людям, с которыми общался, и которых видел со стороны, и о которых только слышал – и уже всю жизнь потом мог не только догадываться, но и знать о существовании в людском многообразии таких же, как он, и много лучших него, и настолько лучших, что дух захватывало от одной мысли, что они есть».
По сути, «Мы есть» утверждает неизбывность «рассудочного меньшинства», которое интерпретаторы результатов искусственного отбора мозга полагают носителем принципов социальной эволюции, «принудительно отдаляющих человечество от его обезьяньего прошлого».
Для думающего Прянишникова попытка понять, хорошо ли он жил, неразделима с греющими душу ответами на некоторые вечные русские вопросы.
На один из них, о «чумазых», ответил Колмогоров, которого Игнат узнал в недобром уже здравии и не важным лектором.
«Ответ на этот вопрос был ответственным, поэтому умные люди от него обычно уклонялись, предпочитая послушать, что по этому поводу скажут другие умники. Чехов, например, уклонился, зато Михалков решил за него договорить». «Чумазый не может! Я же говорил!» – с той побеждающей интонацией барина, роль которого так удается мастеру, и с искренней радостью от того, что он, как всегда, оказался прав, ответил Михалков и за своего героя, и за себя. «Чумазый может!» – возразил своим подвижничеством Колмогоров».
На другой вопрос, о русских евреях, Прянишников ответил сам.
«То, что среди самых выдающихся математиков оказались евреи Арнольд и Синай, и на всех остальных математических уровнях среди учеников Колмогорова было непропорционально много евреев, а отпрыски „чумазых“ семей из глубинки, воспитанные в интернате и на том же математическом факультете, в массе своей оставались на вторых математических ролях – никак не отменяло вывода Прянишникова. Он видел многих, стремившихся не быть, а стать, и давно понял, что для лучшего результата важно не упустить нужный момент развития. По своевременности приобщения к наукам „чумазые“ были евреям не конкуренты и поначалу заведомо отставали, но как быстро догоняли и обгоняли лидеров и какую конкуренцию смогли им составить! И поднялись бы Арнольд или Синай на свою высоту без этой конкуренции? Прянишникову довелось повариться в мехматовской смеси из натасканных к поступлению в вузы выпускников интерната, больше половины которых были из „чумазых“, а евреев не было ни одного, и москвичей из сильных школ и математических классов, больше половины которых была евреями, а из „чумазых“ – никого, довелось учиться у разных учителей и посмотреть на университетских преподавателей разной национальности – и вот, до чего он дошел в собственном исследовании национального вопроса. Среди евреев было много неудачников – значит, только своевременного воспитания и образования мало. Успеха добивались те их них, кто искренно хотел сделать, а не имитировать дело. А еще не мешал делать свое дело не одноплеменнику. Поэтому если в чужой Игнату среде было поначалу хотение другого рода, оно или вело к неуспеху или преобразовывалось в искреннее намерение состояться. И самые успешные евреи многое в себе преодолевали, чтобы подняться – национальные условности, в том числе. Прянишников признал точное название феномена, которое объяснило его уважение к тем, кто состоялся, – русские евреи. Не вынося свои мысли на обсуждение и не боясь поэтому укоров в высокопарности, он говорил себе, как чувствовал: в них был русский дух».
В юном Игнате сидели беспокойными занозами и мучили ожидание любви и желание дружить. Но их Прянишников выводил не из желания владеть другим человеком, а из раскрытия творческих способностей.
«Дружбу и творческий импульс Прянишников связал, прочитав воспоминания о Колмогорове. Он и раньше слышал о необычной дружбе А.Н.Колмогорова и П.С.Александрова, бывших вместе до смерти. Состоявшаяся дружба как творческий толчок – это было понятно Прянишникову. Он бы не стал спорить с тем, что несостоявшаяся дружба и несостоявшаяся любовь тоже может быть сильной встряской и дать импульс к творчеству. Но эту возможность смело отдавал западу – все то, что было вопреки, ему никогда не нравилось».
Мифам о дружбе академиков, подразумевающей владение и физическое обладание, Прянишников не верил. С их авторами ему не договориться. Воспитанники западной культуры, на чувства они смотрят сквозь призму права собственности, – сами мастера маскировки под гуманистов и верят тому, что маскируются все.
К человечности – утверждает Прянишников – ведут две заповеди: не бояться, если страх угнетает волю, и не обращать других в господ. Те, кто этим руководствуется, «освещают общий путь, показывая его каждому народу и каждому человеку, глаза которых видят».
«Озноб пробежал по телу Прянишникова, когда он подумал, что бог ему дал и глаза, видящие в тумане, и душу, различающие огоньки. И если нет у него сил говорить в полный голос, то их достаточно, чтобы присоединиться к праведникам и силой своих дум усилить сказанное ими. Перед ним вырисовалась лесенка ступенек дружбы, братства, любви к близким, любви к дальним, любви ко всем людям, достойным любви; она вела прямо к сияющим вершинам, и то, что не каждую ступеньку этой сложной лесенки удалось Прянишникову пройти достойно, не отменяло для него возможности прийти к свету».
Почти параллельно с манифестом сочинялась «чаяно нечаянная» любовная история женщины и мужчины с похоже устроенными мозгами.
Ирина и Дима Третьяков работают вместе, на многое в жизни смотрят одинаково. Когда-то между ними был вероятен, но не состоялся служебный роман. Она замужем, он женат. Женились они по любви и любят свои половинки. Но… Им трудно в мире, где деньги стали значить чрезмерно много. Не легче их супругам и выросшим детям, отчего в семьях не всё хорошо.
Год назад Ирине исполнилось сорок пять, она решила, что пошел обратный отсчет лет, и ей теперь ничего не надо. Третьяков же тосковал от того, что ему нечего предъявить в качестве итогов повернувшей к закату жизни. И даже поговорить, думая вслух и надеясь на понимание, не с кем, если не считать Ирины.
Стечение обстоятельств, всегда готовый обмануть самую разумную голову «чёртов» голос инстинктов и нежданно подступившая к обоим страсть довели-таки моих героев до роковой близости, подобной украденной, которая порушила их дружбу и разлучила родственные души.
«Поздняя любовь» поначалу показалась мне самым точным названием этой повести, от которого позже пришлось отказаться как от занятого другими сочинениями с иной смысловой направленностью. Поздним «любовям» отдали дань и классики, и графоманы, но ни у кого из них, даже сумевших достоверно обыграть двойственность нашего сознания и поведения, я не нашёл того осмысленного переворота греховной слабости к человечности, который попытался вложить в душу своей героини.
«К ней вернулись пойманные вчера настроение безмятежности и медленное время, в которых она четко увидела, как люди убивают любовь и несут в мир ненависть, мучая свою душу и души своих близких. Она с ужасом видела, что тоже участвовала в этом процессе массового помешательства, когда опутывала Антона паутиной долга, а в минуты собственной слабости проклинала его и даже желала ему смерти; когда ненавидела людей, оказавшихся рядом и нелюбящих ее, считая причиной своих душевных болей не себя, а их. Она видела, как любовь уходит, когда люди стараются запастись ею впрок. Как в огороженных для нее, чтобы не улетела, клетках, появляется ненависть и приводит с собой зло, которое начинает разъедать душу. Любовь – вольная птица. Прилетает свыше. Дается всем и не принадлежит никому. Ее можно прогнать или убить, как и все живое, и тогда жизнь станет мукой, потому что петь о радости будет некому. С высоты медленного времени Ирине показалось, что она способна побороться за любовь и многое исправить. В себе она уже не сомневалась, она думала о других, веря, что ее любви хватит на всех».
«Луна двигалась по черному небу слева направо, спускаясь и меняя цвет отраженного света с белого на желтоватый. Ирине казалось, что луна знает, как дрожит её сердце от неизъяснимой любви ко всем людям и ко всему миру, в который перешла её любовь к милому и странному Третьякову. Пусть её любовь несовершенна, пусть люди не замечают её, но она есть, она такая, на какую Ира способна, без обмана».
На эту повесть я получил первые отзывы. Два их них были от графоманствующих писательниц, моих ровесниц, пытающихся испытать то ли на деле, то ли в бреду фантазий самые смелые плотские удовольствия. Рассудочный смысл описанного мной им был безразличен, важной представлялась исключительно биологическая составляющая. Особенно меня разозлила одна дама, посчитавшая подспудные призывы становиться человеками ловким прикрытием радостей страсти, пробуждающих вожделение. Похвалившись собственным романом, которым «зачитываются все» её родственники и друзья, она попросила за деньги помочь ей «переписать моменты истинной близости тем лаконичным стилем, который Вам повезло найти в своей повести».
Тогда же, благодаря моим восторженным читательницам, я задумался над вопросами с подразумевающимися и тяжёлыми для души ответами: о возможности договориться с людьми, недалеко ушедших от нашей обезьяньей природы, о причинах и следствиях их видимого размножения и доминирования в обществе и о разных других, не менее грустных предметах.
За «нас», существование которых я утверждал предыдущей повестью, отвечать было особенно муторно. Либо «мы» исчезающе малы относительно большинства, либо ничтожны наши возможности поисков, либо и возможности малы, и самих нас столь мало, что окликнуть родственную к сопереживанию и человеколюбию душу сравнимо с вероятностью найти инопланетный разум во вселенной.
Жаль, если мои наблюдения и находки, которыми я так старательно опутал своих героев, останутся лишь информационным отчётом перед надмирным наблюдателем, о котором говорил Белкин, да развлечением мне на старости.
Впрочем, интересно представить, как это через сколько-то лет я открою свои книжки и буду удивляться со слезой на глазу увиденному и запечатлённому когда-то.
Ирина напомнит мне про пляжный береговой склон, «по верху которого располагались ряд железных навесов-грибочков с синими, желтыми, зелеными и красными крышами, выложенная красной плиткой пешеходная дорожка и аллея могучих обрезанных тополей», – и про обманно неспешную летнюю грозу. Её глазами я увижу тревожные облака, плотно наплывающие на пляж с потемневшего на западе небосвода, и проникнусь её размышлениями на их счёт и не только.
«Слушая разум, как она делала всегда, следовало испугаться надвигающейся грозы и поспешить домой, но беспечность расположившихся у воды немногочисленных купальщиков, и все еще пробивающееся из-за облаков солнышко уговорили Ирину искупаться. Мягкая и тёплая вода приняла её ласково и долго не отпускала. Когда она вышла на берег, на минутку выглянуло хитрое солнышко и так мило пригрело, что совсем расхотелось уходить. Ирина попросила грозу подождать и улеглась позагорать, подставив солнцу и облакам ноги с упругими икрами и белыми стареющими бёдрами, длинные руки, узкие плечи, плоский бледный живот и тонкую шею с морщинами, выдающими возраст худеньких женщин. Закрыв глаза, она плыла по волнам безмятежности, радуясь игре радужных зайчиков, возвещающей о проглядывавшем солнце, и грустя, когда они пропадали. Когда она совсем загрустила, глаза открылись, и перед ними оказалось затянутое тучами небо. Ирина села, огляделась вокруг. На опустевшем берегу осталась загорелая дама с двумя внучками, из которых старшая, лет десяти, недовольно кривила губы, и две девчонки в белых трусах и темных футболках на голое тело, азартно толкающиеся в воде у берега. Потянул, и всё свежее, ветерок. Переодевшись, Ирина заняла один из грибков. Под соседним молодящаяся бабушка переодевала младшую внучку. Старшая стояла рядом, надувшись. Подростки внизу продолжали баловаться. Одинакового роста, коротко стриженые. Одна плотная, с оформившейся грудью, другая – худая и безгрудая, какой в её возрасте была Ирина. Дождь начался неожиданно и быстро перешел в косой ливень, от которого крыша грибка не спасала. По спине побежал ручеёк, и женщина забралась на лавочку с ногами, просунув голову между поперечинами из металлических уголков, скрепляющих основание крыши. На своеобразном „чердаке“ была паутина в углах и ничего интересного. Ирина выбралась на волю, где гроза разворачивалась во всем великолепии. В черном небе сверкали молнии, реку избивали сильные дождевые струи, ветер делился на несколько меняющихся направлений и гонял дырявую поверхность воды, как хотел, разукрашивая её светлыми и темными кружевами, разбегающимися от берега до берега и во все стороны. Загорелая бабушка переодевалась, стоя босыми ногами на мокром песке. Внучки кутались в покрывало и полотенце. Губастая позабыла капризы, во все глаза глядела на грозу. Напрыгавшиеся под дождём пацанки прибежали под свободный грибок, заскочили грязными ногами на лавку, одели шорты и юбку на мокрые трусы, сжались и дрожали. Ирина не могла на них смотреть, думая, что скоро её зубы застучат от холода не слабее девчоночьих. Когда на горизонте появилась спасительная синева, скрючившиеся под зонтиками люди мысленно принялись подгонять чёрные тучи, которые, казалось, не слушались ветра и уходили невозможно медленно, да ещё вдруг меняли направление и чуть не возвращались обратно. Как их ни уговаривали, верных десять минут ещё тучи ходили над головой, дождь заряжал с новой силой, далёкое прояснение оставалась далёким. Гроза заканчивалась неспешно, как начиналась. И также неожиданно закончилась. Как только последние большие дождевые капли разбились о землю, полнеба сразу стало синим, жаркое солнце принялось согревать всё вокруг, и через пару минут стало тепло, хоть снова плыви. Мокрые девчонки так и сделали, погнав друг друга в воду и визжа от избытка чувств. Река покрылась плавными гребешками, набегающими стройными рядами на песок. Солнечные блики от волн сложились в большое мерцающее светом пятно, вытянувшееся от середины реки почти до играющих девчонок у берега. Такое бликующее пятно Ирина видела в детстве и всегда пыталась забежать по нему в воду как можно дальше, разгоняясь на берегу изо всех сил…»
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе