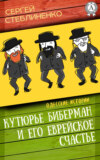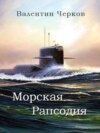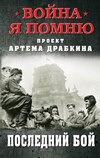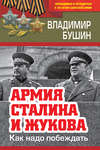Читать книгу: «Мы – люди флотские. Жизнь и приключения курсантов ВВМУРЭ. 3 факультет, выпуск 1970», страница 4
Глава вторая. Долгий путь к ленточкам. Воспоминания, необходимые для понимания
Дорога домой
После принятия присяги мы получили вознаграждение: первое увольнение! Оно, к сожалению, было коротким – всего несколько часов, но запомнилось очень чётко и надолго. Выйдя из училища вместе с огромной толпой первокурсников, с трудом втиснулся в автобус, слегка помятый добрался до станции Новый Петергоф, где удалось заскочить в вагон трогающейся электрички, с риском разжав почти схлопнувшиеся двери.

Курсант 1-го курса Филиппов Игорь в первом увольнении
Электропоезд набрал ход, и я, стоя в тамбуре вместе с другими курсантами, счастливо улыбался: совсем скоро увижу маму и бабулю, родных людей, так долго ожидавших меня. В кармане месячное денежное довольствие: 7 рублей 80 копеек, и я чувствовал себя богачом.
Станция Броневая. Из вагона выскочило около десятка курсантов. Некоторых знал давно, ещё по дворовому детству; одни повернули, так же, как и я, к улице Автовской, другие – в сторону Московского проспекта.
Натоптанный просёлок с остатками разбитого асфальта вёл мимо хорошо знакомых прудов. В тёплые летние деньки наша компания подростков обычно собиралась на берегу вот этого заливчика с заросшими камышом берегами. Здесь мы плавали наперегонки, ныряли, соревнуясь на дальность, ловили водяных ужей, которыми пугали девчонок, загорали под неярким ленинградским солнышком, играли в карты, курили, пили квас и пиво. Курили отечественные сигареты «Аврора» за 14 копеек, позже – болгарские «Шипка», «Пчёлка», «Джебел». Были и «продвинутые» парни, дымившие «Беломором». Пиво приносили в бидонах в разливном виде, из ларька, стоявшего на пригорке, на пересечении улиц Васи Алексеева и Автовской. Пиво было основательно разбавлено водой, но нам было «до лампочки»: несколько глотков давало приятное ощущение взрослости. Квас продавался из больших металлических бочек, завозимых в постоянные места на улицах. В нашем районе – на пересечении улиц Васи Алексеева и Зайцева. Можно было купить за несколько копеек большую или маленькую кружку вкусного напитка. У ларька с пивом и у бочек с квасом всегда стояла очередь желающих, многие – с бидонами.
Миновав пивной ларёк с крикливой продавщицей, вспомнил, как отец любил выходить по воскресеньям к этому ларьку, одетый по «гражданке», пить с мужичками пиво и неспешно вести разговоры о политике, о спорте, о любимой ленинградской футбольной команде «Зенит», в то время не блещущей успехами… Пара кружек, и – домой. Отец… как же рано он ушёл из жизни…
…
Подошёл к переходу через железнодорожный путь, ведущий к «Кировскому заводу». И снова вспомнил недавнее, когда подростками мы цеплялись за идущие товарные поезда, бегали и прыгали по платформам и вагонам, рискуя стать калеками или того хуже.
А ещё бывало так: часто товарняк стоял подолгу, перегораживая проход на станцию Броневую. Людям приходилось либо ждать, либо обходить длиннющие составы. А мы – нетерпеливые бесшабашные ребята, ждать не хотели, пролезая под вагонами, которые могли в любой момент тронуться. Тем ребятам, кто не успевал перекатиться через вторую рельсину, приходилось оставаться под вагоном и, потея от страха, пропускать состав над собой. Пару раз это приключение пришлось испытать и мне.
Перейдя железную дорогу, привычно окинул взглядом окрестности и улыбнулся:
– Дымят, дымят трубы-то… дымят так же, как и раньше…
А и правда: многочисленные дымы «красили» небо разноцветными красками, привычно сливаясь с низкими ленинградскими облаками. Самый тёмный дым выбрасывала ТЭЦ Кировского района, самый светлый – ДСК на Автовской улице; вносили свою лепту «Кировский» и «Ждановский заводы», небольшая мебельная фабрика, паровозы-кукушки, снующие по железнодорожным путям, и ещё десятки мелких дымков неведомых производств…
Калининградское детство
Мои мысли устремились в калининградское послевоенное детство, когда все родные были ещё живы и здоровы, когда во всех нас, и в детях, конечно же, жило чувство огромной гордости за недавнюю Победу над страшным врагом. Даже я, родившийся после войны, в год Победы, хорошо ощущал это.

Июнь 1941. Командир 1 бригады торпедных катеров ЧФ капитан 2 ранга Филиппов Андрей Михайлович. Ноябрь 1944. Командир Потийской ВМБ контр-адмирал Филиппов Андрей Михайлович
Отец, боевой военно-морской офицер, всю войну геройски сражался с немецко-фашистскими оккупантами на Черноморском Флоте, три самых страшных года командовал Первой бригадой торпедных катеров, после освобождения Севастополя стал первым командиром Севастопольской Военно-морской базы, а в ноябре 1944 года – в 35 лет – получил звание контр-адмирала, став самым молодым адмиралом в истории Советского ВМФ. В его бригаде шесть офицеров получили за время войны высокое звание Героя Советского Союза. Потом, из-за последствий тяжёлого ранения, он уже не мог служить в строевых частях, был назначен начальником Бакинского Военно-Морского подготовительного училища. В 1947 году училище перебралось в Калининград, было преобразовано в Калининградское ВВМУ (в будущем – 2-е Балтийское ВВМУ). Отец долгое время служил начальником училища, воспитывая молодых офицеров.
Всё моё раннее детство прошло в Калининграде (бывшем немецком Кёнигсберге). Наша семья жила на территории училища в помещении, приспособленном под квартиру. Лет с четырёх я проводил на территории училища всё своё время, изучая окружающий мир, жадно впитывая в себя военно-морской дух. С пяти лет я уверенно говорил на морском жаргоне, чётко произнося два известных слова с ударением на последний слог: компАс и рапОрт. Помню удивление отца и его довольную улыбку, когда я впервые поведал ему, что, когда выучусь грамотно писать (читал я хорошо с четырёх лет, спасибо маме), то обязательно подам рапОрт, чтобы меня зачислили в курсанты.
На Новый 1952 год отец подарил мне книгу замечательного писателя Игоря Евгеньевича Всеволожского «Уходим завтра в море», изданную в 1948 году. В ней увлекательно рассказывалось о приключениях двух друзей-нахимовцев: Никиты Рындина и Фрола Живцова. А в 1955 году за отличное окончание 2-го класса меня наградили книгой «В морях твои дороги», того же автора. Книга была с дарственной надписью от директора школы. Каково же было моё удивление, когда содержание этих двух книг полностью совпало! Отец объяснил, что это называется переизданием с другим названием, и что так решил автор. Я с удовольствием прочитал и подаренную директором книгу. Обе книги долгое время стояли на моей книжной полке рядышком, тесно прижавшись бортами. Конечно же, после этих книг и такой увлекательной жизни в училище, я много лет мечтал о Нахимовском училище и о флотской службе.
Однако было и ещё одно увлечение, которое осталось со мной на всю жизнь. Это любовь к Природе и всему, с ней связанному, а особенно – изучению птиц, иначе – орнитологии. Приучил меня ко всему этому отец, страстный охотник и рыбак. Особенно – правильному отношению к лесу, вообще ко всему лесному. Я был совсем маленький, когда отец впервые привёл меня в лес. Это случилось у него на Родине, в Тверской области. Уже тогда, пребывая в очень малом возрасте, я ощутил – и до сих пор помню то, что в тот момент почувствовал – Волнение Души! Это Волнение не покинуло меня и сейчас, в преклонные годы. Лес воспринимаю как Храм, как некое Место, в котором людям следует жить по его правилам. Подобное Волнение Души возникает во мне ещё и при виде моря, особенно штормового.
Позже, в старших классах школы, я так и не смог сделать выбор между этими моими увлечениями. Окончательный выбор сделала за меня Судьба.
Бабулина коммуналка
Постепенно я приближался к дому. Наша семья – семья военно-морского офицера – до 1960-го года своего жилья не имела, часто переезжая с места на место: из Ленинграда на Дальний Восток, потом в Севастополь, в Одессу, где я родился, затем – в Баку, в Калининград, в Румынскую Констанцу, в Ленинград… Из-за переездов я учился в шести школах, иными словами – осваивался в шести коллективах. Когда нам с братом Олегом нельзя было сопровождать родителей, нас «подкидывали» в Ленинград, бабушке Марии Ивановне, в её коммуналку на шестом этаже старинного семиэтажного дома на углу Седьмой Красноармейской улицы и Измайловского проспекта.

Семья Филипповых. Баку. 1947 год
В этой коммуналке на шестнадцать (!) семей, с конца XIX века жила семья моего деда Алексея Васильевича Иванова (погиб во время блокады Ленинграда в 1943 году) и моей бабули Мани – Марии Ивановны Ивановой (Колесовой). Здесь родились их дети: моя мама Нина Алексеевна, дядя Пётр Алексеевич (был снайпером во время войны с финнами, а в Великую Отечественную воевал на Ленинградском фронте в ПВО), дядя Николай Алексеевич (краснофлотец-балтиец, младший командир, пропал без вести на острове Эзель в 1941 году), дядя Анатолий (в 15 лет погиб во время блокады Ленинграда). Я хорошо помнил – из своего раннего детства – бесконечно длинный коридор бабулиной коммуналки, ведущий к огромной кухне с четырьмя газовыми плитами (по одной конфорке на семью) и двумя раковинами для мытья рук и лица, ванную комнату с графиком помывки каждой семьи, гальюн на три «очка». В кухне на маленьких столиках стояли вонючие керосинки, поскольку газовых конфорок не хватало. На тёплых стенах кухни шевелились полчища тараканов. В четыре года добраться до гальюна или до кухни было настоящим приключением.
Чудесная советская 266-я школа
Позже – в конце 50-х годов прошлого века – я снова жил пару лет у бабули, обучаясь в шестом и полгода в седьмом классе школы № 266 на углу улицы Егорова и набережной Обводного канала. В это время отец служил в Румынской Народной Республике, в должности старшего советника главнокомандующего флотом Румынии. Мама была с отцом. И я тоже жил с родителями в приморском городе Констанце, два года, учась в четвёртом и пятом классах советской школы, пока Никита Сергеевич Хрущёв не вывел из побеждённой (тогда было принято говорить освобождённой) Румынии нашу Армию. В Румынии были советские и румынские друзья-товарищи, спокойное и штормовое Чёрное море, птицы, дельфины, пещеры, рыбалки и охоты с отцом, иными словами – множество приключений, некоторые – весьма опасные.
Ленинградская школа № 266 была обычной советской школой с прекрасными учителями и удивительными кружками-секциями, где любой ученик мог найти занятие по душе. Кроме школьных кружков, можно было записаться в любую спортивную, либо ещё какую-нибудь районную или городскую секцию. Даже в Ленинградский Дом Пионеров. И всё совершенно бесплатно. В школе действовал отличный стрелковый кружок, где занимались многие мальчишки из нашего класса, даже некоторые девчонки. Стреляли в тире, в подвале школы. Сначала из пневматичек, а потом – освоив правила безопасности и получив навыки стрельбы – из мелкашек. Проводились соревнования на первенство школы, района, города.
Мы с товарищем-одноклассником Сергеем Колодяжным с удовольствием трудились в районном Доме Пионеров, в кружке «Юный жестянщик». Современным ребятам не понять нашего стремления сделать какую-либо полезную вещь своими руками, мы же с Серёгой радовались каждому кривоватому ковшику или кружке, рождающейся в наших руках. Шедеврами стали бидоны для молока, сделанные «высококачественно», как оценил мастер-жестянщик нашу работу. Бидон, который я отнёс в подарок бабуле, долгое время использовался по назначению, а самое главное – не протекал ни при каких обстоятельствах!
Мы – опять же с Серёгой – сначала записались в спортивную секцию классической гребли в гребном клубе, но, походив с месяц, «переписались» в яхт-клуб. Всю зиму с увлечением помогали готовить парусные яхты к спуску весной на воду, но дальнейшему развитию событий мне помешал очередной переезд в новую квартиру в Автово, и с клубом пришлось расстаться, а Серёга продолжил, ходил в плаванье на паруснике «Товарищ», «дослужился» до звания «яхтенного рулевого».
Кроме Серёги Колодяжного, я помню ещё несколько парней-одноклассников по школе № 266: высокого, рыжеватого и веснушчатого Валерку Панкова, с которым вместе стреляли в тире, толстого Певзнера (имя забылось), всё время что-то жевавшего, и Олега Тетелева, снабжавшего всех желающих пластинками на рентгеновских плёнках, как тогда говорили – «на костях». Олег представлял собой прообраз будущего «предпринимателя», так как снабжал он пластинками отнюдь не бесплатно. Именно тогда я впервые услышал знаменитый «Rock Around the Clock» в исполнении Билла Хейли и его группы «The Comets», многие другие музыкальные «штучки» иностранных «лабухов». Олег прекрасно танцевал рок-н-ролл и твист, чему мы – прочие ребята – немного завидовали, и, конечно же, тайно осваивали эти живописные танцы. Не избежал этого и я.
Как и почти все ребята того времени, я увлекался коллекционированием монет и марок. Особенно увеличились мои коллекции в Румынии, где, играя с румынскими парнями «в пристеночку» и другие занимательные игры, я одновременно пополнял свою «казну» румынскими, болгарскими, турецкими, арабскими, греческими, персидскими и множеством монет прочих государств разных лет. Зная моё увлечение марками, отец и мать, посылая нам с бабулей письма из Румынии, каждый раз наклеивали на конверт одну-две новых румынских марки.
Рассказы о блокаде
Вечерами, после посещения очередного кружка, я быстро-быстро делал уроки, а потом мы подолгу беседовали с бабулей. Обычно эти неспешные разговоры происходили за вечерним чаепитием и продолжались допоздна. Меня интересовали пережитые бабулей события недавней войны, чрезвычайно трагические для неё: ведь она потеряла за три года мужа и двух сыновей…

Мои ближайшие родственники-ленинградцы, погибшие в Великую Отечественную Войну: дядя Николай Алексеевич, дядя Анатолий Алексеевич, дед Алексей Васильевич
Её дореволюционные и блокадные воспоминания достойны отдельной книги. Особенно часто я просил бабулю рассказать о моём дяде Толе, Толике – как называла младшего сына бабуля. Она показывала мне из окна голубятню на крыше противоположного дома: когда-то в этом месте располагалась голубятня Толика. В то время голубей гоняли многие, как подростки, так и зрелые мужики. Зрелых было больше. Голуби продавались на рынках, на которых были выделены особые зоны для голубятников. Голубятни строились не только на крышах, но и просто на пустырях. Лишь бы было подходящее место. В войну Толик, как и большинство ленинградских ребят, дежурил на крыше и тушил зажигалки. Однажды бомба попала в его голубятню и зажгла её. С риском загореться Толику удалось освободить птиц. Но у некоторых голубей, вылетевших на волю, горели перья. Эти птицы рушились вниз, во двор, пылающими факелами… Когда бабуля рассказывала эту историю, у меня перед глазами отчётливо возникала картина огненного налёта фашистов и героя подростка, выпускающего голубей на волю…
В другой вечер бабуля рассказала о пробившей крышу и седьмой этаж немецкой бомбе, не разоравшейся, и застрявшей в комнате соседей по фамилии Красильниковы. Я хорошо знал этих соседей, поэтому назавтра напросился к ним в гости, чтобы посмотреть, в каком месте торчала бомба. И совершенно зря, потому что после ремонта даже следочка никакого не осталось.
Как-то раз бабуля поведала печальную блокадную историю о траве, съеденной подчистую голодными людьми на склонах Обводного канала, и как она сама эту траву ела. Я рассказал эту историю одноклассникам, и мы всем классом на большой перемене побежали на Обводный канал посмотреть, где растёт эта трава. Однако прибежав, увидели, что в Обводном канале торчит крыша грузовика-полуторки, свалившейся с моста перед Варшавским вокзалом, и стали наблюдать, как мощный кран достаёт грузовик из грязной воды. А о траве забыли… Да… забыли тогда, а память взяла и напомнила мне об этом сейчас, в эту минуту моей жизни. И хорошо, что я тогда запомнил рассказ бабули, проникся её чувством, чтобы в будущем рассказать об этом своим детям, внукам, и другим людям.
И снова школа новая…
Вот и наш дом. Сразу вспомнилось, как мы получили эту двухкомнатную квартиру по адресу улица Васи Алексеева, дом 30, квартира 29. В 1960 году отец служил начальником факультета иностранных офицеров-слушателей в Военно-Морской Академии. Ему выделили квартиру в микрорайоне Кировского района, называемом по-простому «морским», так как квартиры в этих новых домах выделялись в основном семьям военно-морских офицеров, в то время ещё служившим и, как правило, прошедшим войну. По утрам можно было видеть обилие морских фуражек с белыми чехлами летом и чёрными – зимой. Через какое-то время подросшие сыновья и внуки этих офицеров, поступив в Высшие Военно-морские училища, продолжили семейные традиции, и снова микрорайон между улиц Васи Алексеева, Зайцева и Автовской «оделся» в форму военных моряков.
Поэтому большинство моих дворовых приятелей были сыновьями или внуками военно-морских офицеров. Первым, с кем я познакомился после переезда весной 1960-го года, был Толька Смирнов из соседнего дома 46 по Автовской улице. Из школы № 266 меня перевели в школу № 17 (теперь № 480), по адресу улица Строителей, дом 7 (теперь улица Маринеско), расположенную во дворе за станцией метро «Автово». Это было 4-этажное кирпичное здание с 4-мя белыми колоннами при входе, построенное ещё в 1937 году. И надо же было так случиться, что я попал именно в тот 7-й класс, где Толька верховодил. Среди ребят в этом классе учились Валерка Шелевахо и Юрка Кривошеев, с которыми мне предстояло встретиться через несколько лет во ВВМУРЭ. А ещё Лёнька Шлионский, из соседней парадной нашего дома.
Слегка «влип»
Для начала Толька показал мне кратчайший путь к школе: дворами и закоулками, что было гораздо интереснее, чем шагать по улицам. Обычно по пути в школу Толька курил. В затяг. В то время и я пробовал курить, но не в затяг, лишь бы не отличаться от других парней.
Я не понимал прелести курения, более того, мне казалось, что и другие ребята тоже притворяются, через силу заглатывая дым в лёгкие. Заметив моё притворство, Толька принялся учить меня курить по-взрослому. Для начала уговорил «свистнуть» у отца пачку крепчайших румынских сигарет, объяснив, что мой отец не заметит, предпочитая «Беломор» фабрики Урицкого. После первых сильных затяжек у меня очень закружилась голова, около часа я лежал на скамейке – приходил в себя… А Толька сидел рядом и смеялся.
Потом он выпросил у меня трофейный кортик фашистского офицера ещё Кёнигсбергских времён, когда мы совсем малыми ребятами искали немецкие клады и оружие в развалинах разрушенного войной немецкого города. Выпросил на время и… не вернул вообще. Когда я спросил про кортик, Толька тут же ответил, что дал знакомому, а тот взял да и продал. Я сразу понял, что Толька врёт, но не мог ничего поделать с этой ситуацией: надо было признаваться отцу, а он ничего не знал о немецком оружии. Так я навсегда распрощался с кортиком из моего детства и, конечно же, перестал доверять Тольке.
Толька часто продавал ребятам в школе и во дворе какие-то вещи, в основном иностранного производства, снабжал всех желающих не бесплатной «жвачкой», приносил порнографические фотографии. Он занимался фарцовкой, не скрывая этого в среде ребят. Более того, он неоднократно предлагал заняться тем же и мне. Разобравшись в Толькиных интересах и его вероломстве, я каждый раз говорил «нет». После нескольких отказов Толька потерял ко мне интерес, чему я был очень рад. Закончил он плохо. После окончания 8-го класса его семья переехала в Ростов, где Толька связался с бандитами и – по слухам – получил срок, а позже – скончался от ножевого ранения.
Шахматной доской да по башке педиатру!
С Лёнькой Шлионским мы подружились на почве коллекционирования, чтения книг и любви к шахматам. Его отец, офицер-подводник, капитан 1 ранга Моисей Львович Шлионский, командовавший подводной лодкой на Черноморском Флоте в годы Великой Отечественной Войны, мечтал и из сына сделать подводника, но не срослось: в Прошедшем Будущем Лёнька, он же Леонид Моисеевич Шлионский, станет врачом-педиатром. Но это случится потом, а пока мы в запой читали Ильфа и Петрова, «Двенадцать стульев» и «Золотого телёнка». Конечно же, и другие книги. В то время все дети и подростки много читали, поэтому наши разговоры с Лёнькой были насыщены цитатами, к месту и не к месту. К примеру, желая меня слегка задеть, Лёнька часто повторял непонятную фразу:
– Когда ты был молодым, Моисей ещё не вылез из пелёнок!
В ответ я шпарил ему по-простому, из любимого фольклора североамериканских индейцев:
– Любопытно, на сколько оборотов завернётся твоя башка, прежде чем хрустнут позвонки!
А потом мы дружно и весело смеялись!
Играя в шахматы, выигрывал больше я, а Лёнька злился и в злобе «сливал» мне одну партию за другой. Как-то раз, проигрывая очередную партию, он смухлевал в манере Остапа Бендера, незаметно убрав мою фигуру из игры. Тогда я, схватив шахматную доску вместе со стоявшими на ней фигурами, трахнул Лёньку по башке. Не здоровались и не играли в шахматы около месяца… Потом помирились.
Лёнька коллекционировал монеты, но его коллекция была в зачаточном состоянии. Надо было видеть, какими глазами Лёнька смотрел на моё «богатство». И ведь дождался, хитрец, своего счастливого момента: когда я увлёкся романтикой геологии и захотел стать геологом-поисковиком, даже сделал геологический молоток и начал собирать всякие камни и минералы, обыскивая автовские дворы и закоулки, Лёня упросил меня выменять коллекцию монет на десяток камней, возникших у него из неизвестных источников. В конце концов, поддавшись на его хитрые уговоры, «махнулся»…
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе