Объем 310 страниц
2025 год
Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи

Начислим
+19
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе
О книге
Книга именитого религиоведа и философа Ильи Вевюрко – взвешенное рассуждение о русском пути и церкви, о древнерусском рецепте величия и праве Руси претендовать на римское имперское наследие.
О том, как известный постулат старца Филофея «Два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать», касается нас сегодняшних.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Сильно и глубоко. Историософия на хорошем научном уровне, без лишней публицистики. Автору не занимать мужества – он явно осознаёт, на какие и чьи «мозоли» наступает, и тем не менее, раскрывает тему без лишних экивоков вправо / влево, стараясь придерживаться исторической (и духовной) правды.
Если кратко:
«Третий Рим» – это не о земном царстве, это об ответственности: гонимая в Византии, Церковь вверяет себя русскому народу, чтобы он сохранил в чистоте православную веру. А так как никакой народ (и государство) не могут быть совершенными, то сохранить чистоту веры можно только в покаянии, в осознании своего недостоинства. Такая вот «амбивалентность» – знание «о своем избранничестве и видении своего несовершенства». Страна «освящается Церковью», но если уходит смиренное осознание греховности, то остается «простодушная патриотическая легенда».
Иначе говоря, Третий Рим – это не «бряцание» красивой фразеологией имперской идеи, когда Россия кичится своим величием, «самопрославляется», погрязнув при этом в гонке за земным благополучием – «мамоновым» царством. Третий Рим в исходной «формуле» старца Филофея – это миссия «охранения» Православия, которая не осуществима вне осознания своего несовершенства и, следовательно, без покаянного чувства перед Богом. Бедствия – это наказание, а значит – призыв к покаянию. Покаяние – это не раскаяние в отдельных «исторических ошибках», а путь «отрадный» исправления, изменения себя – нравов, ума, жизненного настроя. «Покаяние – это признание нашей неправоты, несовершенства перед Богом и обращение к Нему за помощью». Если у народа этого нет и «земное царство» довлеет, то не может раскрыться Третий Рим, он остается лишь «красивым словом», которым прикрывают что-то не такое уж возвышенное.
Вся история трагична, ибо двойственен, несовершенен человек, и одинаково неправильно как очернять ее, так и «покрывать позолотой». Из нее нужно извлекать уроки и делать выводы к исправлению «ума» и, следовательно, жизни. Когда Россия каялась, Бог миловал ее, а когда коснела в нераскаянности – попускал великие бедствия.
Немного подробнее: Само понятие Третьего Рима разбирается в его исконном значении – от старца Филофея, хотя, как показывает автор, Филофей лишь озвучил идею, которая жила и до, и «вокруг» него. В том году, когда было написано послание, весь христианский мир был охвачен апокалиптическими страхами, инспирированными языческими астрологами, усмотревшими в расположении светил якобы признаки конца света. Христиане тоже повелись на эти «страшилки» и старец Филофей, сам прекрасно разбиравшийся в астрономии, призывает не поддаваться паническим настроениям, а хранить верность Христу. Церковь, гонимая в бывшей Византии, укрывается «в пустыни» – на Руси, и миссия ее – сохранить православную веру. Истинной веры не может быть без покаяния, а потому именно сохранение покаянного духа, а не стремление к земному совершенству, является залогом стояния в Православии.
Не церковь ради государства, а государство ради Церкви, как хранитель ее. Сам Иван Грозный, исповедуя свои и народные грехи, просит иерархов судить его и народ, если они отступят от «закона христианского», но и архиереям не обещает «поблажек», если такое отступление допустят они. То есть иерархия такая: выше всего «закон христианский», понимаемый как Церковь в своей небесной и земной полноте, далее – земная церковь как институция, потом уже царь и вверенная ему Богом власть. Грозный не желает «государства всея вселенныя», не хочет разменивать на него «удел в будущем веке». Бедствия воспринимаются как наказание Божие, и правильная реакция на них – народное покаяние, когда массово накладывался пост, и в покаянии народ, церковь, царь, государство испрашивали у Бога прощения и помилования. То есть, не априорно «мы русские – с нами Бог», а Бог с нами, когда мы с Ним. «Богоизбранность» – не индульгенция, а сугубая ответственность перед Богом, не оправдал – терпи наказание = принимай вразумление.
Что происходит дальше в истории? Постепенно в XVII веке, а потом уже стремительно при Петре, иерархия ценностей меняется. Царь (император) ставится на первое место, церковь ему подчиняется, отношения перестраиваются на протестантский манер. Земное величие, а это и богатство, и имперская экспансия (не принесшая, кстати, особых стратегических преимуществ России – она так и не стала «новой владычицей морей», а лишь «смотрела в окно» на Европу), и даже «циклопические» подражательные архитектурные формы Петербурга, – все это было лишь подменой идеи Небесного Царства царством земным. Царь заботится о земном благе народа, так что народ, поклоняясь царю, «разрывается» между поклонением Богу и мамоне.
Дальше – больше. Под видом «защиты христиан» возгреваются надежды на «вселенское царство», куда входило «обретение» Царьграда – Константинополя. К середине XIX века идея «дорастает» до попытки реального воплощения и оборачивается крахом в Крымской войне. Правильной реакции – покаяния и признания праведности наказания Божия – не было, было дальнейшее «коснение» в «великодержавности». Следующим «звоночком» стала Русско-японская война. Поражение в ней тоже было неизбежным, и, как писали тогда святые Николай (Японский) и Иоанн Кронштадский, это была справедливая кара Божия, перед которой надлежало смириться и духовно исправляться («не получили небесной, всесильной помощи по грехам нашим тяжким … но зато достаточно было уверенности в безнаказанности и оправдании на суде!»). Но инерция земного имперского «величия» продолжала действовать, и все закончилось падением «Третьего Рима» в 1917 году. Большевики исполнили роль «жезла Божия», а «глубинная» Россия в лице мучеников (в их числе и Царская семья), простого народа и верных из числа эмиграции стала опять той «женой в пустыни», сохранив верность и веру, а значит и сам «Рим».
Большевизм победил идеей справедливости, ставшей «в народном сознании … все тем же идеалом благочестивого царства» – «доморощенным» вариантом эсхатологической ереси. При этом и вера в Бога не ушла, по переписи 1937 года верующих оказалось большинство. Затем война – покаяние – Победа – опять охлаждение веры – хрущевские гонения. Утрату веры в коммунизм пытались компенсировать сакрализацией Победы, но ни то, ни другое не может заменить веры в Бога, неотделимой от покаяния. Церковный ренессанс 1990-х называли «вторым крещением Руси», но это неправильно: в Православии «вторым крещением» называют покаяние, а его-то в массе народа не было. Было внешнее возрождение, «золочение куполов», количество священников и приходов выросло более чем в 4 раза, а процент «практикующих верующих» остался неизменным (3%). Не выдержала РПЦ (в отличие от Грузии, Болгарии и Белоруссии) и испытания «моровым поветрием» (ковидом), едва слышен ее голос против абортов, «эпидемии сквернословия», деградации семьи, «гаджетизации детства» и др. В общем, сейчас Третий Рим «пребывает в глубоком кризисе», не проявляя себя главным – покаянием. «Покаяние блокируется самопрославлением». «Грустно разочаровываться в самих себе, незаметно впавших в пафосное лицемерие и выдавших желаемое за действительное».
Все правильно. Можно только добавить, что «трясет Господь» землю, чтобы обратить нас к Себе, но мы в массе своей «прилепились» к ней, обманываясь «перспективой» земного «Третьего Рима».
О чем. Как возникла и на чем строилась концепция величия Москвы и России, как она конструировалась, какие инструменты и технологии использовали ее архитекторы, строители и реставраторы.
Структура. 4 главы • Логика Филофея. • Рим и Иерусалим. • Осечки и срывы. • Перемена царства.
Почему интересна. Автор раскрывает особенности появления и развития одного из важнейших идеологических концептов в российской истории.
Недостатки. Много важных замечаний и выводов о начальном этапе формирования идеи, но слишком мало о том, как развивалась идея в имперской России, как и почему эта концепция востребована в актуальном политическом пространстве.
Для кого. Для тех, кто изучает интеллектуальную историю страны и конструирует смыслы современной российской государственности.
Уровень. Любители, продвинутые.



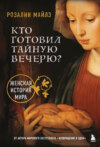


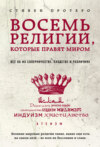
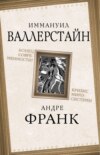


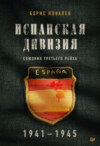
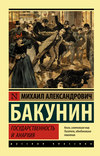
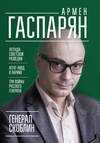

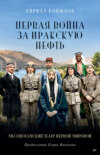



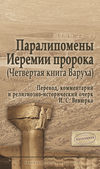
Отзывы, 2 отзыва2