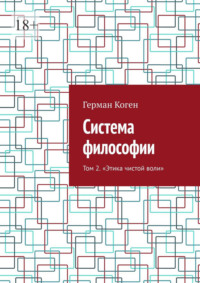Читать книгу: «Система философии. Том 2. Этика чистой воли», страница 8
Это самое густое и вредное предубеждение, с которым приходится бороться чистой воле, – что она может укореняться только в настрое и проявляться только как настрой. Наш упрёк заключается не в том, что внутреннее настроя не может проявиться; напротив, чистая воля должна его проявлять; но вопрос в том, должен ли настрой быть единственным, что проявляется, как если бы само проявление, выход в явление и приведение к явлению не имели собственного значения и нравственной самостоятельности.
Согласно обычному представлению, нравственность, то есть чистая воля, заключена в настрое. Он есть внутреннее, и только оно имеет значение. Внешнее – это нечто поверхностное, второстепенное, чужое, что вообще не относится к делу. В этом и заключается ошибка. Так воля попросту превращается в мышление. То, что она переходит в поступок, – это уже другой вопрос. В этом заключается лишь внешнее проявление, к которому воля словно бы приговорена. Но действительно ли для воли внешне и несущественно, что она выражается в поступке? Разве для неё достаточно, разве она выполнила бы своё понятие и свою задачу, если бы оставалась погружённой в настрой?
Здесь мы сталкиваемся с серьёзным противоречием между этикой и религиозным взглядом. Вся двусмысленность религии заключена здесь, как в орехе. И эта двусмысленность касается не теоретических интересов разума, а этических; причём вплоть до популярного уровня – основного морального воззрения. Конечно, нельзя сомневаться в добром смысле, который религия связывает с настроем. Религия возникла из язычества, то есть из жертвенного культа. Жертва имеет обширное меню; она простирается от культа Молоха и Астарты до жертвоприношения животных и его символических пережитков. Против такого понимания богослужения как нравственности религия должна была возразить. Эти поступки не могли оставаться достаточным выражением чистой воли. Против этих поступков пророки и апостолы призывают совесть. Бог видит сердце. Познать Бога – значит любить Его и служить Ему. Бог настроя – это Господь; так, пожалуй, можно перевести множественное число слова, которое в единственном числе означает знание и понимание. Так и в Новом Завете настрой был подчёркнут в значительной степени. Истинное богослужение, недвусмысленный нравственный поступок, заключается не в формальном соблюдении обычаев, которым Ветхий Завет и Талмуд, хотя и в отличие от чисто нравственного, но всё же в живой связи с ним, придавали характер и ценность религиозного закона. Это ясная историческая тенденция, которая стала и осталась решающей. Тем не менее, и здесь сразу же проявились двусмысленности, неизбежные при таком игнорировании поступка, при такой заострённости настроя.
Уже нападки на закон переходят границы, поскольку под законом понимается не только обряд, но в смелой последовательности мысли затрагивается и нравственный закон в десяти заповедях. И далее, как могла бы какая-либо религия отказаться от богослужения молитвы и праздничного собрания? Разве чистая этика могла бы или должна была бы отказаться от собрания людей для нравственных мыслей и чувств? Одностороннее подчёркивание настроя выдвигает односторонний элемент мышления; и эта односторонность становится тем опаснее, если это мышление так и не способно достичь познания. В языке Нового Завета эта трудность уже заложена в слове для настроя (διάνοια). Это то самое слово, которое Платон выделяет для самой строгой формы научного мышления – математического. И это абстрактное мышление или что-либо хотя бы отдалённо сравнимое с ним могло бы стать движущим мотивом воли?
То же слово в греческом языке, конечно, встречается и для обозначения мышления вообще и для углубления сознания, близкого к настрою. Тем не менее, религиозное словоупотребление вряд ли развилось бы до такой выразительности, если бы мысль не проистекала из основного отношения, из взаимосвязи Бога и человека. Бог обладает мышлением, которое одновременно есть воля, потому что оно одновременно есть действие и исполнение. Кроме того, только Бог испытывает и знает самое сокровенное в людях. Поэтому для Него настрой является предметом знания, так же как Его знание как воля наполняет и исчерпывает его. Человеческая, нравственная оценка, конечно, должна указывать на этот источник для зарождения и развития воли, но она никогда не должна рассматривать его исключительно как симптом и достаточное основание для объяснения воли. Иначе возникает духовная гордыня; переоценка способности и компетенции ясно и чисто изложить, распознать и оценить последнюю основу воли. Исполнение тогда считается чем-то внешним, не требующим глубокого внимания; ведь оно несовершенно в отношении ясности и последовательности. Однако то, что этот недостаток неизбежно присущ всякому поступку, и что в этой несовершенности совершается всё наше действие, как, соответственно, и вся наша оценка наших поступков, – эту необходимую скромность нашего практического нравственного суждения при этом игнорируют. И всё же это – главное основание и защита настроя.
Мы стоим в этом пункте перед шибболетом в истории религии. Умонастроение становится верой в борьбе против дел. Конечно, если дела – это церковные жертвенные обряды, и если они должны быть непогрешимым и достаточным свидетельством умонастроения, то против них необходимо призвать веру. Но двусмысленность начинается, когда поступок тем не менее называют плодом веры. Если он – плод, то цветение должно оказывать влияние вплоть до распускания почки. Оно не должно превращаться в отпадение умонастроения. Вплоть до самых крайних ответвлений поступка умонастроение должно соучаствовать.
И оно должно с самого начала и до конца стремиться к этому вытеканию в поступок. Здесь нельзя предаваться иллюзии, будто поступок – естественный результат, который возникает сам собой; напротив, необходимо признать внутреннюю связь между умонастроением, между верой и поступком. Но если поставить вопрос таким образом, то нужно перейти к другому вопросу: можно ли приписать умонастроению, а значит, и мышлению исключительную способность производить поступок; не должен ли, скорее, наряду с мышлением приниматься во внимание ещё один психический фактор – воля, для порождения воли.
Заблуждение, которому мы противостоим, можно обнаружить и вне религиозной сферы; оно не является исключительно свойственным религиозной предвзятости. В обыденном, причём не только популярном, размышлении подобным же образом отличают намерение от поступка. Оно обозначает ту значимость, которая приписывается мышлению в отношении поступка. Кажется, между ними лежит широкая пропасть; но намерение должно легко её перекрывать. Эту расширенную власть мышления не стали бы ему приписывать, если бы во всё моральное мышление не вмешивался всеохватывающий и господствующий основной концепт: понятие цели.
Сразу видно, как принципиальная борьба Спинозы против цели связана с его акцентом на аффекте. Если моральное мышление должно было стать аффектом, то цель должна была быть изгнана. Действительно, цель скрывает дистанцию, которая лежит между мышлением и поступком. Ведь цель также называется мишенью; как и то, и другое имеют одно и то же слово с концом. Цель, кажется, лишь мыслится; но поскольку она также есть конец и мишень, то и мишень лишь мыслится; лишь как предвосхищённый конец. Тем самым аффект полностью выпал бы.
Впрочем, уже для Сократа понятие есть не что иное, как цель. Поэтому у него мораль – это лишь знание. Предмет, понятие знания для него одновременно есть цель воления. У Аристотеля же логика и теология соединяются в своеобразный тип метафизики в основных понятиях субстанции и цели. Оба отождествляются им. Поэтому цель теряет открытый вид теоретического понятия и приобретает значение непосредственного побуждения, достоинство творческого принципа. Таким образом, посредством цели намерение утверждается и обосновывается в праве считаться достаточным основанием поступка. Намерение представляется как субъективная сторона цели, которая есть всеохватывающее объективное основание всякого действия и всякого бытия; творческое основание бытия.
Однако уже обыденное размышление, несомненно, столь же сильно побуждаемое практикой юстиции, как и религиозными формами обетов, стремится уточнить намерение таким образом, чтобы оно не могло абсолютно отождествляться и смешиваться с целью и божественной целью. Намерение должно было быть взято под более строгую проверку как умысел. В античной этике умысел соответствует тому месту, которое в современной этике занимает проблема свободы. Правда, Аристотель допускает свободу там, где исключает умысел (προαίρεσις); но как раз отсюда видно, насколько строго он к нему относится. Поскольку умысел требуется для поступка, который у греков уже обозначался как действие, то нельзя было останавливаться на намерении как на исключительном основании его.
Умысел противостоит мнению, будто по отношению к намерению поступок – лишь внешнее приложение, несамостоятельное следствие, которое может и не произойти, например, будучи задержано внешним воздействием, без того чтобы волевой акт становился недействительным и ничтожным, ещё не завершённым в бытии. Умысел выходит за пределы намерения и переходит в направление поступка. В предлоге немецкого, как и греческого слова, обозначено предвосхищение положения и исполнения. Это не может быть отдано на откуп представлению и мышлению. Оно должно состоять в порыве, который сознание способно себе дать, из которого рождается поступок; а в нём – воля.
Возникает искушение связать своеобразие этого умысла с языковыми усилиями и напряжениями, которые проявляет Галилей, чтобы выразить своё новое понятие движения, для которого математическое понятие ещё не было открыто, в первом подходе и начале. Наряду с impetus и impulsus там появляется и propensione. Через него также должно выражаться опережение и предвосхищение в активной склонности вперёд. Мы рассмотрим это подробнее позже. Здесь же можно особо указать на юридическое значение умысла. Перед лицом теологического всеведения в праде оттачивается совесть для более справедливого метода оценки, чем тот, что возможен под видимостью религиозного умонастроения.
И здесь особенно явственно выступает ценность и благословение правовых форм и формул. Различие между умыслом и намерением может быть доведено здесь до плодотворной ясности; а именно, когда своеобразие умысла осознаётся и проясняется в противопоставлении представлению и мышлению, а значит, и намерению. Мы ещё вернёмся к этому. Сейчас же следует лишь обратить внимание на преимущество, которое уже с точки зрения практической и личной морали и добросовестности юридическая техника имеет перед этикой умонастроения. Между умонастроением и поступком лежит большое расстояние, которое не пустует; но которое ступенчато прорабатывается волей и для воли в многообразных подходах и уступах. Одну такую борозду образует умысел.
Наша мысль направлена на то, чтобы прояснить своеобразие воли, а именно чистой воли в аффекте. Аффект должен предотвратить как переоценку и перегрузку представления и мышления, так и сведение поступка к голому эффекту. С желанием и влечением нельзя исчерпать проблему; это уже показал Платон. Однако тот самый θυμός, в котором он усматривает происхождение воли, мы стремимся вновь распознать в аффекте и на этом пути определить его. Что же, собственно, ставится в упрек аффекту, что он находится под таким недоверием и подозрением, будто бы он неизбежно противостоит чистоте?
Принято думать об аффекте как о чрезмерности, которая вместе с масштабом выходит за пределы нормы. Норму и меру обычно оставляют мышлению, тогда как чрезмерность, сколь бы ни переливалась в ней сила, обязана этой силой патологическому разрастанию. В избытке всегда усматривают лишь нарушение и преступление меры, но не необходимый, внутренне совершающийся переход и прогресс.
Между тем уже языковая связь между *affectus* и *affectio* должна была бы обратить внимание на то, что, подобно тому как *affectio* обозначает необходимый модус проявления субстанции, так и *affectus* – необходимый способ проявления воли в действии; необходимую форму развития, которую сознание должно осуществить помимо мышления и всякого представления, если оно действительно хочет реализовать волю. Без этого своеобразного внутреннего порыва собственный вклад, заключенный – и неизбежно заключенный – в явлении, в самой реализации, становится тщетным и уничтожается. Пусть даже привлекательность симпатии, которую требует аффект, может быть принесена в жертву; однако самостоятельность аффектации, в которой воля становится единичной действительностью, говорит в пользу нормальности аффекта.
Истинная же причина, которая всегда поддерживала подозрение в отношении аффекта, кроется во взгляде, в котором логика и психология сошлись относительно понятия движения. Однако именно психология оказала здесь влияние. Она, в свою очередь, была обусловлена и поддержана физиологией. Логика же, с другой стороны, согласовывалась здесь с общей метафизикой, с систематической философией мировоззрения. Как материя и сознание мыслились двумя полюсами бытия, так и движение и мышление, равно как и представление вообще. Движение и сознание стали противоречиями.
Но поскольку действие есть мышечное движение, оно должно быть оторвано от воли, если последняя должна оставаться сознанием; ибо движение абсолютно оторвано от сознания как противоречащее ему.
Этот взгляд, на который мы уже обратили внимание, должен быть поколеблен, должен быть устранен. И мы видели, что логика в своих основаниях стремилась искоренить это предубеждение. Движение ни в коем случае не является атрибутом материи, так что оно могло бы получить свое концептуальное определение только через нее, да и то в исходной терминологии. Напротив, методологическая терминология возводит движение к мышлению и суждению. Эта связь проблемы движения с логикой чистого познания, а значит, согласно обычному взгляду, и с метафизикой, не будет здесь далее прослеживаться.
Вместо этого мы теперь рассмотрим связь движения с психологией и физиологией. Для понимания этих двух областей движение должно быть представлено как сознание. Согласно обычной терминологии, эти две области исследования имеют дело с сознанием, причем именно в его связи с материей центральной нервной системы, но также и в его отличии от нее. В самых тонких отношениях, на которые физиология должна разлагать развитие сознания, необходимо распознать и оценить соучастие и пронизывающее действие движения, как, например, в вопросе пространственного представления. Тем не менее, движение должно оставаться принадлежностью материи, хотя без него пространство – фундаментальная форма сознания – невозможно. Эта ложная гетерогенность должна быть полностью отвергнута. Она, несомненно, не возникла бы в физиологии, если бы не была унаследована от физики.
Для популярной предыстории физики, которая передается как эмпиристская болезнь, движение дано в материи и как материя. Забывают, что овладели им лишь с того момента, когда Галилей его определил; но он как раз не принимал его как данное, а чисто порождал. Это движение чистого познания упускают из виду, когда принимают движение как таковое за материю. И тогда оно вновь оказывается в физиологии, а с новой виной – и в психологии, принятым как данное, как явление материи. Еще думают, что здесь есть особая логическая обязанность. Если сознание составляет проблему по своему отношению к материи, но материя в движении приходит к необходимому явлению, то полагают, что в движении нужно распознать и установить причину сознания. Тем самым круг замыкается, и теперь нет выхода.
Теперь различают два вида движения: центростремительное и центробежное. Согласно этому, могло бы показаться, будто движение все же снова включается в сознание. Но это остается доброжелательной видимостью. Центростремительное движение является движением лишь постольку, поскольку оно протекает в нервах. Как только оно завершает там свой путь, на основе работы центра возникает новое – сознание. Уже было бы ошибочно сказать, что движение, происходящее до центра и в нем, как-то превращается в сознание; ибо это не был бы переход в другой вид, который здесь как раз принципиально предполагается. Всякая спекуляция тождества, если она не является систематической философией тождества, капитулирует перед этой твердыней; ибо движение как всеобщая форма материи есть причина того движения, которое протекает в нервах.
Полагают, что следуют логике, не отказываясь от данности движения, не допуская, чтобы оно впервые возникало в сознании. А над логической трудностью, что материальное движение должно порождать нечто иное, а именно сознание, уже в античном скептицизме, равно как и в современном сенсуализме, просто перешагивали. Агностицизм, принявший вид критицизма, помог преодолеть это: мы понимаем движение не лучше и не хуже, чем сознание. Это могло казаться ответом, пока вопрос ставится лишь в одном направлении – о возникновении сознания вследствие движения; но как быть, если вопрос ставится и в другом направлении – о возникновении движения вследствие сознания? И разве в этом другом направлении вопрос не следовало бы поставить, даже не должно было бы поставить?
В этом заключается глубокий методический недостаток этики, а значит, и психологии воли: соблазненные логикой и метафизикой, направляли этот вопрос лишь в первом, а не в последнем направлении. Даже свобода воли не дала толчка в другом направлении вопроса; возможно, она даже создала препятствие для этого; ибо воля, согласно тому, как ее мыслили, в силу свободы понималась преимущественно как теоретическая воля. Напротив, прослеживая волю до кончиков пальцев действия, мы должны выдвинуть на передний план это, казалось бы, обратное движение. Соответственно, для нас должен стать подлинным вопрос: как представление и мышление могут претерпевать переход в это иное – движение.
Это было бы, выражаясь языком старой метафизики, проблемой воли, особенно чистой воли. Или, может быть, кто-то думает, что движение, к которому направлены представление и мышление в воле, уже не касается сознания; что оно является лишь следствием и формой проявления образования кислоты в мышцах? Так можно думать, только если считать, что исполнение достигнутого движения больше не относится к воле; тогда можно полагать, что и сознанию оно тоже не нужно. И различие между движением в мышцах и в нервах может служить предлогом для такого взгляда, который, возможно, признает связь между сознанием и движением нервов, но считает связь между сознанием и движением мышц более отдалённой, а потому и более спорной. Однако все эти рассуждения совершенно ошибочны.
Мы уже учитывали, что движение участвует даже в самых глубоких и тонких процессах формирования представлений. Теперь следует добавить, что особенно важны здесь движения мышц, например, движения глазных мышц. Но как вообще можно серьёзно воспринимать это различие между движением в нервах и в мышцах? Речь идёт лишь об одном виде материального движения. И потому важно осознать неравную меру, с которой движение соотносится с сознанием в зависимости от того, является ли оно центробежным или центростремительным.
Если движение центростремительное, то не возникает сомнений в том, что оно вызывает сознание. Однако центростремительное движение волны раздражения предполагает наличие мышц, нервов и центров. Тем не менее, не возникает сомнений в том, чтобы признать сознание его результатом. Однородность здесь достигается за счёт якобы равномерного агностицизма. Но почему тогда центробежное движение измеряется другой мерой?
Теперь нервы и мышцы должны стать разделительной стеной между сознанием, которое здесь якобы резко обрывается, и движением мышц, которое уже не касается ни сознания, ни воли. Почему вдруг такая разрозненность? Ведь эти мышцы тоже приводятся в движение нервами, а эти нервы тоже имеют свои центры. Как можно понять эту двойную меру, не говоря уже о том, чтобы оправдать её?
Некоторую поддержку этой непоследовательности можно усмотреть в различии, которое физиология проводит не только между чувствительными и двигательными нервами, но и между чувствительными и двигательными центрами. Можно было бы найти подтверждение различия в психическом качестве, так что только чувствительный центр находится в непосредственной связи с сознанием, тогда как двигательный центр нуждается в посредничестве чувствительного. И рефлекторное движение не помогло бы здесь, поскольку оно, по самому своему понятию, исключает любое посредничество чувствительного центра, так как составляет противоположность воле как подлинному сознанию. Таким образом, может показаться, что двигательный центр находится в ослабленной связи с сознанием. Однако и это возражение, и этот предлог не выдерживают критики. Иллюзия здесь основана на ложном взгляде на психологическое значение центральных аппаратов.
Нервные центры в обоих случаях являются лишь отрицательными условиями – как для движения, так и для сознания. Здесь можно применить старую формулу и сказать, что мы так же мало понимаем, как в результате обработки раздражений в центре возникает движение, как и то, как возникает сознание. Центр является в равной степени предпосылкой и для движения, и для сознания. Но в обоих случаях он – не более чем отрицательная предпосылка.
Если допустить, что движение материальной волны раздражения, передаваемое в центр, обрабатывается в нём так, что в результате может непосредственно вспыхнуть сознание, то как можно, с другой стороны, упускать из виду, что тот же самый центр – ведь он имеет тот же психический характер, будь то двигательный или чувствительный центр – должен находиться в таком же точном отношении к движению, которое он, несомненно, подготавливает? Видно, что эта вторая ошибка – лишь продолжение первой.
Не следовало принимать движение как источник раздражения извне; его нужно было породить в сознании, дать сознанию возможность его создать. Тогда не возникло бы и другой ошибки – считать, что движение, инициированное двигательным центром, в конечном итоге возникает в нём самом, тогда как представление, несомненно, не возникает в чувствительном центре. Но представление считается сознанием, а движение – материей.
Поэтому может возникнуть мнение, что следует различать два вида сознания: сознание представления и сознание движения. Однако, сколь бы приемлемой ни казалась эта точка зрения как переход к разрабатываемой здесь, предуказанной в логике теории, она тоже основана на заблуждении о преобладающем и подлинном значении представления и мышления как сознания, от которого можно было бы лишь попытаться перенести нечто на движение. Между тем логика научила нас – и мы уже не раз обращались к этому и вскоре рассмотрим подробнее, – что в самом чистом мышлении возникает чистое движение. Оно вовсе не является видом сознания, отличным от представления, но внутри сознания чистого мышления движение возникает как вид суждения и категории.
На это глубокое право опирается наше убеждение, что волю нельзя сводить к мышлению настроя и намерения, но следует распространить метод чистоты на исполняющее действие. Если бы, скажем, во имя чистоты, пришлось исключить движение из воли, то пришлось бы уничтожить не что иное, как само сознание, как чистое мышление. Тем самым исполнение воли было бы прервано прежде, чем оно достигло бы своего однородного завершения – и всё это лишь из предрассудка, что движение, в сущности, есть лишь движение мышц. Но что же тогда остаётся от действия? Не является ли оно, несмотря на всю одухотворённость, в конечном счёте, всего лишь движением?
Действие же является подлинным материалом права, а значит, и подлинной проблемой этики. Поступок, конечно, лишь vox media (средний термин); но поэт всё же прав: В начале было дело. Слово и воля сами по себе не исчерпывают силы. Лишь поступок полагает правильное начало. Здесь выражается не только противопоставление квиетизму и аскетическому мистицизму или своеволию произвола и бегству от мира; даже для порождения чистой воли слово даёт верное указание. Воля освобождается от власти представления и связывается с поступком. От поступка этике предстоит проложить путь к действию. Однако этот путь не был бы достижим, если бы в самом движении поступка уже не совершалась чистота. Таким образом, мы снова возвращаемся к чистому познанию как источнику чистоты и более не нуждаемся в распространённых выражениях сознания. Они могли бы казаться пригодными лишь для воли, но не для чистой воли. Применение метода чистоты предполагает применимость понятий происхождения, реальности, непрерывности. Лишь на основе этой методологии чистого познания может возникнуть чистая воля. Но само понятие движения должно быть заимствовано из логики для чистой воли, достигающей своей вершины в действии. Движение само есть категория. Из-за этого трудность кажется непреодолимой. Ибо движение – не просто отношение пространства и времени, как обычно говорят. Напротив, пространство должно быть разрешено в своей особенности, чтобы возникло движение. И это разрешение происходит не просто во времени; для этого, помимо бесконечно малой реальности, требуется ещё и субстанция в качестве предпосылки. Поэтому может показаться, будто попытка перенесения чистого познания движения на чистую волю движения безнадёжна. Тем не менее, нас может направлять методологическая мысль, которую мы уже стремились подтвердить в логике и которую теперь должны развить: основные черты чистого мышления, хотя и могут быть уточнены до точной плодотворности лишь в связи с математическими методами, однако не ограничиваются этим основанием чистого познания, но одновременно раскрываются как основные понятия этики. Таким образом, мы можем попытаться применить чистоту и к движению воли. Здесь мы можем опереться на фундаментальную мысль греческой философии – мысль, связывающую Платона с Пифагором. Понятие души – центральное понятие греческой культуры. Оно соответствует понятию сознания в современной культуре. И подобно тому, как сознание, чтобы засвидетельствовать свою независимость от внешнего мира, сразу же стало самосознанием, то же произошло и с душой. Научная точность понятия души возникла в мировой душе, а не в индивидуальной. Но мировой душе надлежало одушевлять движение в природе. И с этим понятием движения, с душой движения, связывалось" я». Самодвижение (τὸ ἑαυτὸ κινοῦν) стало важнейшей характеристикой души – перенесённой с мировой души на человеческую. Движение не может возникнуть извне, вне движущегося; оно не может в конечном счёте основываться на толчке извне; оно не может быть лишь толкаемым извне. Оно должно иметь свой источник в себе самом. Оно должно начинаться в самом движущемся. Поэтому оно должно быть душой, порождением души. Если бы оно приходило извне, то было бы материей. Так выражается традиционная метафизика. Мы же должны сказать: в таком случае движение осталось бы необъяснённым; оно осталось бы проблемой, разработка которой начинается с другого выражения проблемы – материи, но лишь начинается. Душа есть самодвижение – это означает для нас: движение имеет свой источник в себе самом; то есть: оно чисто, как чистое мышление. Но чистое мышление не исчерпывает понятия души, понятия сознания. Итак, душа есть также воля. А воля есть также движение. И это душевное движение есть самодвижение; оно должно иметь свой источник в себе самом. Если мы теперь попытаемся обозначить этот источник движения для чистой воли, то речь может идти лишь об обозначении; ибо определение остаётся прерогативой математики для дифференциала. Здесь мы можем рискнуть лишь на аналогию. Но эта аналогия должна быть рискнута. Нельзя достаточно подробно противостоять предрассудку, который затрудняет истолкование древнего мотива самодвижения. Если современная психология и физиология говорят об ощущении движения и представлении движения, то это означает ощущение и представление о движении. Но это движение уже должно было произойти, чтобы оставить после себя ощущение и представление. Но разве нет иной проблемы и иного понятия ощущения и представления движения, кроме как о прошедшем, осуществлённом движении? Разве ощущение движения – лишь послеощущение, каковым, конечно, всегда является ощущение? Но разве и представление движения – лишь его тень? Разве не сохраняет силу проблема: как возникает первое движение? Только ли по ту сторону сознания, или же в самом сознании – причём так, что ощущение не было бы лишь отголоском? Ведь нельзя же, как в случае с языком, прибегнуть к уловке, которая является лишь станцией на пути отступления – что движение порождается подражанием. Если это подражание должно быть актом сознания, то вопрос должен повториться: как оно могло возникнуть? Таким образом, остаётся самодвижение, даже если движение, проявляющееся в воле, было бы лишь подражанием движению, которое катится и шумит в природе. Но как в искусстве подражание – лишь несовершенный вспомогательный термин, так и здесь оно ещё менее способно обозначить проблему, не говоря уже о её решении. Поэтому мы не можем останавливаться на ощущении и представлении движения. И подобно тому, как мы перешли от ощущения и сходного с ним вожделения к мышлению и соответствующему аффекту, так и теперь в этом моменте аффекта, соответствующем чистому мышлению, мы должны попытаться обозначить чистый источник. Пусть тенденция обозначит нам эту аналогию. Прежде всего, через неё становится ясной связь между чистым движением и движением стремления. Тенденция соответствует прежде всего impetus и impulsus, ещё яснее – propensione Галилея. Она выражает источник движения. А это и есть принципиальное требование. Напряжение к движению есть развёртывание к движению, а значит, и порождение его. В то же время это выражение напоминает о вожделении, о стремлении. Стремление вернее, чем вожделение; поэтому последнее остаётся недоступным чистоте, ибо вожделение – безусловно переходное слово; оно несёт в себе цель, на которую направлено. Стремление же обозначает внутреннее состояние, внутреннюю деятельность, в которой само сознание расширяется. И это расширение сознания имеет своё начало, вернее, свой источник в том, что мы хотели бы обозначить как тенденцию. Тенденция есть чистое в аффекте. Она прорывается; она изливается; откуда и из чего? Из самой себя. И только из самой себя она должна изливаться. Это значение самодвижения и должна выражать тенденция. Пусть не говорят, что тенденция изливается из сознания; ибо сознание не существует заранее, прежде чем это движение из него изольётся. Движение порождает себя само, а вместе с ним и" я», по крайней мере, зачаток" я».
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе