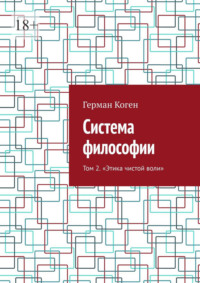Читать книгу: «Система философии. Том 2. Этика чистой воли», страница 7
Поскольку блага жизни и культуры, как их обычно понимают, обладают сомнительной ценностью – ценностью, колеблющейся в зависимости от соотношения безнравственных и нравственных обстоятельств, – то и понятия нравственного якобы должны совершенно лишаться закономерного характера. Ошибочное истолкование нравственного закона как закона природы приводит к смешению нравственного понятия и закона с мнимым нравственным объектом и культурным благом. Однако методологическая причина этого заблуждения и этой путаницы кроется в непонимании чистоты и её результата в гипотезе.
Так гипотеза подтверждает себя в качестве инструмента истины. Нет двойственной истины; гипотеза служит основой достоверности и для закона природы. Поэтому и этика не лишена достоверности, если она строится на обосновании. Она вправе отвергнуть мнимый закон природы, истинная ценность которого, в сущности, опирается лишь на обоснование. Она может оставаться уверенной в вечном, на котором зиждется, поскольку возводит его в методологическом обосновании. Так требует основной закон истины. Остаётся лишь вопрос: может ли чистота, предполагаемая для понятий объекта, субъекта и закона, быть реализована в материале, на который этика опирается в отношении объекта, субъекта и закона.
В логике известен соответствующий материал – это мышление. Какая психологическая форма деятельности соответствует мышлению в действии нравственности? Учёт психологии здесь неизбежен – так же, как в логике при рассмотрении мышления. Но подобно тому, как в логике употребление слова «мышление» не обязательно ведёт к дальнейшей зависимости от психологии (поскольку для последней мышление остаётся не более чем представлением), так и на этом перекрёстке нам не грозит конфликт с психологией. Естественная рефлексия даёт понимание того, что сущность человека раскрывается в его действиях и устремлениях. Однако естественному наблюдению действие представляется результатом чего-то, для чего устремление обозначает причину в языке. Устремление происходит от влечения. Из него рождается всякое действие. Так во влечении определяется психическое качество. Влечение становится основой творения. В древнееврейском языке один корень обозначает и влечение, и творение. Влечение – это источник всякого действия. В нём лежит исток всякого желания и стремления.
Но на этой естественной психологии нельзя останавливаться – и не останавливались. Мы уже отмечали, что Платон создаёт и развивает свою психологию как в этике, так и в логике – равно в характеристике воли, как и в характеристике мышления и познания. Нам предстоит проследить, как метод чистоты должен порождать понятие воли – чистую волю. Чистая воля соответствует чистому мышлению, мышлению чистого познания.
Здесь остаётся обсудить лишь один важный предварительный вопрос. Он касается нашего основного закона истины – а именно единства метода для логики и этики. Можно ли ожидать и предпринять применение метода к предполагаемому психологическому материалу – чистой воле, как и к основным определениям чистого мышления?
Этот вопрос методологически решающий: проблема этики как этики чистой воли зависит от него. Но он же положительно приближает нас к реализации. Смело поставим же вопрос: можно ли применить к этике чистой воли основные понятия, которые логика выделяет для мышления чистого познания?
Логика осуществляет и обосновывает чистоту в конечном счёте через суждение о происхождении. Происхождение – это глубочайшая якорная почва, которую закрепляет чистое мышление. Ничто не должно считаться данным для чистого мышления; даже данное оно должно порождать само. Даже «что» (как «нечто») не может быть для него последним словом понятийного языка. Оно не должно отступать перед ничто. Само по себе ничто остаётся немыслимым, но как средство чистого мышления оно признаётся. Это обходной путь, который мышление вынуждено пройти, поскольку оно не может остановиться на «нечто». Чтобы добраться до основы «нечего», от него самого как последнего основания отвлекаются.
Ведь даже бытие становится всего лишь словом, понятием отношения. За основу бытия вступает другая категория. Неудивительно, что «нечто» не может стоять в начале – так же, как и бытие. Поэтому и парадокс, который в нашей характеристике образует бесконечное суждение, не должен вызывать серьёзного возражения. Ведь это то самое суждение, в котором, несмотря на кажущуюся игру с ничто, выражается принцип непрерывности.
Но здесь возникает действительно трудный вопрос: можно ли считать закон непрерывности применимым к этике? Пусть даже происхождение окажется мыслимым для чистой воли – это, по крайней мере, допустимо. Пусть даже реальность сама может быть представлена как применимая для реализации чистой воли – главный вопрос остаётся: может ли закон мышления о непрерывности быть применён к воле, а значит, и к этике? Возникает подозрение, что здесь речь идёт лишь о пустой метафоре.
Ведь непрерывность – нечто совсем иное, чем тождество. Тождество, как бы ни обусловливало оно чистое мышление, может быть перенесено на чистую волю, ибо и в ней присутствует мышление, которое нельзя устранить. Непрерывность же должна была бы применяться к самому хотению, если это хотение, согласно непрерывности, должно порождаться из своего происхождения и тем самым становиться чистым хотением. Здесь возникает опасность, что математическая полноценность непрерывности может быть дискредитирована, если это понятие будет злоупотреблено в этике как историческая метафора – сколь бы полезной оно ни было для исторического словоупотребления. Метод чистоты, основываясь на истине, требует строгого соблюдения смысла непрерывности.
Это сомнение в применимости принципа непрерывности к этическому понятию воли основывается, однако, на недостаточном понимании этической проблемы и её отношения к понятию воли. Иными словами, здесь проявляется психологическая предвзятость, под прикрытием которой это возражение укореняется. Считается, будто психология и только она должна разрабатывать понятие воли; и полагают, что не будет буквально верным, если психология не имеет (компетенции), да и повода говорить о воле – о воле, а не о влечении и желании – если только этика не раскроет это понятие.
Это понятие, со всеми его сложностями и трудностями, которым и определяется воля. Оно ни в коем случае не является непосредственным фактом природы, подлежащим анализу. Но если речь идёт о совокупности концептуальных моментов и об их объединении в единое понятие воли, то становится понятным, что закон непрерывности может вступить в силу при этом формировании понятия воли – если, конечно, непрерывность не ограничивается лишь математикой и физикой.
Различие в рассмотрении воли, которое должно проводиться этикой, в отличие от психологии, заключается в учёте понятия действия. Для этики не может и не должно существовать хотения, которое не осуществляется в действии. Как бы ни было необходимо исследовать источники возникновения воли и прослеживать её развитие, нельзя ограничиваться только этим; нужно столь же внимательно следить и за её завершением. Без исхода, к которому приводит хотение, нельзя признать само хотение. Так называемое намерение и умонастроение ускользают от человеческого понимания.
Как бы ни был врождённым и унаследованным тот или иной импульс, он всё же не может быть признан источником и основой воли в том смысле, в каком её требует этика. Вся эта психология относится к метафизике вещи в себе, которая предлагает загадки мира как загадки, чтобы затем представить их разрешимыми в загадочных словах. Этика не отделяет начало хотения от его конца. Поэтому для неё воля и действие неразрывны. Это уже первый признак значения непрерывности для этики воли.
Но её влияние простирается дальше. Уже в самом хотении обнаруживается почти необозримое множество и разнообразие элементов и зачатков, которые, по-видимому, восходят к импульсивным движениям. И когда из этого хаоса всё же возникает действие, те же препятствия здесь лишь возрастают. К кипению влечений добавляется смешение и путаница мыслей и представлений. Как же при этом может возникнуть единство действия, которое, тем не менее, требуется – без которого понятие действия не может состояться?
Именно здесь закон мышления о непрерывности окажет этике свою помощь. И здесь суждение о происхождении, равно как и о реальности, проявит свою действенность – действенность и полезность. Ибо, конечно, это отголосок логики, от которого этика здесь извлекает пользу. Но это её право и её задача. Так требует основной закон истины.
Мы не будем углубляться далее в изложение этой связи происхождения, реальности и непрерывности с понятием воли, так как это означало бы забегать вперёд в раскрытии этого понятия. Отметим лишь ещё один момент, поскольку он связан с проблемой истины. В воле, особенно в действии, момент движения составляет главную трудность. Воля считается чем-то внутренним; и как бы её ни сводили к зачаткам и импульсам, их рассматривают как сокровеннейшие движения души.
Отсюда могла возникнуть и стать основой мировоззрения – и как таковая вновь и вновь возрождаться – мысль, что воля и интеллект суть одно и то же. Действие же обращает внимание на различие. Поэтому его не считают неотъемлемой частью воли, если стремятся к их отождествлению. В действии движение распространяется вовне. И это движение нельзя понимать лишь как внутреннее, подобно тем зачаточным импульсивным движениям, ибо оно прямо направлено на внешнее и на внешнее выражение. Тем самым оно раскрывает противоположность, заложенную в воле.
Эта противоположность превращается в противоречие при господствующем взгляде на понятие движения, согласно которому движение принадлежит материи: Matter and Motion; тогда как только мышление характеризует сознание. Поэтому если в действии, а значит, и в воле совершаются движения, возникает серьёзное сомнение, не материализуется ли тем самым воля. Или же сомнения не возникает, и из этого делают вывод не только о несостоятельности различия вообще (что нас здесь не должно беспокоить), но и о его нерелевантности для понятия воли. Однако такое следствие лишь сыграло бы на руку психологическому предрассудку; ибо для этики вряд ли было бы безразлично, может ли действие быть приведено к единству из столь разнородных элементов, как материальное движение и абстрактное мышление.
Однако наша логика чистого познания показала, что этой разнородности не существует: что, напротив, в самом мышлении, в его чистейших формах, движение возникает и утверждается. Так, оно уже проявило себя как созидающий мотив в суждении множественности и в категории времени. Следовательно, нет противоречия между движением и мышлением, как между материей и сознанием; движение присуще самому мышлению. И само мышление не только не могло бы достичь завершённости, развития, но и вовсе не смогло бы начать порождение научного содержания, если бы не могло осуществляться как чистое движение.
Но если движение уже есть мышление, то в воле не только может без противоречия содержаться движение; вместе с тем может утверждаться своеобразие воли, которое проявляется в движении влечения и действия – его не нужно нивелировать до мышления интеллекта. Движение и мышление суть сознание; но оба – самостоятельные виды сознания, представляющие два вида интересов разума.
Здесь особенно полезной окажется наша логическая характеристика времени. Мы понимаем время не как последовательность «после друг друга», а как проекцию, так сказать, «перед друг другом». Будущее идёт впереди нас, а прошлое следует за ним. В этой антиципации будущего, на которой основывается время, проявляются также движение и стремление.
Таким образом, обнаруживается, что логическая характеристика движения и времени одновременно содержит в себе психологический анализ, без которого не может обойтись характеристика воли, к чему стремится этика. Более того, даже не требуется психологический анализ как посредник; напротив, этическое определение понятия непосредственно опирается на логическое основание. И то, чему логика и этика учат о движении и воле, должно исходить из психологии.
Однако отсюда же видно, что это не просто адаптация, при которой метод чистоты переносится из логики в этику. Ведь эта чистота, которая проявляется в логической характеристике движения, сама по себе соотносится с этикой; можно было бы подумать, что она заранее рассчитана. Природа воли уже становится понятной при таком освещении природы мышления.
Ведь именно это всегда отличало волю, желание от мышления: они словно прыгают перед нами, тогда как мышление шагает осмотрительно – шаг за шагом, а не шаг перед шагом. Но теперь видно, что и мышление тоже прыгает, опережает и в этом опережении и предвосхищении формирует ряд и порядок; в этой антиципации оно порождает не только свою структуру, но и своё содержание.
Из этого сходства, которое обнаруживается в движении и мышлении, а значит, и в воле, действии и мышлении, открывается возможность полной допустимости применения основного закона (континуальности). Однако мы не будем здесь углубляться в это. Вместо этого рассмотрим, что в данном примере проявляется для нашего основного закона истины. Он означает единство теоретической, логической и этической проблемы. Мы уже говорили, что истина не заключается ни в одной только логике, ни в одной только этике; она содержится лишь в их соединении, в гармонии обеих. Однако при этом проскользнуло выражение, что истина логики вырастает лишь из этики. Мы сразу попытались уточнить это выражение. Теперь же ясно видно, насколько глубоко устроено это единство.
Уже в мышлении, если выразиться резко и неточно, пробуждается воля; ведь в мышлении пробуждается движение. Поэтому неудивительно, что проблема воли, когда она созревает как таковая, может быть сформулирована, рассмотрена и решена только в теснейшем методологическом согласии с проблемой мышления. Метод чистоты не просто переносится из логики в этику как получится; в своём первоначальном применении к самому мышлению он излучается на волю. Поэтому мнение о противоречии или даже просто противопоставлении этих двух проблем и интересов может основываться лишь на роковом заблуждении, которое так же тяготеет над логикой, как и обременяет этику. Основной закон истины, не признающий двойной бухгалтерии, требует не только единства метода чистоты; но, исходя из логики, он одновременно исходит из уверенности, что это требование принципиально выполнимо.
Таким образом, вместо предполагаемого и подозреваемого переноса, как выясняется, имеет место лишь преобразование проблемы, в котором проявляется различие между этикой и логикой. И как всякое преобразование, несмотря на все новые элементы, которые при этом включаются, в основе своей является лишь самоизменением, так и здесь. Мышление, которое несёт в себе движение, само преобразуется в волю и действие. Впрочем, здесь уже сказано слишком много; можно лишь утверждать, что логический интерес, интерес к науке о природе, сам преобразуется в этический интерес к понятию человека, его действия и его мировой истории.
Так на основе истины возникает проблема чистой воли.
Вторая глава. Обоснование чистого воли
Предшествующие рассуждения представили проблему этики как проблему чистого воли, подобно тому как проблема логики есть проблема чистого познания. Даже видимость искусственной абстракции должна быть чужда этим терминам, особенно же термину чистого воли. О познании можно думать, что оно во всяком случае уже существовало само по себе и обозначалось как познание прежде, чем было осознано и обозначено как чистое познание. Пифагор и Демокрит существовали до Платона. Воля же вообще не получила обозначения, пока не была открыта как чистая воля, как воля этики. И хотя это кажется парадоксальным, но это соответствует точному положению вещей у Платона, что он применил метод чистоты к проблеме воли, в то время как сам термин воли у него ещё скрыт. Как же можно объяснить, что понятие и мысль о воле – ведь речь идёт именно о самой мысли в этом вопросе – пробудились к ясности и получили обозначение так поздно?
На этот вопрос можно ответить другим вопросом. Искусство – одна из самых ранних деятельностей человеческого духа; оно предшествует науке. И с самого начала оно не только мощно захватывало умы, но и чарующее действие его рано стало предметом размышления. И тем не менее могло случиться, что лишь в конце XVIII века особая психологическая качественность, так называемая душевная способность, получила название для эстетической направленности сознания. Это весьма поучительный пример зависимости психологии, вплоть до её номенклатуры, от предметных и систематических постановок проблем. Но почему же эстетическая проблема была поставлена систематически так необычайно поздно?
Причина здесь схожая, хотя и не столь радикальная, как в случае этики. Искусство с самого начало вступило во внутреннюю связь с религией и культом. При самом благоприятном взгляде оно поэтому отождествлялось с нравственной направленностью сознания. С другой стороны, оно и не принципиально отличалось от познания; поэтому в научном интересе содержался также и художественный. Своеобразие, которым квалифицируется эстетическое сознание, должно было, возможно, именно отодвигаться на задний план, чтобы только никоим образом не подвергать сомнению его внутреннюю связь с наукой и нравственностью.
Подобное же происходит и с волей. Можно, пожалуй, сказать, что она впервые была открыта, родилась в трагедии. То, что до этого соответствовало человеческому интересу к воле, – это не человеческая, а в лучшем случае божественная воля. Если мифический человек вплоть до начал поэзии спрашивает, откуда происходит всё это движение в мире людей, то он не делает различия между миром людей и всеобщей природой. Но эта последняя направляется судьбой, которая могущественнее богов, могущественнее даже самого отца богов. Лишь трагедия ставит проблему воли; её отправной пункт – эта проблема. И здесь судьба образует предпосылку, но она отступает на задний план. Судьба становится подосновой мифа, и на этом фоне выделяется драма. Герой, правда, есть создание судьбы, но он не остаётся им. И превращаясь в нечто иное, он порождает проблему воли. Воля выступает против судьбы.
После того как у Эсхила и, во всяком случае, также у Софокла возникла проблема воли, Платон мог подвергнуть её понятийному рассмотрению. Но кто бы мог подумать, что без предшествующего примера трагедии зрелая и мужественная этика Платона была бы объяснима. Ещё менее она была бы объяснима, чем без эстетического жара явления была бы понятна в платоновской терминологии корреляция идеи и явления. Следовательно, этика следовала за искусством. Как же тут можно удивляться, что сама этика при открытии проблемы воли ещё не дошла до определения воли.
Также и Платон отнюдь не отрекался в бурях и натиске от мягкого принуждения своей отечественной религиозности; напротив, он стремился усердно участвовать в её нравственном обновлении. Божество оставалось и для него первоисточником всей силы добра; и уподобление, самоуподобление божеству (ὑμοίωσις ϑεῷ) оставалось для него всеобщим девизом нравственности. Но пока воля есть преимущественно воля божественная, она как человеческая воля не получает своего точного определения – такого, которое отличало бы её от божественной воли. И потому вполне понятно, что она не достигает даже терминологического обозначения.
Когда в христианскую эпоху воля наконец выступает как психологический фактор, этот прогресс, вероятно, следует приписать теологии. И Логос иудея Филона должен быть здесь признан движущим основанием. Воля Бога отступает здесь перед словом Божьим. Слово представляет язык, а язык – разум. В Логосе воля, божественная воля становится интеллектом.
Истинная трансцендентность была бы нарушена (каузальностью) воли. Поэтому воля оказывается излишней в сущности Бога; Он говорит, и это происходит; Его мышление есть Его деяние. Но тем самым для человека открывается пространство для воли. После того как Бог, так сказать, утратил волю, человек начинает обладать ею. И с другой стороны, отсюда же видно, что метафизика, которая всегда по существу есть лишь философия религии, поскольку она утверждает сущностное равенство между Богом и человеком, также пантеистически утверждает тождество воли и интеллекта. Эта воля метафизики поэтому вовсе не воля, а пред-воля, воля-судьба; не психологическая воля. Последняя возникает лишь как этическая, как чистая воля.
Открыв проблему чистой воли, Платон руководствовался проблемой чистого познания. В этой последней проблеме он, однако, присоединился к критике восприятия, которая со времен Гераклита занимала мысль: критика, которая у Парменида и Демокрита привела к грандиозным последствиям. Конечно, уже в Пифагорейском союзе эта критика ощущения приняла морализирующее направление. И все учение мистерий с их культом атаковало и разрушало наивность чувственного сознания. Мы видим в «Федре», как сильно это отчуждение от чувственности повлияло на Платона. Это двойная упряжка, которой управляет человек; и не единая узда направляет этих разнородных коней. Подобно тому, как чистое мышление, как мышление чистого познания, было отделено от ощущения, так и чистая воля, как воля этики, как воля нравственности, должна была быть оторвана от ощущения, от всей чувственности.
Нет необходимости обозначать эту волю по аналогии с чистым познанием как волю чистой нравственности. Ибо познание, по крайней мере, существовало; в математике оно присутствовало; Платону оставалось лишь показать, что это познание основывается на чистом познании; и, возможно, также, что и в какой мере оно его содержит. Нравственность же как таковая вовсе не существовала до того, как была осознана в этом качестве. То, что могло считаться ее заменой, было религией, правом и государством. А софисты поставили всю эту нравственность на скамью подсудимых; не для того, чтобы возвести на ее место лучшую нравственность, а чтобы объявить всякую нравственность тщетной и отбросить ее. Поэтому, когда Платон ввел в обсуждение проблему воли для нравственности, эта воля сразу должна была мыслиться как чистая воля; метод очищения должен был проявиться при ее возникновении.
В критике познания Платон стремился провести разделение настолько радикально, что полностью и исключительно отнес мышление познания на одну сторону; на сторону ощущения же он поместил и представление. Можно было бы подумать, что представление все же имеет долю участия в мышлении, или, точнее, что мышление имеет долю участия в представлении. Платон же делает резкий разрез и принципиально приписывает представление ощущению. Это имеет свои последствия для характеристики и, соответственно, для психологической конструкции воли.
Аналогом ощущения является вожделение. Правда, можно еще сомневаться, следует ли принимать точную аналогию между ними; не стоит ли, возможно, настаивать на различии между влечением и желанием, так что только влечение является аналогом ощущения, тогда как желание, быть может, уже аналог представления. Во всяком случае, это сомнение можно высказать в отношении выделения вожделения как одного из видов души. Платон обозначает этот вид души не как влечение или влекущее начало, а как то, что принадлежит вожделению, формирующее вожделение (ἐπιθυμητικόν).
В этом душевном качестве, несомненно, следует признать отношение к представлению. Это соответствует букве платоновских рассуждений и сути проблемы. Ибо речь идет именно о различении и отделении всего чувственного, а значит, и представления. С другой стороны, и для воли нельзя упускать из виду мышление; но то мышление, от которого следует отличать волю, есть именно чувственное мышление представления. Таким образом, метод очищения должен прежде всего направляться на то, чтобы исходить из вожделения и, несмотря на точное признание его своеобразия, одновременно прослеживать его связь с представлением, чтобы, борясь с вожделением, затронуть и представление.
Но что же тогда соответствует чистому мышлению в воле? Это может быть ничто иное, как сама чистая воля; однако у Платона она как таковая не названа. А без чистой воли вообще отсутствует воля. Вместо нее выступает нечто среднее, под именем, труднопереводимость которого уже может быть симптомом сложности и недостаточной определенности понятия; обычно его переводят как «яростное начало» (θυμοειδές). Однако «рвение» не передает точного смысла слова. Его основное значение – «гнев». Гнев (ὀργή) у Гомера обозначает душевное движение вообще, а значит, и рвение (θυμός); тогда как это греческое слово этимологически уже означает вообще «душу», душу-дым (fumus). Что же тогда мог думать Платон и что он мог иметь в виду, используя два слова одного корня для столь важного различия, на котором основывается новая этика? В образовании второго слова видно, что он относит к новому понятию лишь вид и группу (εἶδος) θυμός; но это ограничение вряд ли кажется достаточным для такого фундаментального различения.
Однако греческий язык в первом из этих двух слов – «вожделение» – с резкой отчетливостью обозначил чувственную связь. В предлоге «на» (ἐπί) выражена и выявлена агрессивная субъективность, устремленная на внешнюю вещь. Если бы мы сказали вместо этого «противовлечение», смысл не был бы передан; ибо наше «против» относится к коррелятивному стремлению, тогда как греческая приставка указывает на вещь как объект вожделения.
Это указание на внешнюю вещь делает для греческого мыслителя ощутимым и точным различие между вожделением и другим, новым видом, который хотя и связан с душевным настроем, но в котором душевный настрой как таковой остается выделенным, а устремление или, точнее, направленность на нечто, лежащее вне души, внешнее и далекое, не только не выражается, но и прямо отвергается противопоставлением.
Таким образом, можно понять, почему Платон воспользовался этой бросающейся в глаза терминологической новизной. Что же ему еще оставалось выбрать для обозначения недостающего понятия воли? Он не пренебрегает греческим словом для «хотения»; он даже образует от него абстрактное название деятельности (βούλησις). Но именно потому, что греческое слово того же корня, что латинское и наше «воля», можно понять, почему Платон избегал извлекать новую душевную способность из этой этимологической основы; ведь соответствующее слово уже существует, но оно означает «решение» и «совет» (βουλή); и возникает вопрос, не правильнее ли сказать «совет и решение».
Совещание, обдумывание играет в этом слове важную, возможно, решающую роль. Но это как раз другой, теоретический, относящийся к представлению элемент, который не должен был выдвигаться на первый план, которому не следовало придавать перевеса. Поэтому понятно, что Платон должен был оставить весь этот языковой корень, если хотел осветить новый душевный момент.
С другой стороны, искушение остаться при этом слове, конечно, очень велико. Ибо, какое бы направление ни принимало новое хотение, оно все же должно оставаться связанным с представлением, а значит, и с мышлением. Поэтому выражение для «разума», с которым со времен Анаксагора проделывали множество мистификаций, используется для этой проблемы; но можно ли его ограничить ею?
Нус, которому мифологическое мышление греков было лишь слишком склонно придавать божественное олицетворение, теперь уточняется как нравственный разум человека. Это и есть воля, и таким образом мы получаем другое слово для воли, которое Платон действительно часто и настойчиво употребляет. Но именно на этом слове можно вновь увидеть опасность, которую предстояло преодолеть новой мысли. Этот же Нус обозначает и теоретический разум, и чистое мышление познания; и он отождествляется с познанием науки (ἐπιστήμη).
Здесь вновь проявляется влияние оригинальной сократовской мысли о том, что добродетель есть знание, однако при этом новый элемент воли подавляется и ограничивается. Тень, отбрасываемая этим влиянием при всем его свете, простирается через всю этическую терминологию греков. То, что добродетели у Платона и особенно у Аристотеля находятся на границе теории и практики, связано именно с этим. И даже практический разум (νοῦς πρακτικός), который со времен Аристотеля шествует по миру, основывается на этом сократовском фундаменте знания. Хотя в этом термине содержится указание на действие, мы всё же предпочитаем термин чистой воли, но, разумеется, в соответствии с платоновской ориентацией на усердие, которое мы точнее переводим как аффект.
В терминологии аффекта и аффектов интересно и поучительно наблюдать терминологическую роль, которую θυμός играет у стоиков, начиная с некоторой неопределённости. Иногда он сам является лишь одним из аффектов, в то время как выражение для понятия аффекта – это душевное движение (πάθος); иногда же он означает обобщающий термин для всех душевных движений вместе с их свойствами; выражение же πάθος относится скорее к душевному впечатлению вообще, то есть также и к ощущению. Это колебание в терминологии аффекта необходимо отметить. Аффект, как θυμός, не просто один из аффектов, но он призван объединить их все под одним термином; никакой другой термин не является столь же выразительным. Остаётся выражение, к которому вернулся Платон и с которым он связал своё новое понятие.
В вопросе воли прежде всего аффект должен быть освещён ярким светом. Нельзя останавливаться на представлении и мышлении; тем более, что представление и мышление ни в коем случае не должны исключаться. Нельзя также переворачивать терминологию с ног на голову, как это сделал Спиноза, который, пытаясь ослабить одну схоластическую ошибку, отождествлявшую волю и интеллект, впал в другую, оригинальную ошибку, превратив само нравственное мышление в аффект. Нравственный разум должен сохраняться в своей глубочайшей связи с чистым мышлением; сила познания в нём не должна быть ни изменена, ни перетолкована. Но, конечно, и аффект должен в нём сохранять свою силу и значение, изолированный в своём собственном виде. Однако возникает вопрос: совместима ли эта изоляция с чистотой; можно ли её допустить? Этот вопрос составляет трудность в понятии аффекта.
Между тем, существует лишь предрассудок, что чистота воли может или даже должна относиться исключительно или преимущественно к элементу мышления в воле. Этот предрассудок подпитывался латинским словом для обозначения воли, в котором, согласно юридическому словоупотреблению римского права, преобладает значение намерения. Однако юридический момент намерения не привёл бы теоретический элемент воли к чрезмерной опасности и двусмысленности, если бы не примешивался сложный религиозный мотив, который стал играть весьма заметную роль. Voluntas, согласно этому словоупотреблению, прямо отождествляется с настроем. И в настрое полагают возможным определить и обосновать характер воли.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе