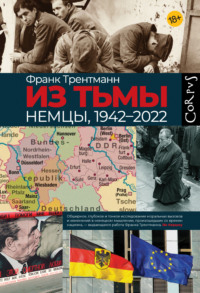Читать книгу: «Из тьмы. Немцы, 1942–2022», страница 5
“Гоморра”: наказание за что?
Бомбардировки городов с воздуха в 1943 году не были чем-то новым26. Люфтваффе бомбило Варшаву в конце сентября 1939-го, британские ВВС в мае 1940-го бомбили заводы и нефтеперерабатывающие предприятия Рура. 7 сентября 1940 года Германия начала операцию “Блиц”, сбросив бомбы сперва на Лондон, а затем, 14 ноября 1940 года, – на Ковентри. Между Рождеством 1940 года и Новым 1941 годом Лондон подвергся еще одной волне массированных бомбардировок. Можно было бы предположить, что рассказы о бомбежках “потрясли людей до глубины души”, записывал в дневнике Рудольф Тьяден. “Куда там! Все настолько привыкли к ним, что почти не обращают внимания”. Бомбардировки немецких городов изменят эту ситуацию.
Первый авиаудар по Гамбургу случился в ночь с 17 на 18 мая 1940 года. Впервые авиация союзников осмелилась бомбить большой немецкий город. Погибло тридцать четыре человека. В течение следующих трех лет бомбардировки Гамбурга станут рутиной – 137 налетов, 1431 жертва27.
Масштабы операции “Гоморра” были совершенно другими. Пятидесятилетняя Рената Бок из Гамбурга вела дневник, чтобы рассказать потомкам, “что нам пришлось выдержать”. В ночь с 24 на 25 июля 1943 года ее разбудил первый налет. Следующий, 28 июля, оказался в десять раз хуже. В 22:30 прозвучала воздушная тревога. Стреляли немецкие зенитные орудия, а Бок и ее соседи бежали в подвал, чтобы укрыться там. Пол ходил ходуном. “Потом начался настоящий ад”. На ее улицу упали две зажигательные бомбы, и все загорелось. “Девятилетний соседский сын истошно кричит. Я прижимаю к своей груди восьмидесятилетнюю фрау Айгенброт. Мы стоим на коленях на полу; глаза у нас засыпаны пылью и побелкой, сердца колотятся”. Затем во время короткой передышки в их подвал забежала пара. “Женщина обезумела от страха!” Три дня назад ее засыпало в собственном подвале, так что пришлось откапывать. “Ее трясет, она рыдает”. Это было похоже на конец света28.
Авиабомбы срывали крыши с домов, а от зажигательных бомб начинался огненный вихрь, превращавший город в огромную печь. По улицам прокатывались волны пламени, сопровождавшиеся страшным жаром и высоким давлением. Член отряда по борьбе с воздушными налетами рассказывал о событиях, произошедших той же ночью в Хаммерброке, к востоку от старого порта. В многоквартирный дом, где он жил, попала зажигательная бомба. Вспыхнул третий этаж. Затем вторая бомба сбросила мужчину с лестницы. Пламя приближалось к газовому подвалу. Вся лестничная клетка рухнула, и пламя “устремилось вперед со скоростью 10 баллов по шкале Бофорта”, словно буря. Вместе с соседями они отчаянно пробивались к бомбоубежищу. Людям, находившимся там, грозила опасность задохнуться внутри или сгореть заживо снаружи. Напор огня был настолько сильным, что “трем мужчинам не удавалось захлопнуть дверь”. Рассказчик приказал людям закрыть головы пальто и одеялами и выбираться. Жильцы “доверяли мне, но не знали, что ждет их снаружи и как пробираться сквозь этот пылающий ад”. Он поспешил вернуться за остававшимися внутри женщинами. Старика с костылями пришлось бросить на произвол судьбы. Огонь бушевал на улицах. Вжавшись в стену школьного двора, группа простояла пять часов на коленях, до семи утра, пока огонь не унялся и жар не спал. Мужчина всеми силами убеждал людей оставаться с ним и ждать. Некоторые так и сделали, но другие ушли. “Утром я нашел их обгоревшие тела”29. Высокая температура (до 800 °C) и давление оставили после себя адскую сцену: одни тела превратились в угли, другие были раздуты до неузнаваемости, так, что мужские гениталии “стали размером с голову двухлетнего ребенка”30. В небе висело облако дыма высотой 8 километров, и пыль покрывала город. Солнца в тот день не было.
Геринг пообещал, что ни один вражеский самолет не появится в небе над рейхом. Годом ранее, в марте 1942-го, бомбардировщики союзников атаковали Любек, а в мае – Кёльн. Правда, это были единичные ночные атаки. Однако Сталинградскую речь Геринга дважды прерывали очень своевременные налеты британских “Москито”4 – и это в Берлине средь бела дня! Безжалостная недельная бомбардировка Гамбурга убедительнейшим образом доказала полную незащищенность мирного населения. Ни люфтваффе, ни силы по борьбе с воздушными атаками не смогли его защитить. За гамбургской катастрофой последовали удары по Вене, Швайнфурту, Регенсбургу и другим городам. К марту 1944 года дневные налеты стали повседневностью, зимой же 1944–1945 годов их было больше всего.
В обстановке постоянных бомбежек люди яростно пытались навязать окружающим свое понимание происходящего. Их анализ сильно различался, и он раскрывает новую фазу поляризации общественного мнения и моральных суждений, от фанатичного ожесточения на одном конце спектра до переоценки ценностей на другом. Некоторые преподносили бомбардировки как доказательство невиновности Германии и призывали к отмщению. В середине июля, за несколько недель до операции “Гоморра”, сотрудник тайной полиции отмечал в своем отчете, что жители Гамбурга “некоторое время пребывают в убеждении, что вина в развязывании войны вообще и в бомбардировках гражданского населения в частности лежит на Англии. Поскольку англичане не отдают себе отчета в аморальности своих действий и не прекращают их, выход только один – безжалостное возмездие”31. Такими же были настроения в Берлине32. Это мнение разделяли и многие фронтовики. Хайнц Сарторио, служивший в 18-й танковой дивизии на территории России, писал своей сестре Элли в Берлин 7 августа 1943 года: “То, как ужасно обращаются с мирными жителями Германии, приводит меня в ярость. Надеюсь, что возмездие не заставит себя ждать, пусть даже оно обратит в руины всю Европу. Если люди не могут ужиться друг с другом, им приходится друг друга убивать”. Чувство, что война скоро будет проиграна, только усиливало в нем жажду мести. “Вот что меня заботит. Большевизм так или иначе победит”. Ранее, правда, он надеялся, что по Англии будет нанесен удар такой силы, что “через несколько дней никакой Англии не останется”33.
Проблема заключалась в том, что нанести ответный удар Германия была уже не в силах. Почти миллион жителей Гамбурга лишился крова и разносил по соседним областям отчаяние и пораженческие настроения. Правда, находились и те, кто верил в чудо-оружие, такое как ракета V-1, Vergeltungswaffe, или иначе – крылатая ракета возмездия. Однако ее первый запуск состоялся только в июне 1944 года и не вызвал ничего, кроме циничной насмешки. Шутили, что истинное название ракет было “Verrücktheit 1 [Безумие-1]… и нулевой эффект. В Лондоне лишь отменили один концерт”34.
Геббельс быстро понял, что играть на призывах к мести непродуктивно. Это вызвало бы надежды, которые авиация не могла бы оправдать. Начиная с декабря 1943 года он запрещал использовать слово “возмездие” в официальном обиходе. Неубедительными были и упреки в варварском характере бомбардировок, адресованные исключительно англичанам. Ведь союзники помимо бомб разбрасывали еще и листовки, напоминавшие немцам об их собственных бомбардировочных рейдах. Вместо этого нацисты решили объявить стойкость гражданского населения знаком вновь обретенной силы Volksgemeinschaft. Многие из тех, кто писал позднее, полагают, что травма, вызванная огненной бурей, была столь сильна, что лишила выживших дара речи35. Это миф. При таком числе погибших и масштабе разрушений люди неизбежно делились друг с другом своими горем и страхами. Ходили слухи, что погибла четверть миллиона человек (при том, что реальное число погибших было около 35 тысяч) и что силам полиции и штурмовикам СА пришлось подавлять восстание. Нацисты знали, что они не могут прекратить разговоры, но они могли попытаться повлиять на их направление.
Дым едва рассеялся, когда нацистская пропаганда принялась за дело. Она привлекала внимание к разрушенным церквям, отчасти для того, чтобы отвлечь от разрушенных доков и фабрик, работавших на войну, отчасти – чтобы подчеркнуть варварское уничтожение культурного наследия. 21 ноября 1941 года, в последнее воскресенье перед Рождественским постом, в традиционный день поминовения усопших у протестантов (Totensonntag), на площади Адольфа Гитлера перед гамбургской ратушей состоялся грандиозный митинг. Десятки тысяч стали свидетелями того, как проявления скорби перешли в призыв к борьбе до последнего, звучавший все громче и громче. Как сказал местный нацистский лидер, гауляйтер Карл Кауфман, бомбардировка была историческим испытанием, и жители Гамбурга с их ганзейским духом показали всем немцам, что они его выдержали. Она выявила лучшее, что в них есть: жертвенность, смелость и взаимовыручку. Смерть не была бессмысленной. Авианалеты, словно “пламя кузнечного горна”, сплавили индивидов в подлинное народное сообщество, сильное, как никогда раньше. Что же касается мертвых, “есть лишь один способ отблагодарить их за то, что они нам дали, – победа”36.
Если нельзя было наказать Англию, то всегда был враг в пределах досягаемости – евреи. Евреи были мишенью для мести с начала войны. После бомбардировок немецких городов их стали винить в страданиях невинных немцев – женщин и детей. Вупперталь, стоящий на реке Вуппер, на краю Рурской долины, подвергся массированным бомбардировкам в мае и июне 1943 года. Месяцем позже, в Зуле, на несколько сотен миль восточнее, среди местных рабочих стало ходить стихотворение. Оно называлось “Возмездие”: “Придет день, когда вуппертальское преступление будет сурово отмщено и вы в своих краях сломитесь под железным ураганом // Вы, убийцы, принесшие столько горя в этот город, убивавшие младенцев у материнской груди и стариков, // Мы живем лишь неистовой ненавистью к вам, вместе с прочими евреями, несущим на себе клеймо Вуппера”37. Повсюду люди рассуждали о том, что нужно было не изгонять евреев, а организовать в немецких городах гетто, которые служили бы живыми щитами для немцев38. Некоторые писали Гитлеру и Геббельсу, предлагая за смерть каждого “арийца” вешать или расстреливать десять или двадцать евреев39. Бесчеловечная фронтовая математика достигла тыла.
Других немцев бомбежки спровоцировали на рассуждения в совершенно ином моральном ключе. Многие верили, что бомбежки были знаком Божьего гнева, воздаянием за грехи немцев. Возможно, эта точка зрения не была преобладающей, но после бомбардировок она перестала быть маргинальной. В Гамбурге некоторые священники отмечали “чувство вины”, испытываемое их прихожанами40. Годом раньше, в марте 1942-го, лютеранский пастор в близлежащем Любеке объявил авианалет “наказанием свыше”. (Пастор был арестован, признан виновным в деморализации армии и казнен на гильотине.) 8 июля 1943 года секретная служба доносила, что берлинцы объясняют бомбардировку Кёльнского собора “наказанием свыше” за сожжение синагог в 1938 году41.
Далеко не все полагали, что их наказывает десница Господня, но все большее число людей трактовали свою судьбу как ответ на преследования евреев. “Безотносительно ярости в адрес англичан и американцев из-за их бесчеловечности в войне, – писал гамбургский коммерсант своему другу после операции «Гоморра», – нужно бесстрастно признать, что простые люди, средний класс и другие слои населения – как частно, так и публично – говорят о налетах как наказании за наше отношение к евреям”42. Члены небольших групп Сопротивления также рассматривали бомбардировки союзников как справедливое возмездие за депортацию их еврейских друзей. “Англичане отплатили за злодеяние массированным налетом на Берлин”, – записала в дневнике 2 марта 1943 года Рут Андреас-Фридрих, член подпольной группы “Эмиль”, прятавшей евреев в столице. События напомнили ей о гётевском “Ученике чародея”. “Метла, которая вымела евреев из Германии, больше не встанет в угол. Тот, кто вызвал духов, не сможет загнать их обратно”43.
Чувство соучастия
Теперь мы знаем, что союзники бомбили Германию, чтобы сломить сопротивление в тылу, а не для того, чтобы отомстить за убитых евреев. Однако для многих немцев в то время одно было логически связано с другим. Донесения тайной полиции за 1943–1944 годы фиксируют множество подобных высказываний. В Швайнфурте, центре военной промышленности в Северной Баварии, местные жители говорили, что в августе 1943 года их бомбили в отместку за Kristallnacht – погром 1938-го. В Бад-Брюккенау, спа-курорте в северной части Рёнских гор, некоторые утверждали, что “все отношение к еврейскому вопросу” и его решение были “абсолютно неверными”. Теперь же “немецкому населению приходится платить за это”44. В ноябре 1943 года некий берлинец сформулировал то же самое в предельно лаконичной форме: “Знаете, почему наши города бомбят? Потому, что мы поубивали всех евреев”45.
Но кого он называл словом “мы”? Понять, насколько эти высказывания констатируют соучастие, – нетривиальная задача. Некоторые из упомянутых нами людей в Швайнфурте и Бад-Брюккенау могли утешаться такой мыслью: нас бомбят, потому что другие (нацисты) делали с евреями то, что мы никогда не одобряли. Неподалеку, в средневековом Ротенбурге-на-Таубере, в октябре 1943 года местный тренировочный центр нацистской партии жаловался на возрождение “сказочки о «хорошем еврее»”: многие полагали, что “партия обходилась с евреями слишком сурово и теперь они за это расплачиваются”46. Тем не менее сохранялось чувство того, что война была коллективным предприятием. Депортации стали последним шагом на пути к массовым убийствам, но им предшествовали дискриминация, исключение, грабежи и насилие. Все это происходило на глазах населения и нередко при его участии. Многие немцы к этому времени жили в домах, ранее принадлежавших евреям, спали в их постелях и ели с их фарфора. Поскольку война обернулась теперь против немцев, росло беспокойство и по поводу того, как евреи могут отреагировать на конфискацию их собственности.
У немцев есть поговорка “Mitgefangen, mitgehangen” – вместе пойманы, вместе вздернуты. Она выражает крайний взгляд на проблему соучастия, предлагая одинаково наказывать всех, невзирая на реальную степень ответственности. Нацисты практиковали извращенный культ коллективного отмщения. Можно было казнить заложников и гражданских, на которых распространялась ответственность за диверсии или убийства отдельных немецких солдат в том месте, где они проживали; и теперь эта политика, известная со времен колониальных войн, стала еще радикальнее. Коллективные наказания отражали презрение к индивидуальной жизни. Нацисты возродили средневековую концепцию Sippenhaft – родственной ответственности, в соответствии с которой вся семья должна была отвечать за деяние одного из ее членов: с конца 1942 года эта практика применялась к женам, детям и братьям дезертиров, а затем – к семьям заговорщиков, пытавшихся убить Гитлера 20 июля 1944 года. После 1945 года понятия вины и соучастия были радикально пересмотрены, но важно подчеркнуть, что в 1943–1945 годах множество немцев хорошо знало, что это такое.
Осведомленность о зверствах немцев на фронте мешала осудить советские преступления. Весной 1943-го нацистская пропаганда сделала попытку использовать в своих целях обнаружение массовых захоронений в Катынском лесу под Смоленском, где Советы расстреливали польских офицеров и представителей интеллигенции, объявив их “работой еврейских мясников”. Реакция общественности варьировалась от агрессивного антисемитизма до критического самоанализа. В Берлине тайная полиция резюмировала мнения, распространенные прежде всего в образованных и религиозных кругах, следующим образом: “Мы не имеем права огорчаться из-за того, что делают русские, поскольку немцы уничтожили намного больше поляков и евреев”. Сходные высказывания отмечались в сельской местности в Нижней Франконии. В саксонском Галле взгляды жителей разделились: одни хотели “убить евреев”, другие указывали, что если бы немцы сами не громили евреев, сейчас царил бы мир. Как писал окружной глава Швабии в июне 1943 года, “шок Сталинграда еще не прошел”, и люди опасались, что русские могут убить немецких пленных “в отместку за предполагаемые массовые казни евреев на востоке”47. В ноябре 1944-го штутгартское отделение тайной полиции критиковало пропагандистские сообщения нацистов о массовых убийствах гражданского населения, осуществленных Красной армией в Неммерсдорфе (сейчас – Маяковское, Литва), первой прусской деревне, сдавшейся Советам, поскольку они часто имели обратный эффект. Среди местного населения “многие” говорили: “При виде этого кровопролития думающий человек немедленно вспомнит о тех зверствах, которые мы сами творили на земле врага, да и в самой Германии тоже. Не мы ли тысячами убивали евреев? Не говорят ли солдаты снова и снова, что в Польше евреям приходится самим рыть себе могилы? А что мы сделали с евреями в концлагере в Эльзасе? Евреи ведь тоже люди. Мы показали союзникам, как они могут с нами обойтись, если победят”48.
Таких “мы” было великое множество. Среди тех, кто находился в тылу, распространялось чувство соучастия в преступлениях, совершенных от их имени. А где же в этом пейзаже возмездия, отмщения и расплаты видела себя церковь? Религия традиционно претендует на моральное лидерство. При нацистах и протестантская, и католическая церкви утратили эту роль. В 1933-м и та, и другая присягнули Гитлеру, причем лютеране сделали это с наибольшей готовностью. Современность и секуляризация подрывали веру и авторитет церкви. Предполагалось, что нацисты возродят христианство, как и Германию. И в этом церкви не могли ошибаться сильнее. Нацистский тоталитаризм – от юношеских союзов и благотворительных кампаний до публичных ритуалов и культа Гитлера – только подрывал и без того уменьшающуюся роль церкви в обществе. Среди священников были распространены антисемитизм и антикоммунизм. Единственные два случая, когда церковь сопротивлялась, – это борьба Исповедующей церкви против яростных “Немецких христиан” из-за отстранения обращенных евреев от церкви в 1934 году и протесты католиков и протестантов против эвтаназии в 1941-м, которые на какое-то время заставили Гитлера отложить убийство людей с ограниченными возможностями (к тому времени в рамках так называемой Aktion T4 уже было уничтожено около 100 тысяч человек). Участие в выступлениях против эвтаназии, которыми руководил католический епископ Мюнстера Клеменс фон Гален, требовало мужества. Но все же заботы духовенства распространялись только на его паству. Обращенные евреи были членами церковных общин, а об инвалидах заботились в церковных приютах, причем и у тех, и у других были семьи, способные высказаться от их имени. Но подобного мужества не хватало, когда речь шла о посторонних – о депортациях и уничтожении евреев, убийствах советских военнопленных и гражданских и других зверствах. Церкви активно участвовали в войне, в пропаганде, направленной против большевистского врага, и в системе принудительного труда; так, в протестантских госпиталях и приходах работало около 12 тысяч подневольных рабочих50.
Протестантский епископ Теофил Вурм был одним из первых и наиболее активных критиков нацистской системы массового уничтожения. В 1940 году он разослал письма протеста против Kristallnacht и убийств, связанных с эвтаназией. Вурм был не чужд антисемитизма – он считал евреев “опасным” элементом, с которым государство имеет право бороться, но нацисты зашли слишком далеко. В 1941 году он заявил Генриху Гиммлеру о своем несогласии по поводу массовых убийств. Депортация евреев-полукровок (Mischlinge) заставила его вновь разослать письма протеста в марте 1943 года министрам правительства, а в июле – и самому Гитлеру. “Убийство без военной необходимости и без судебного приговора есть извращение Божьих заповедей, даже если таков приказ властей”51. Вурм писал, что политика “истребления еврейства” представляет собой “ужасную несправедливость, роковую для немецкого народа”. Как и во многих других заявлениях, главной проблемой было не убийство евреев, а то, что “арийским” немцам в конечном счете придется за это расплачиваться. Бомбежки – это Божья кара. Не говорит ли Библия: “Что посеешь, то и пожнешь”? “Горе тем, кто полагает, что других людей разрешено убивать, – постановил в конце августа 1943 года Силезский синод в Бреслау, – если их считают бесполезными или принадлежащими к другой расе”52.
Тем не менее в протестантской церкви и в Гамбурге более всего набирали силу другие интерпретации бомбежек. Название операции “Гоморра” придумали англичане, но местные пасторы совместно с прихожанами обратились к Книге Бытия, чтобы объяснить гнев Божий. Не была ли их судьба подобна судьбе Лотовой жены? Библия рассказывает, что перед тем, как Господь наказал жителей Содома и Гоморры, ангел предупредил благочестивого Лота и его семью: “Спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть”. После этого Бог обрушил на оба города “серу и огонь”. Лот послушался, но его жена “оглянулась… и стала соляным столпом” (Бытие 19:26). Мораль, следующая из этой истории, такова: не оглядывайтесь на свои прошлые грехи, освободитесь от них, смотрите вперед и следуйте Христу. Пастор района Гамм написал циркулярное письмо прихожанам, оставшимся в живых, основываясь на истории Лота. Бомбежка всех предупреждала: “Смотрите не назад, а вверх”. Немцев наказывали за то, что они предпочли спасению земные соблазны. “Должны ли мы обвинять Королевские ВВС?” – вопрошал другой пастор. Этим ничего не добиться53. В конечном счете бомбежка – это не о британцах. Это вопрос, адресованный Богом к немцам: когда закончится их безбожие?
Симон Шёффель был старшим пастором в Михеле, церкви Святого Михаила, главной церкви и достопримечательности Гамбурга. В 1933 году он призвал всех лютеран поддержать национал-социалистов в их борьбе с либерализмом, секуляризацией и загрязнением немецкой нации чужой кровью. Теперь, после налетов, он стал проповедовать, что бомбежки – это послание о том, что нужно стряхнуть с себя все путы и следовать Христу. В Пасхальное воскресенье 1944 года во время службы случился очередной налет и пастве пришлось прятаться в крипте до часа ночи. Когда Шёффель продолжил службу в Пасхальный понедельник, он заверил прихожан, что воскресение из мертвых сейчас приобретает большее значение, чем когда-либо раньше. Оно относится не к завтрашнему дню и не к будущему году. Вера в Христа дает им вечное будущее, которое никогда не станет прошлым. Бомбардировки очищали их души. Снова и снова он объяснял, что страдания не напрасны: они открывают души духу Божьему54.
Все эти толкования вели к одному выводу. Да, немцев наказывали, и наказывали справедливо, но не за прегрешения против евреев или других “врагов” Volk. Их наказывали за слабость их христианской веры. “Есть страдание, – проповедовал Шёффель, – которое ниспосылают нам не за наши грехи, но – скажем откровенно – ради царствия Божия, ради Иисуса”. В католических землях священники сходным образом представляли бомбардировки как гнев Божий, как наказание за углубляющийся разрыв между миром духовным и миром земным, помешанным на деньгах, технологиях и нововведениях. Такие диагнозы тоже подразумевали соучастие определенного рода, однако оно было трансцендентным и обращенным к небесам, освобождающим верующих от размышлений об ответственности за последствия своих поступков здесь и сейчас. Для этих людей бомбардировки означали, что нужно отвернуться от Мамоны, а не от Гитлера55.
Разделенный Volk
Бомбардировки, бегство и эвакуация нанесли Volksgemeinschaft как моральный, так и материальный ущерб. Нацисты создали обширную сеть социального обеспечения. Взаимопомощь была центральным элементом нацистского режима, и во многих сердцах она порождала отсвет сострадания – в особенности это касалось молодежи, которая помогала старикам и собирала пожертвования и металлолом на благо нации. Через Winterhilfswerk прошли миллионы матрасов, предметов одежды и продуктовых наборов для нуждающихся56. В организации было больше миллиона волонтеров. Ее девизом было: народ (Volk) помогает себе сам. Одна из социальных работниц так объясняла его смысл. В отличие от либеральной Британии, где предупредительная помощь собирается по крохам, нацисты воюют с причинами общественных недугов. Вместо того, чтобы полагаться на милостыню, нацисты организовали “положительную и конструктивную заботу о Volk… этос национального самосохранения”. Религиозная благотворительность типа “возлюби ближнего своего” была основана на “чистых взаимоотношениях ты-и-я”57. Женщина надеялась, что это сохранится, но только как дополнение к Fernstenliebe, любви к дальнему. Конечно, эта расширенная сфера эмпатии была сосредоточена вокруг “арийской” нации и исключала евреев, которым не разрешалось даже участвовать в подобной благотворительности, не то что получать через нее помощь. Нацистская мораль также прямо нападала на более личную, духовную идею церковной благотворительности. В 1937 году церковным организациям было запрещено собирать пожертвования на улицах.
В действительности нацистское социальное обеспечение никогда не было по-настоящему добровольным. Оно полагалось на общественное давление и принуждение. В марте 1943 года шахтерам было фактически приказано участвовать в “добровольной танковой смене” для помощи военным усилиям. Годом позже все сотрудники автоматически перечислили 10 % подоходного налога на нужды “Зимней помощи”58. Когда пожертвования снова выросли, это произошло не только из-за инфляции, но и из-за чувства, что деньги потеряли свою стоимость.
Первоначально жертвы бомбардировок могли рассчитывать на существенную помощь государства. К весне 1942 года в Гамбурге было зарегистрировано 180 тысяч прошений на общую сумму в 100 миллионов рейхсмарок для возмещения ущерба от военных действий. Люди получали материальную помощь на покупку новой посуды. Бездомных расселяли в квартиры депортированных евреев, и они получали свою долю из конфискованной у тех мебели, правда, лишь после того, как партийные боссы выбирали для себя лучшее. Помощь и соцобеспечение были важными движущими силами нацистского Volksgemeinschaft. Однако к лету 1943-го масштабы разрушений были таковы, что местные власти более не справлялись. Теперь нацисты опасались, что любые призывы к самопомощи прозвучат как открытое признание в поражении59.
Массовая эвакуация также порождала напряжение. В Вестфалии в северо-западной части страны матери открыто протестовали против приказа об эвакуации детей. Власти угрожали в случае неповиновения отбирать продуктовые пайки. “Мои дети никуда не уедут, а если у меня не останется еды, я, по крайней мере, смогу погибнуть вместе с ними”, – говорила одна из матерей60. Горожане, лишившиеся крова из-за бомбежек, встречали наибольшее сочувствие в тех регионах, где имелся собственный опыт миграции, как, например, на востоке Германии. Однако повсюду прибытие эвакуированных женщин и детей заставляло местных жителей ограничивать свое сочувствие кругом близких и соседей. Доклады тайной полиции в августе 1943 года предупреждали о “прохладном, если не враждебном приеме”, который ожидал семьи гамбуржцев в Австрии и Баварии, “бомбоубежище” рейха. Когда бомбили Мюнхен и Нюрнберг, местные жители возлагали вину на жителей Гамбурга – “потому что вы не ходите в церковь!”61 В некоторых городах владельцы больших квартир отказывались принимать у себя беженцев, пострадавших от бомбежек; таких владельцев арестовывали. Жители сельской местности находили вновь прибывших горожан испорченными: те относились к ним как к слугам. С другой стороны, молодые матери из числа эвакуированных жаловались, что квартирные хозяйки не разрешают им стирать подгузники или греть молоко для младенцев. Поводом для конфликтов были различия в пищевых привычках, диалекте и образе жизни. По мнению тех, кого эвакуировали в Альпы, принятые там блюда с клецками “годились только для свиней”62. Из-за недоброжелательства местных многие эвакуированные возвращались домой без разрешения. Даже сырой подвал в разбомбленном Гамбурге был лучше. “Здесь, в Австрии, никто не испытывает [к нам] сочувствия, – жаловалась одна из матерей. – Попробовали бы они сами, что такое бомбежки”63. Солидарность Volksgemeinschaft была вдребезги разбита бомбардировками.
Бомбардировки испытывали на прочность и семейные связи, и результаты были разными. Для многих в тылу быть объектом “террористических атак”, как их называли нацисты, означало наличие цели и самопожертвование, подобное самопожертвованию их детей на поле боя. В мае 1943-го родители писали своему сыну Гельмуту из Эссена, что “ни в каком другом городе жители не прошли через такое количество налетов, как в Эссене… Раненых награждали Пурпурным сердцем и даже Железным крестом. Этим все сказано… Мы стали почти такими же смиренными, как наши храбрые солдаты на фронте. Мы не хотим, чтобы ты нас стыдился, и всегда будем исполнять свой долг вплоть до окончательной победы”64. Некоторые солдаты приходили в ярость, узнав, что их семьи покинули родной город. Мартин Майер из Берлина, в прошлом банковский клерк, воевал в составе 14-й танковой дивизии на территории Франции и Украины; это была одна из дивизий, разгромленных под Сталинградом, ее нужно было реорганизовать. В августе 1943 года он писал жене. Может быть, она “сошла с ума”? Покидать Берлин было худшим из того, что она могла сделать: это “проявление нелояльности фюреру и нашему делу”. Ей должно быть стыдно за себя. Ее и других берлинцев стоило бы “отправить на несколько недель в концлагерь поголодать”. Это была измена родине, удар в спину, как в 1918-м. Майер вернется из России с победой и отыщет всех этих недалеких и эгоистичных людей. Он сам может сосчитать по пальцам одной руки, когда он кричал “хайль”, но такое поведение вызывает у него лишь брезгливость. Если бы его жена внимательно прочитала приказы об эвакуации, то поняла бы, что вывозят только стариков, детей и больных, так как осенью немцы сровняют Лондон с землей, а если англичане ответят, то этот “вздор” и вовсе потеряет значение65.
Разногласия раскалывали семьи. Одной из подобных трагических историй стала история докера Конрада Х., который трудился на судоверфи Blomm&Voss в Гамбурге. В самом конце 1942 года он гостил у своего больного отца в Рурской области и говорил семье о том, что война скоро будет проиграна. Удивленный тем, что в местной пивной люди все еще обмениваются нацистским приветствием, он сказал, что члены партии первыми лишатся голов после победы врага. Старший брат Фриц посоветовал ему говорить потише, чтобы не привлекать к себе внимания. Несколько недель спустя их брат Вилли оказался дома в увольнительной с фронта, и Фриц упомянул о случившемся в пивной. Вилли, служивший в Waffen-SS, заявил, что обязан доложить об этом своему командиру. По сохранившимся фрагментам судебного дела не понятно, сделал ли он это. Тем не менее в феврале 1943 года Конрада арестовали по подозрению в участии в диверсии, которая привела к затоплению корабля. На следующий день его освободили. В сентябре он был арестован снова, на этот раз за пораженчество. Доносили, что на работе он не раз говорил, что “в Сибири города лучше, чем в Америке”, что “война проиграна и русские вот-вот войдут в Гамбург” и что, обсуждая свадебный подарок для коллеги, он заметил, что “кастрюля будет лучше, чем бюст Гитлера”. В марте 1944 года народный суд собрался в частном доме, чтобы вынести свой приговор. В числе свидетелей были Фриц Х. и его жена, хотя как членам семьи суд разрешил им хранить молчание. Дверь в комнату заседаний закрыли неплотно, и те, кто сидел в коридоре, могли слышать заявление Фрица Х.: “Надо искоренить (ausgemerzt) всех, ему подобных. Нам не нужен второй 1918-й” – это был намек на предполагаемый “удар в спину”, когда тылы предали армию и в результате привели к поражению в Первой мировой войне. Вынесение приговора не заняло много времени. Конрада Х. приговорили к смерти. Фриц плакал. “Я не этого добивался, – говорил он другому свидетелю, – и не ожидал, что до этого дойдет”. 20 мая 1944 года его брат был казнен66.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе