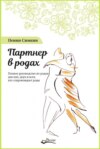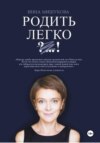Читать книгу: «Символика и семантика компонентов модели мира в русской традиционной культуре. Монография», страница 3
1) перечисление элементов в разных последовательностях (движение по цепи) с введением нумерации или без неё;
2) указание местонахождения одного элемента относительно другого;
3) указание начала (порождение) и конца (уничтожение) одного элемента относительно другого;
4) указание «ценности» одного элемента относительно другого и т. д.
Можно предполагать, что эти правила, идеально описывающие формальную и содержательную структуру мифопоэтических текстов, возникли или сложились в систему именно в эту эпоху, став тем резервуаром, из которого и последующие эпохи обильно черпали как элементарные логические схемы, так и тропы и фигуры, заложенные в основу позднейшей поэтической образности. Подобным же образом ритуал, связанный с мифом творения, дал в последующие эпохи начало эпосу, драме, лирике, хореографии, музыкальному искусству и другим родам и жанрам искусства, на материале которых нередко восстанавливается архаичная модель мира [119, с. 161—166].
По мнению Е. Н. Ростошинского, мифологическая картина мира лишена основания для расчленения своих составных частей. В этой картине мира ее элементы еще спаяны в образное синкретическое целостное представление о явлениях природы и общественной жизни. Включенность всякого явления, всякого элемента этой мифопоэтической картины мира делалась понятной и доступной члену родовой общины только через сближение со своими собственными ощущениями [100].
Исследованием «мифологической модели мира» занимались М. Элиаде, Т. В. Цивьян, П. П. Червинский, Н. А. Мишанкина и др.
Так, например, Т. В. Цивьян в своих исследованиях по лингвистике использует термин «модель мира» (ее мнение созвучно с концепцией В. Н. Топорова). Она считает, что в содержательном плане архетипическая модель мира ориентирована на предельную космологизованность всего сущего и тем самым на описание космологизованного modus vivendi и основных параметров вселенной – пространственно-временных, причинных, этических, количественных, семантических, персонажных [129, с. 5]. Для представления этого комплекса выработан способ описания: система бинарных оппозиций. Все исследования Т. В. Цивьян строятся на дальнейшем анализе бинарных оппозиций – пространственных, временных, цветовых и т. д.
Лингвистический анализ устойчивых символов фольклора осуществляет П. П. Червинский. Он выводит парадигматическую модель традиции. Данная модель отражает схему четырехчастного устройства мира с центром (4+1): три по вертикали (верх – середина- низ, верхний – средний – нижний мир); три по горизонтали (левое – центр – правое, запад – центр – восток, север – центр – юг) два плюс один (вне/внутри – граница, свое/чужое – нейтральное, этот мир/тот – промежуточный, средний). В качестве структурно-грамматических составляющих в ней отражены также фольклорные представления о времени, пространстве, жизни, смерти, обрядовые и культовые структуры, содержащие противопоставления на два, три, два плюс один, четыре, четыре плюс один. П. П. Червинский обращает внимание на то, что выведенная им модель – это не модель мира в обычном понимании, не схема и не символ его устройства. Она обладает свойством единой интерпретации самой себя в своих составляющих, включает номинативное и грамматическое, общее и конкретное, виртуальное и актуальное, парадигматику и синтагматику, морфологию и синтаксис [130].
В контексте современной философско-культурологической парадигмы Л. П. Гекман исследует модель мира мифопоэтики народов Сибири. Она представляет специфическую модель мира как модель виртуальную. Виртуальная вселенная, по мнению исследователь, представляется как номинализированные, персонифицированные «плюсы» и «минусы» – маркеры конечных точек эпической горизонтали и вертикали. Мир эпики творится посредством слова, и сказитель искусно управляет семантическими и символическими возможностями средств вербальной коммуникации [24, с. 222]. Исследователь дает определение модели мира – «понятие „модель мира“ представляет в конкретике, системности идеи о структуре мироздания, типах связей между элементами структуры, обеспечивающих целостность системы (модели) как диалектического единства противоположностей в их конечном числе» [24, с. 224].
Таким образом, философский и культурологический подход предполагают следующую иерархию функций: 1. Системность (классификация и систематика явлений, составляющих мировоззрение этноса); 2. Знаковость (как семиотическая система); 3. Утилитарность (система коммуникаций). Для данного подхода первостепенной является способность категорий, составляющих модель мира, отражать мировоззрение этноса.
Модель мира в любой культуре представлена, прежде всего, в языковой системе: мифологической, философской, литературно-художественной. В архаических и традиционных культурах единственной (или основной) формой воплощения данной модели являлись (являются) сакральные тексты… [24, с. 226]. Фольклорные тексты, генетически связанные с мифологией и сохраняющие традиционность бытования и исполнения, воспроизводят фрагменты модели мира, которые можно реконструировать, а затем путем соединения фрагментов воссоздать мифологическую картину мира. Но следует оговориться: модель не подлежит буквальной реконструкции, а соответствие ее «картине» всегда гипотетично. Наверное, поэтому каждый исследователь имеет свою концепцию картины мира. Для наиболее четкой регламентации функций данного понятия мы разработали следующую таблицу:
Таблица №1

Мы считаем, что эти концепции можно подразделить на абстрактно-функциональный подход (М. Хайдеггер, И. Г. Корсуцев, В. Маслова и т.д.) и семиотический (Т. Цивьян, А. Косарев, В. Топоров, П. Червинский, Л. Гекман и т.д.). Абстрактно-функциональный взгляд предполагает рассмотрение понятия «картина мира» в глобальных масштабах, применимых практически к любой сфере культуры (языку, менталитету, мировоззрению и т.д.). Нам ближе второй подход (семиотический) – рассмотрение модели мира через призму мифопоэтических воззрений, семантику и символику фольклорных текстов.
Как видим, отраслевые определения гуманитарными науками интересующего нас понятия имеют выраженную специфику. Но при этом каждая из проанализированных концепций учитывает связь картины мира с мировоззрением, бытование в соответствующей знаковой системе. Для нашего исследования наиболее продуктивным является следующее определение: «Модель мира – это концепт, содержащий систематизированную сумму представлений этноса о мире, сформированный на определенном этапе развития и заложенный в мифопоэтическую версию».
Понятие модель мира воплощает в себе представления о структуре мироздания, о компонентах, связывающих эту структуру. Такими компонентами являются символы, категории, архетипы, анализ которых позволит реконструировать модель мира. Анализ названых компонентов составит дальнейшее содержание исследования.
1.2. Вариант конструирования модели мира в магических практиках архаических культур
В параграфе рассматривается феномен магии и магического мышления как специфической практики создания модели этнического мира архаических и традиционных культур. Анализируются виды магии; исследуется роль магических процедур и заклинательных текстов в создании модели мира.
Задача данного раздела состоит в попытке раскрыть магический аспект конструирования модели мира в архаических культурах. Методологически значимыми для параграфа стали идеи Б. Малиновского, С. А. Токарева, Дж. Фрезера, М. Элиаде и др.
Наличие магии является константой любой архаической культуры. Существуют различные определения магии и подходы к осмыслению феномена магического. Мы не претендуем на попытку целостного анализа и исследуем магию в парадигме рационального знания.
Справочная литература содержит такое определение: «Магия – это обряды, связанные с верой в способность человека сверхъестественным путем воздействовать на людей, животных, явления природы, а также на воображаемых духов и богов» [10, с. 442]. Специалисты-религиоведы уточняют это понятие в соответствии со спецификой исследований. Например, С. А. Токарев считает, что магия – одна из существенных, органических частей всякой религии, магия и религия неотделимы друг от друга на протяжении всего времени формирования [118, с. 404]. Тем не менее, разные подходы к определению феномена магического отличают общие характерные черты: магия – это совокупность специфических обрядов и средств, дающих способность повлиять сверхъестественным образом на окружающий мир.
На рубеже XIX – XX вв. собиратель заговорных текстов В. Даль, продолжая традицию средневековых западноевропейских и отечественных исследований, разделяет магию на «черную» и «белую». «Черной» магией считается агрессивная магия, способная принести зло, несчастье, тоску, болезнь, одиночество, смерть тому объекту, на которого она будет направлена. «Белой» магией называют оборонительную, исцеляющую магию, охраняющую от сглаза, порчи, болезни, злых духов и исцеляющую от уже существующих недугов [37, с. 26—34]. Магические (колдовские) действия, описанные в разных источниках, бесконечно разнообразны. Они различаются по степени сложности, по целевой направленности и по психологическому механизму действия.
В попытке раскрыть феномен магического некоторые современные ученые (Капустин Н. С., Замошкин Ю. А.) искали истинные источники веры в колдовство в особом «магическом сознании» первобытных людей, не позволявшем им мыслить логически, как это свойственно современному человеку. Однако подобные теории особенностей первобытного мышления, утверждающие, что древние люди были мистиками, что их сознание было ориентировано преимущественно мистически, несостоятельны. Если бы сознание первобытных людей было только магическим, ориентировано исключительно мистически, то они не научились бы строить жилища и плоты, шить одежду и лепить горшки, приручать диких животных и открывать съедобные растения. Сознание людей каменного века было ориентировано, прежде всего, практически и в определенной степени адекватно отражало действительность [31, c.7 – 9].
Мы разделяем точку зрения, что действительные корни первобытной веры в магию следует искать не в особенностях сознания людей, а в материальных и общественных условиях жизни. Первобытный человек, безусловно, был подавлен трудностью существования и борьбы с природой. Поэтому для архаического человека магическое знание играло важную роль. Первобытные люди, вероятнее всего, были убеждены, что посредством исполнения магических обрядов они вступают в контакт со сверхъестественной силой, способной защитить их от стихий природы, от всех злых сил и существ, помочь в достижении той цели, которую они не в состоянии достичь посредством практических приемов и средств. Отсутствие реальных способов, гарантировавших надежные результаты деятельности, и явились основными причинами того, что человек стал создавать иллюзорные, иррациональные средства воздействия на природу. Этими средствами были магические ритуалы и обряды. Конкретные формы колдовства создавались каждым родом, племенем, общиной самостоятельно, результатом чего явилось бесчисленное многообразие ритуалов и обрядов.
В хронологическом дискурсе А. В. Петров выделяет архаическую мистику. Он считает, что главное отличие первобытной (то есть архаической) мистики от мистики древней, средневековой и современной состоит в том, что в ней еще отсутствуют представления о сверхъестественном, потустороннем, ирреальном. Обобщающее знание в первобытную эпоху еще не отделилось от начальных опытов практики, но уже делает попытки этого отделения, что и приводит к наивным аберрациям познания. Архаическая мистика еще не знает сверхъестественного «духовного мира»: для первобытного сознания все естественно и реально. Архаическая мистика различает лишь ведомое и неведомое, явное и тайное, постижимое и непостижимое, понятное и непонятное. При этом все неведомое, тайное, непостижимое и непонятное в представлении первобытного человека каким-то своеобразным способом оказывалось взаимосвязанным и составляло истину. На уровне родового общества мистика охватывает широкий круг явлений познавательной деятельности человека и позднее частью входит в религию, образуя ее мировоззренческую и обрядовую основу, частью является неизбежным дополнением к положительным знаниям [91, с. 130—160].
В. М. Найдыш, анализируя труды Д. Фрезера [126], делает следующие выводы: магия – это не продукт некоторой внерациональной деятельности, это мышление принципами. Первобытному человеку был присущ инстинкт поиска принципов мышления, инстинкт причинности [81, с. 22]. Следовательно, по мнению В. М. Найдыша, магические практики ориентировались на выявленные закономерности того, что мы называем сегодня «моделью» или «картиной» мира.
Нам представляется продуктивным положение Ю. М. Лотмана, который, исследуя наиболее архаические социокультурные модели – магическую и религиозную, – считает, что магическая система отношений характеризуется:
1) взаимностью. Это означает, что участвующие в этих отношениях агенты оба являются действователями (колдун совершает определенные действия, в ответ на которые заклинаемая сила совершает свои);
2) принудительностью. Определенные действия с одной стороны влекут за собой обязательные и точно предусмотренные действия другой (власть распределяется поровну: потусторонние силы властны над колдуном, а он властен над ними);
3) эквивалентностью. Отношения контрагентов в системе магии носят характер эквивалентного обмена и могут быть уподоблены обмену конвенциональными знаками.
В основе религиозного акта лежит не обмен, а безоговорочное вручение себя во власть высшей силе, создавшей модель мира и управляющей ею.
Как видим, Ю. М. Лотман акцентирует акт коммуникации агента и контрагента в ряде своих работ («Семиотика культуры», «Внутри мыслящих миров» и др.) [68, 65]. На первый взгляд, его концепция противоречит идеям общепризнанного авторитета в области архаических культур Б. Малиновского, который писал: «…сила магии не является универсальной силой, пребывающей повсюду и направляемой куда угодно. Магия – есть уникальная и специфическая сила, присущая исключительно человеку и высвобождаемая только его искусством, оживляемая его голосом, выбрасываемая вовне лишь пусковым механизмом его обряда [71, с. 76].
Обратим внимание на то, что Б. Малиновский в другой системе категорий высказывал идеи, аналогичные выдвинутым Ю. М. Лотманом: магия – это акт, осуществляемый человеком и направленный на конкретный объект, вынужденный вступить в коммуникативную (пусть скрытую) связь с агентом (колдуном, магом и пр.), то есть имеет место взаимность. То же можно сказать и о двух остальных составляющих, названных Ю. М. Лотманом и содержащихся в высказывании Б. Малиновского. Но принципиально важным для нас является утверждение Б. Малиновского об «оживлении» голосом мага его разрушительной или созидательной энергии, способности мага влиять на порядок элементов модели мира. Поэтому мы считаем необходимым разделить магические действия на неозвученные и озвученные.
Вероятно, изначально существовали только магические действия (движения по кругу, особые движения рук, разжигание костров, действия с предметами и многое другое), вербальное сопровождение появилось позже и являлось лишь объяснением магических действий (куда пойти, что и как нужно сделать, сколько раз и т.д.) Например, «…собираю я травы зельные, варю травы зельные во медяной росе…» [111, с. 68], или «…стала я среди леса дремучего, очертилась чертою прозрачною и возговорила зычным голосом….» [111, с. 49]. С течением времени магическое действие отходит на второй план, а заговоры, заклинания приобретают все большую силу.
Сила слова для человека играет огромную роль. Это подтверждается примерами эзотерического знания великих архаических культур Ассирии, Египта и т. д. Например, египтяне верили, что особыми «словами власти» можно воскресить мертвого или произнесенными особым тоном словами исцелить больного и т. д. Вера в колоссальную силу магического слова послужила источником возникновения многообразных форм заговоров и заклинаний. По-разному произнесенные словесные формулы способны влиять на мир в целом: конструктивно или деструктивно. Этим объясняется, почему основу текста заговора составляют космогонические мотивы. Считается, что именно миф был одной из первых форм знания [76]. Миф был создан, сохранялся и передавался во времени благодаря слову. Архаический человек, вероятно, считал, что каждый раз, производя ритуальные действия, сопровождаемые соответствующим текстом мифа, он заново воспроизводит космогонический акт. Миф передавался традицией на протяжении многих веков, стал основой фольклорных и литературных жанров. Слово бессмертно и вечно, вероятно, во многом благодаря тому, что традиция сохранила универсальные мотивы и символы мифологического знания о мироустройстве (мировая ось, остров, яйцо, как конструкт вселенной и т.д.).
Заговаривающий может обратиться к элементам модели мира: силам природы (ветру, воде, солнцу), высшим божествам и к темным, враждебным существам (сухота сухотищая, лихорадка, черт, дьявол и др.). На наш взгляд, сфера магического воздействия делится на области со знаком «минус», со знаком «плюс» и на нейтральную область. Человек сам выбирает, к чему обратиться, а традиция диктует ему правила и условия поведения в той или иной области. Б. Малиновский, М. Элиаде и др. считают, что в представлениях о мире в каждом примитивном обществе обнаруживаются две четко различимые сферы – Сакральное и Мирское [71, 131]. Принципы магического конструирования строятся на познании и разделении человеком реального и сверхъестественного.
Магия применялась человеком, преследуя сразу несколько целей, слившихся в единую систему и выработавшую механизмы воздействия: обряды, ритуалы. Первоочередной целью было повлиять на ситуацию (вылечить, влюбить, спасти и т.д.). Но для того, чтобы повлиять на ситуацию, то есть на тот порядок вещей и обстоятельств, которые уже заданы, нужно этот «порядок переиначить», как бы «переписать» историю, смоделировать нужную ситуацию. Здесь магия прибегает к мифу творения – космогонии. Из хаотического положения вещей заговаривающий (который в данном случае выступает в роли творца) создает новый образ, новое мироздание с нужным ему порядком. Именно поэтому тексты заговоров содержат мотивы космогонических мифов. В трудах К. Леви-Строса по исследованию магического сознания в архаических обществах прослеживается мысль, что конструирование модели мира выстраивалось по принципу бинарных оппозиций (свой/чужой, светлое/темное) и т. д. Он считал, что в реконструируемом процессе первобытного мышления, совершающего виртуальные переходы от одного мифа к другому, можно выделить три операции, осуществляемые с помощью бинарных оппозиций как единиц мышления: 1) совмещение бинарных оппозиций; 2) перенос бинарности или установление соответствий между более общей и более конкретными оппозициями; 3) введение медиаторов [61, с. 13].
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе