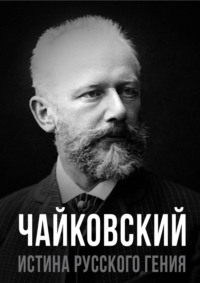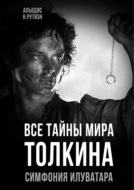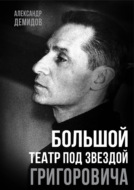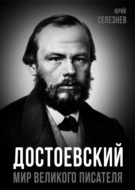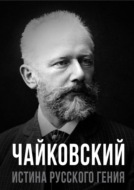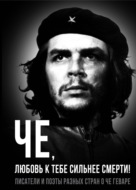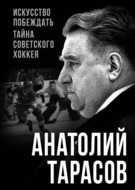Читать книгу: «Чайковский. Истина русского гения», страница 3
Я редко встречал художника, которого так трудно было бы определить одной формулой. Сказать ли, что он был эклектик? На первый взгляд – да: в нем совмещались многие стороны, он был чужд всякого фанатизма, в течение своего поприща заметно подавался вправо и влево. Но эти уклонения так мало касались сущности его таланта! Что бы он ни писал, он явно оставался самим собой, и отпечаток его стиля так же легко узнаваем, как стиль Мейербера, Антона Рубинштейна, Брамса или Верди. Сказать ли, что он был «чисто русская душа»? Это значило бы принять часть за целое. Есть в нашей современной музыке натуры гораздо более определенно русские: достаточно назвать гг. Балакирева и Римского-Корсакова. В Чайковском, как в Алексее Толстом, с которым я вообще нахожу в нем немало родственного, очень сложно сочетались космополитическая отзывчивость и впечатлительность с сильною национально-русскою подкладкою. Я однажды, по поводу «Евгения Онегина», попробовал сказать, что он несравненный элегический поэт в звуках. Но ведь и это, в конце концов, было определение части, а не целого: в то время уже существовали Третья симфония и «Черевички», с тех пор появились и фортепианная фантазия с оркестром, и Третья сюита, и «Спящая красавица», и «Щелкунчик». Нет, элегическое настроение, может быть, и преобладало, но оно то и дело заглушалось мощным, светлым аккордом, и, как я уже говорил, мажорный лирик по силе и глубине вдохновения по меньшей мере равен минорному. Я даже не решусь сказать о нем, как было сказано о Пушкине, что он «преимущественно художник». Это годится для Моцарта, для Глинки; о Петре же Ильиче это дает понятие, лишь до некоторой степени соответствующее истине. Многосторонняя отзывчивость, уменье и, по временам, желание подделываться под чужой стиль, постоянное внимание к внешней формальной стороне искусства – все это черты художника, но я не вижу в Чайковском той симметрии, того равномерного господства над всею областью искусства, той неуловимой объективности, которою поражает Глинка, которою в особенности поражают Пушкин и Моцарт. У творца «Патетической симфонии» чрезвычайно много порыва, увлечения; в сочинении большого объема он редко удерживается на одинаковой высоте и легко впадает в неровность. Он очень богат и, на мое чувство, – односторонен. Нет, я не сумел и, вероятно, никогда не сумею найти формулу.
Быть может, окажется легче определить человека, который в нем, как это, хотя и в разной степени, всегда бывает, отчасти совпадал с художником, отчасти же был ему противоположен. Светлый и ясный ум его, один из восхитительнейших умов, которые я когда-либо встречал (Между прочим, он не любил, когда я его хвалил за остроумие, которым он в моих глазах несомненно обладал, и я готов был бы подумать, что он считал остроумие низменным и нежелательным даром, если бы не тот факт, что Петр Ильич никогда не идеализировал себя и не имел о себе никакого высокомерного представления.), легко и быстро овладевал предметом и часто удивлял меня простотою, с которою он разрешал сомнения и противоречия. Но в этом уме не было ничего логически формального; отвлеченности были ему чужды, порою можно было подумать, что он мыслил воображением и сердцем и что эти подставные органы, действовавшие на славу, были единственными его руководителями. После его смерти, а отчасти, кажется, даже и при жизни было много говорено о его доброте, действительно редкостной и составившей хотя далеко не главную, но, во всяком случае, одну из причин той обширной популярности, которою он пользовался и помимо своих артистических заслуг. Совершенно верно, что он был очень добр, но я совсем не нахожу, чтобы это качество составляло фундамент его натуры или давало ключ к ее разгадке. Я никак не могу отождествить его образ с образом безупречной сестры милосердия, хотя очень хорошо знаю, что бывали случаи, когда он проводил день за днем у изголовья умирающего друга. Доброта Петра Ильича была лишь последствием другого его свойства, которое, насколько мне дано его понять, было в нем главным и решающим.
Петр Ильич был изящная натура. То полное примирение, которого так часто тщетно искала его грустная и тревожная муза, царило в его жизни и в его душе. Все в нем было прекрасно, начиная от его удивительного умения распоряжаться временем и иметь вид досужего человека после самой трудной и волнующей работы и кончая талантом угадывать характеры, мысли и намерения людей и избегать в разговоре всего, что было бы им непонятно и чуждо. Он умел нравиться людям самых противоположных вкусов и самых различных слоев образования; может быть, он когда-нибудь и прилагал заботу к тому, чтобы нравиться, но в огромном большинстве случаев он очаровывал потому же, почему был добр, – то и другое вытекало из необычайной красоты, из гармонической законченности его натуры. И подобно тому, как он с годами хорошел, так что лицо его, сохраняя выразительность и оживленную оригинальность юных дней, становилось приятнее, он делался мягче и доступнее с годами, сохраняя на шестом десятке лет способность сходиться с людьми, дружиться и делаться необходимым элементом их жизни. Параллельно тому, как росла его художественная слава, все выше и выше поднималась волна любви и поклонения, окружавших его в частной жизни. Но ни то, ни другое не было способно его испортить. Несчастие не сломило бы его энергии и не ожесточило бы его против людей; счастье не вызвало в нем ни самомнения, ни эгоизма. В его тонкой и нежной душе была заключена сила, не только покорявшая всех нас, знавших его, но и перевешивавшая все то, что могла принести или отнять у него судьба.
Ларош Герман Августович (1845–1904) – музыкальный критик, профессор Московской (1867–1870 и 1883–1886) и Петербургской (1872–1879) консерваторий по классу теории и истории музыки, друг П. И. Чайковского, с которым он учился в Петербургской консерватории. Г. А. Ларошу Чайковский посвятил три произведения: пьесу для фортепиано на тему «Возле речки, возле моста» (1862), романс «Пойми хоть раз», ор. 16 № 3 (1872), Тему и вариации для фортепиано, ор. 19 № 6 (1873).
Герман Клейн. Встреча с Чайковским
В июне 1893 года Чайковский приехал в Англию для получения почетного звания доктора музыки в Кембриджском университете; то же отличие было дано еще трем знаменитым музыкантам – Камиллу Сен-Сансу, Максу Бруху и Арриго Бойто. По счастливой случайности я ехал в Кембридж в одном вагоне с Чайковским.
Я был совершенно один в купе, пока не тронулся поезд, и тогда распахнулась дверь и носильщики бесцеремонно втолкнули в нее пожилого джентльмена, а вслед за ним забросили и его багаж. Одного взгляда было достаточно, чтобы догадаться, кто это. Я предложил свою помощь, и, отдышавшись, маэстро вспомнил, что я был ему представлен как-то в Филармонии. Затем последовал замечательный часовой разговор.
Чайковский непринужденно беседовал о музыке в России. По его мнению, развитие ее за последние двадцать пять лет было поразительно. Он приписывал это, во-первых, колоссальной музыкальности народа, которая теперь выходит на поверхность; во-вторых, необычайному богатству и характеристической красоте национальных мелодий или народных песен; и, в-третьих, великолепной работе двух больших учебных заведений в Петербурге и Москве. Он говорил особенно о своей Московской консерватории и просил, чтоб я непременно посетил ее, если когда-либо буду в этом городе. Затем он задал несколько вопросов об Англии и особенно об организации и системе обучения в Королевской академии и Королевском колледже. Я отвечал подробно, а также дал ему информацию относительно Гилдхолла – музыкальной школы – и трех тысячах ее студентов. Он был удивлен, узнав, что в Лондоне имеется такое гигантское музыкальное учебное заведение. – Не знаю, – добавил он, – считать ли Англию «немузыкальной» или нет. Иной раз я думаю так, а в другой раз иначе. Но несомненно то, что вы организуете прослушивания музыкальных произведений разного достоинства, и мне представляется бесспорным, что вскоре большая часть вашей публики станет сторонницей только первоклассной музыки. Потом он вспомнил о провале своего «Евгения Онегина» и спросил меня, чему я это приписываю – музыке, либретто, постановке или еще чему-то? Я отвечал, без лести, что, конечно, это не была вина музыки. Может быть, можно было частично отнести неуспех за счет отсутствия характера в сюжете, а в большей степени к недостаткам постановки и неприспособленности помещения.
– Не забывайте, – продолжал я, – что поэма Пушкина в нашей стране неизвестна и что в опере мы любим яркое окончание, а не такой конец, где герой уходит в одну дверь, а героиня в другую. Что до исполнения, то единственной фигурой, запомнившейся мне, было великолепное воплощение Эженом Уденом Онегина.
– Я о нем много слышал, – сказал Чайковский; и тут мне представился великолепный случай перечислить достоинства американского баритона. Я так возбудил интерес маэстро, что он обещал до отъезда из Англии обязательно познакомиться с ним.
– А прослушать его? – спросил я.
– Не только прослушаю, но и приглашу его в Россию и попрошу спеть несколько моих романсов, – был ответ композитора, когда поезд подошел к Кембриджу и мы вышли. Чайковский должен был быть гостем г-на Мартона, и я взялся доставить его в колледж. Велев вознице ехать несколько более длинным путем, я показывал Чайковскому интересные места, мимо которых мы проезжали, и, по-видимому, эта поездка доставила ему большое удовольствие. Когда мы расстались у колледжа, он тепло пожал мне руку и выразил надежду в следующее посещение Англии снова встретиться со мной. К несчастью, это доброе пожелание не осуществилось.
В группу «музыкальных докторов» должны были войти еще Верди и Григ, но эти композиторы не смогли принять приглашение университета. Однако и остальные четыре составили достаточно знаменитую группу, и концерт в Кембриджском Гилдхолле был очень интересен. Сен-Санс впервые играл великолепную фортепианную фантазию «Африка», которую он недавно написал в Каире; Макс Брух дирижировал хоральной сценой из своего «Одиссея», а Бойто – прологом из «Мефистофеля», – сольную партию пел Георг Хеншель. Под конец. Чайковский дирижировал своей превосходной симфонической поэмой «Франческа да Римини», впервые исполняемой в Англии. Это произведение рисует с образной мощью мучительный вихрь, в котором Данте замечает Франческу и слышит ее рассказ о своей печальной истории (эпизод из Пятой песни «Ада»), Можно легко себе представить, какими овациями был встречен каждый маэстро. <…> Чайковский и Эжен Уден действительно встретились. Последний спел «Серенаду Дон-Жуана» и другие романсы композитора и так очаровал его, что приезд в Петербург и Москву был тут же решен. О своем успехе и поразившей его внезапной смерти композитора певец писал мне:
«Отель де Франс. С.-Петербург. Ноября 8, 1893.
Дорогой Клейн, вы, конечно, читали и писали о страшной, внезапной смерти Чайковского. Вы можете себе представить впечатление, которое это произвело на меня! Я не застал его в Петербурге по дороге в Москву, а там получил его сообщение о том, что он не преминет присутствовать на моем дебюте в сей последней. Вместо этого пришла телеграмма о внезапном заболевании, опасность миновала, надежда. Это было в прошлую субботу. В понедельник утром телеграмма сообщила о смерти!
В прошлый четверг он был здоров и благополучен. Он выпил стакан нефильтрованной воды из Невы, и холера сразила его! Это ужасно! Все русские музыкальные общества в трауре, и концерт, в котором я должен был дебютировать в Петербурге (в следующую субботу, 11-го), перенесен на неделю. Он будет составлен целиком из произведений покойного маэстро. Я буду петь ариозо из «Онегина» и несколько его романсов. А совместное выступление произойдет на следующий день (В этой поездке Удена сопровождала жена, талантливая певица.). Таким образом, мой визит здесь неожиданно продлен. Мой дебют в Москве прошел с потрясающим успехом. Меня вызывали, заставляли бисировать еще и еще… и рецензии очень хороши.
Очень спешу, приветствую
Ваш Эжен Уден».
Клейн Герман (1856–1934) – английский музыкальный критик, писал преимущественно об оперных постановках и вокальном искусстве в лондонской газете «Sunday Times».
Николай Кашкин. Петр Ильич Чайковский
Уже вторая неделя на исходе с того времени, как лютая смерть похитила так неожиданно одного из самых дорогих людей русской земли. Нам он был дорог еще и по личным отношениям, и потому долго не было возможности взяться за перо, – тяжелая утрата невыносимым гнетом давила ум и чувство и лишала ясного сознания несчастья, которому внутреннее чувство упорно отказывалось верить. Но время – величайший целитель, и вот уже дорогой образ отходит куда-то, теряет мало-помалу свой земной облик и начинает представляться чем-то отвлеченным, светозарным, чуждым всякой скорби и радости. Общество русское понесло невознаградимую потерю, но вместе с тем получило и великое наследие в произведениях почившего; теперь на русском обществе лежит обязанность показать, что оно было достойно великого художника, посвятившего ему свою жизнь и свой талант, – обязанность достойно почтить его память. Этим оно сделает оценку и себе, ибо в уменье чтить великих людей ясно выражается уровень развития самого общества.

Николай Кашкин
Хотя Петр Ильич Чайковский ни по рождению, ни по воспитанию не принадлежал Москве, но его связывали с ней узы, быть может, более крепкие: в Москве совершилось его самостоятельное художественное развитие, и сам покойный был того мнения, что на всю его деятельность долголетнее пребывание в Москве имело важное и несомненное влияние. Здесь вполне определился характер его таланта и выработалось его направление в искусстве, и потому Москва стала для него родным городом, куда до самых последних дней усопший композитор возвращался из своих странствий по России и Западной Европе, как домой; даже Клин, где он жил постоянно в последние двенадцать-тринадцать лет, был избран потому, что Петр Ильич смотрел на него как предместье Москвы. Такая тесная связь установилась главным образом вследствие тех отношений, какие существовали между покойным и Н. Г. Рубинштейном, а также и московским консерваторским кружком.
П. И. Чайковский, окончив в декабре 1865 года курс в Петербургской консерватории, переселился в первых числах января 1866 года в Москву, куда он был приглашен Н. Г. Рубинштейном в качестве преподавателя гармонии в музыкальных классах Русского музыкального общества. Мы живо помним, как он появился, молодой, красивый, изящный, несмотря на свой более нежели скромный тогдашний костюм, – изящество было присуще его натуре. Нечего говорить, что Петр Ильич, с его пленительными общечеловеческими качествами, с первых шагов своих в новом городе и среди новых для него людей завоевал все симпатии; но всего важнее было то, что он завоевал симпатии не только человеческие, но и артистические. В этом отношении особенно большое значение имело то искреннее расположение, которое почувствовал к нему Н. Г. Рубинштейн, хотя нельзя сказать, чтобы он баловал молодого композитора особенно снисходительным отношением к его сочинениям. Бесконечно добрый в человеческих отношениях, Н. Г. Рубинштейн был до придирчивости строг к себе и другим во всем, касавшемся искусства, и молодому приезжему пришлось испытать это на себе в самое первое время пребывания в Москве. Дело было так: Н. Г. Рубинштейн предложил Петру Ильичу написать что-нибудь для исполнения в одном из концертов Музыкального общества, – предложение было с радостью принято, и в довольно скором времени была написана концертная увертюра [с-moll]; но когда автор показал свое произведение Н. Г. Рубинштейну, то встретил с его стороны такую строгую критику, что не решился отдать свое сочинение для исполнения; так эта увертюра и осталась никому не известной, но, если не ошибаемся, она должна находиться в числе бумаг покойного в Клину; быть может, она и не заслуживает того забвения, на которое была осуждена двадцать семь лет тому назад.
Потерпев неудачу в новой композиции, Петр Ильич показал своему строгому ценителю увертюру, написанную еще в Петербургской консерватории; это сочинение было одобрено, однако его пришлось переделать, потому что увертюра была написана для маленького оркестра. Новая обработка для большого оркестра была готова в очень скором времени и 4 марта 1866 года исполнена в бенефисном концерте Н. Г. Рубинштейна [семьдесят седьмое симфоническое собрание Русского музыкального общества в Москве]. В публике увертюра имела посредственный успех, но для музыкантов она представляла уже несомненное доказательство даровитости ее автора, этот успех в компетентной среде очень ободрил и обрадовал его.
П. И. Чайковский был всегда очень скромен, но не в смысле самоунижения, а в смысле уважения к мнению специалистов музыкального дела, и очень дорожил их одобрением, а потому симпатии к его таланту московских музыкантов и образованных любителей имели для него очень важное значение: они вознаграждали его за неласковое отношение петербургской музыкальной прессы к его экзаменной работе 1865 года – кантате на оду Шиллера «К радости».
С сентября 1866 года открылась Московская консерватория, Петр Ильич сделался ее профессором и оставался им двенадцать лет, до 1878 года, когда уехал на довольно продолжительное время за границу; по возвращении оттуда он хотя и возобновил свои занятия в консерватории, но ненадолго и вышел окончательно из состава ее профессоров в 1879 году.
Свою Первую симфонию Петр Ильич начал писать в 1866 году, скерцо из нее было исполнено в 1867 году, а вся симфония – в феврале 1868 года. Этот вечер был первым очень большим успехом в публике, укрепившим его веру в свои силы, но потом ему еще несколько лет пришлось ждать его повторения.
Опера «Воевода», поставленная в 1869 году на сцене московского Большого театра, имела скромный успех и была вскоре снята с репертуара. Впрочем, опера давалась при таких условиях, что успех едва ли был возможен. Не говоря о бедности постановки, состав исполнителей был таков, что оперу едва могли выучить; пришлось сделать некоторые купюры только потому, что исполнители не могли осилить несколько сложного ритма; выпущено было, таким образом, все заключение финала первого действия, которое было едва ли не самым сильным местом всей оперы.
В феврале 1869 года в концерте Русского музыкального общества была исполнена фантазия для оркестра «Фатум», также не имевшая особенного успеха и впоследствии уничтоженная автором. В 1869 году в Москву приехал М. А. Балакирев, искренне полюбивший Петра Ильича и начавший, между прочим, приставать к нему, чтобы он написал увертюру к «Ромео и Джульетте» Шекспира. Мне припоминаются наши прогулки за городом втроем, причем М. А. Балакирев излагал весь план увертюры, назначал тональности и успел-таки убедить Чайковского настолько, что он летом и следующей осенью написал увертюру, взяв именно тот план и те тональности, которые ему были указаны. Увертюра была исполнена с большим успехом в 1870 году, но не вполне удовлетворила М. А. Балакирева, сделавшего много метких замечаний относительно некоторых частей увертюры, которая и была переделана согласно этим указаниям и в новом своем виде доставила композитору огромные успехи и в Москве, и в Петербурге в 1872 году. С этого времени начинается действительно большая известность Петра Ильича, и, вместе с тем, отсюда началась деятельность композитора вполне зрелого, окончательно определившего свой путь в искусстве.
Всегда ценивший в музыке красоту прежде всего, Петр Ильич был очень большим приверженцем классических форм, представляющих действительно чрезвычайную разумность и стройность; но раньше он послушно шел по проложенной дороге, а с 1872/73 года стал самостоятельным обладателем этих форм, что выразилось в его Второй симфонии, написанной в конце 1872 года. Начиная с этих пор популярность Петра Ильича быстро возрастает; он становится любимцем публики, и всякое новое его произведение начали встречать с большим интересом не только среди музыкантов, но и в публике. Таким образом, в 1873 году появилась «Буря» (написанная на программу В. В. Стасова), имевшая такой успех в Москве, что она на протяжении одного года была трижды исполнена в концертах Русского музыкального общества, и всякий раз с огромным успехом. В 1875 году появился фортепианный концерт b-moll, в 1876 году – «Славянский марш», в котором живо отразилось тогдашнее настроение общества, в 1877 году – «Франческа да Римини», исполненная в двух концертах сряду, и т. д. Мы не перечисляем дальнейших успехов Петра Ильича на поприще симфонической музыки – они еще в памяти у всех. Но можно припомнить, что Н. Г. Рубинштейн немало способствовал этим успехам; наделенный огромной артистической даровитостью, он проявлял ее во всем блеске только при исполнении тех сочинений, которые ему особенно нравились, а к таким именно и принадлежали сочинения Чайковского. Эти двое артистов до такой степени сроднились душой, что у них выработалось какое-то общее понимание музыки, так что Петр Ильич никогда не указывал своих tempo, а, напротив, старался заметить tempo рубинштейновского исполнения; однажды он пресерьезно отвечал на вопрос этого рода, предложенный Николаем Григорьевичем: «Да что же я в этом понимаю? Ты знаешь гораздо лучше!» Н. Г. Рубинштейн вообще вносил в оркестровое исполнение многие из своих виртуозных приемов, а к сочинениям Петра Ильича он относился с такой горячностью, как будто это были его собственные. Потеря такого артиста и друга страшно поразила Петра Ильича. Но зато он и воздвиг великолепный, вековечный памятник ему в своем трио a-moll.

В области оперы Петр Ильич не всегда имел успех. Мы говорили уже о «Воеводе»; следующая опера – «Опричник» – имела большой успех, но сделалась антипатичной самому автору, хотевшему ее совершенно переделать. Эта мысль занимала его давно, но окончательно он решил приступить к этой работе в последние дни своей жизни; он добыл партитуру «Опричника» и пересматривал ее уже в то время, когда началась болезнь, сведшая его в могилу; только приближение смерти заставило его оставить всякие мысли о будущих работах. Третья по счету опера, «Вакула-кузнец», принадлежала к числу произведений, к которым сам автор питал особое расположение; но в Петербурге опера имела успех средний, а в Москве, где она была поставлена позже, со значительными изменениями и под новым названием «Черевички», с ней случилось нечто странное; ее просто сняли почему-то с репертуара, а в последние годы все собирались возобновить; это предположение существует и для нынешнего года. После «Вакулы» был написан «Евгений Онегин». Мне пришлось быть в 1878 году свидетелем долгих и настойчивых стараний Петра Ильича сделать сценарий этой оперы, но он все не удавался: или недоставало связанности драматического действия, или приходилось отступать от Пушкина. Наконец, после многих попыток, Петр Ильич сказал: «Я вижу, что из этого сюжета настоящей оперы сделать нельзя, но, тем не менее, я должен написать «Онегина», я не могу отказать себе в этом». После он сообщал мне, что во время наших бесед о сюжете значительная часть музыки уже сложилась у него в голове, и прежде всего письмо Татьяны; Петр Ильич до такой степени уверен был в несценичности «Онегина», что старался уверить в этом других, что он сам был, вероятно, главной причиной, что опера эта не сразу появилась на императорской сцене. «Орлеанская дева», поставленная в Петербурге в 1881 году, особенного успеха не имела, а в Москве она и совсем никогда не давалась. «Мазепу» одновременно поставили в Москве и Петербурге, но и эта опера, несмотря на ее огромные достоинства, не удержалась на сцене ни там, ни тут. Еще более печальная участь постигла «Чародейку», в Петербурге продержавшуюся недолго, а в Москве данную всего один раз и по неизвестным причинам не повторенную даже. Блестящим вознаграждением за эти неудачи был успех «Евгения Онегина». Последней была одноактовая опера «Иоланта», которая на днях пойдет и в Москве. Как оперный композитор Петр Ильич занимает у нас одно из первых мест после Глинки, и нам кажется, что истинная оценка некоторых из его опер еще впереди; они едва ли не были слишком сложны и тонки для того времени, когда появились; к таким операм мы в особенности относим «Черевички» и «Мазепу».
В области романса Петр Ильич оставил много первоклассных вещей; в этом роде музыкальной литературы он занимал едва ли не первое место между современными композиторами. То же можно сказать об его струнных квартетах, секстете и фортепианном трио, о котором уже было упомянуто. Одно из первых мест занимают и сочинения его для фортепиано, в том числе концерты, соната и прочее. Для России имеют большое значение опыты Петра Ильича в церковной музыке, его Литургия, Всенощная и др. Эти сочинения остаются пока в тени, но им, несомненно, принадлежит большая будущность. Мы не упомянули об очень многом, но и невозможно в пределах небольшой статьи охватить огромную деятельность композитора, трудившегося неустанно, непрерывно почти двадцать восемь лет и отличавшегося большой легкостью и быстротой изобретения; для примера можно сказать, что «Пиковая дама» была сочинена (но не инструментирована) менее нежели в шесть недель. Не говорим также и об его педагогической деятельности, хотя она длилась двенадцать лет, а его учебник гармонии выдержал много изданий. Покойный никогда не чувствовал влечения к преподаванию, но, тем не менее, исполнял свои обязанности профессора с безукоризненной, щепетильной добросовестностью, как и все, за что он в своей жизни брался. Значение П. И. Чайковского для русской музыки громадное. Его симфонические произведения составляют главную основу русской музыкальной литературы и стоят в одном ряду с лучшими произведениями этого рода в новейшей музыкальной литературе всей Европы, если только не занимают в ней первого места. Будучи по коренным свойствам своей натуры истинно русским человеком, по воспитанию и по образованию он принадлежал к общеевропейской семье, и дух узкого национализма был ему совершенно чужд; тем не менее привязанность к родине была одной из основных черт его характера. Обожая природу и ее красоту в высшей степени, он умел ценить ее везде: и в Германии, и в Швейцарии, и в Италии, и во Франции, но отовсюду его тянуло к родным лесам и полям, которые, в сущности, были ему милей всего остального; особенно привлекали его всегда окрестности Москвы, имевшие для него, по его словам, особую прелесть. Будучи хорошим знатоком европейской литературы, умея ценить писателей всех стран, наиболее искренние симпатии он питал к писателям русским, среди которых Пушкин, Гоголь, Островский и Толстой занимали у него, кажется, первое место, по крайней мере, он их перечитывал чаще остальных. Эти симпатии отражались у него и в музыке; воспитавшись в годы детства и юности на итальянской музыке, он потом перенес свое увлечение на немецких классиков и Глинку, которого он считал одним из величайших композиторов между всеми. Вместе с этими образцами художественной музыки он чувствовал большую привязанность к народной русской песне, но очень чутко отличал всякую подделку или городскую модернизацию песни. К условному стилю так называемых малороссийских песен он чувствовал совершенное пренебрежение, находя, что действительно народные малорусские песни ничем почти не отличаются от великорусских; такими песнями он иногда пользовался, как, например, в начальной теме своей Второй симфонии, в теме ее финала или в финале своего Первого фортепианного концерта. Он мог сам создать темы в чисто народном стиле, как, например, в первом хоре крестьян в «Евгении Онегине», где он взял слова народной песни, а не понравившийся ему напев заменил собственной мелодией. В его сочинениях русский элемент проявлялся не только в заимствованных мелодиях песен, но и в национальном оттенке, очень явном в очень многих из них, иногда даже противоречащем самой задаче сочинения, как, например, тема Офелии в увертюре «Гамлет»; были у него также и гармонические приемы, объяснимые только складом русской песни, редко допускающим вводный тон на седьмой ступени; но такие гармонические особенности являлись у него вполне естественными, без всякой натяжки и придавали его гармонии особый колорит. Напыщенности в музыке Петр Ильич не выносил и потому не особенно высоко ценил Листа. Вагнера он ставил неизмеримо выше, но ультраромантическая подкладка сюжетов его последних опер, их натянутый символизм и не менее натянутая торжественность действия были ему глубоко антипатичны, так что «Парсифаля» он даже и не слышал, хотя и знал его по отрывкам, исполнявшимся в концертах, и по клавираусцугу. Искреннее всего он любил Моцарта, пленявшего его и красотой мелодии, и непосредственным изяществом фактуры. Любовь к Моцарту переходила у него в какой-то благоговейный культ; он сам иногда удивлялся получаемому им впечатлению.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+17
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе