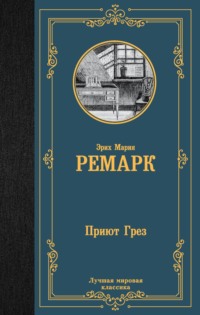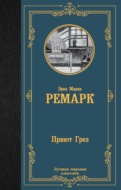Читать книгу: «Приют Грез», страница 2
II
Фриц Шрамм наводил красоту в своем Приюте Грез. Одетый в соломенно-желтую полотняную куртку, он деловито сновал по комнате и наконец, поставив три лилии в старинный оловянный кувшин, удовлетворенно оглядел результат своих трудов. Потом не спеша набил коричневую художническую трубку и выпустил в воздух, пронизанный пляшущими на солнце пылинками, несколько облачков голубого дыма.
В дверь тихонько постучали. Фриц встал.
– Прошу.
Элизабет робко вошла. И невольно остановилась перед открывшимся ей зрелищем.
Коричневая мансардная комната. На стенах картины, множество картин. С одной стороны коричневый деревянный стеллаж с книгами, чьи разноцветные переплеты поблескивали на солнце. На верхней полке, застланной темной тканью, сверкающие раковины, цветные камушки и золотисто-желтые кусочки янтаря. Меж ними коричневый танцор из мореного дерева. Слева – череп в венке из красных роз. Чаша с темно-красными розами под посмертной маской Бетховена, что висела на стене на фоне пурпурного сукна. На скошенной стене – несколько офортов и картина с черным крепом.
– Добро пожаловать в покой моих грез, – сказал Фриц и на вопросительный взгляд Элизабет добавил: – Это мой бетховенский уголок, вот здесь, прямо возле Волшебного окна. Все вещицы – милые памятки и сувениры. Перед ликом Бетховена всегда цветут розы как безмолвное воспоминание и тихая дань поклонения. Цветы такие чистые… и неизменно прекрасные.
Элизабет совершенно оробела от уюта и волшебства этого маленького помещения. Цветы благоухали так сладко, что у нее едва не навернулись слезы. Она не знала почему. Так странно. С некоторых пор она, сама того не желая, часто плакала – без причины. А нередко улыбалась и ликовала в душе – без причины. Сейчас ей казалось, этому мужчине, что рядом с нею, можно сказать все. Удивительное умиротворение.
– Еще два часа здесь будет достаточно света, чтобы писать, – сказал Фриц. – Не пугайтесь, так долго вам стоять не придется. Пожалуй, в целом лишь полчаса. Но при этом я должен часто смотреть на вас, и два часа пролетят быстро. Надолго ли вас отпустила госпожа Хайндорф?
– Я могу остаться сколько захочу!
– Отлично. Тогда мы немного порисуем, а потом чуточку поболтаем, ладно? Идемте же в мастерскую.
Они прошли в соседнее помещение с широкими и высокими окнами и светлыми занавесями, где по стенам повсюду висели и стояли полуготовые наброски.
Фриц достал какую-то папку, подвинул одну из картин.
– Основную идею картины, насколько это вообще возможно, я вам уже обрисовал. Вот здесь наброски. А это – штудии мужской натуры. На мольберте штудия маслом, тоже мужчина. На этих набросках вы видите, как я примерно представляю себе девушку. Поза везде уже почти одна и та же, тогда как лицо и фигура меняются, это знак поисков. А ищущий находит. Давайте попробуем зафиксировать позу, согласны? Вам лучше всего стать перед этим голубым занавесом. И думайте об отчаявшемся страннике в пустыне, которому вы, словно небесная посланница, приносите избавительную влагу жизни… вот так… да… руки немного ниже… лицо чуть ближе к занавесу… пожалуйста, замрите так.
Фриц быстро схватил карандаш и бумагу, грифель широкими штрихами заскользил по альбомному листу.
– Ну вот, – немного погодя сказал он с глубоким вздохом, – движение схвачено. Теперь надо зафиксировать позу, чтобы завтра повторить ее. – Он взял фотоаппарат, навел его и сделал снимок. – Большое спасибо! Вы свободны.
Элизабет подошла к нему.
– Можно посмотреть?
– Конечно, прошу вас.
– Но ведь покуда ничего совсем не разглядеть…
Фриц улыбнулся:
– Так быстро не получается. Это рука, в первую очередь плечо. Для начала главное – поймать движение. Но очень скоро вы получите больше удовольствия. Я бы хотел еще зарисовать ваш профиль. Или вы уже устали? Говорите прямо. Художник в ударе до ужаса бесцеремонен. Нет? Ну, тогда…
Он придвинул ей кресло.
Головка Элизабет чудесно выделялась на голубом фоне. Минуту-другую Фриц с восхищением рассматривал изящный изгиб линий, потом взялся за карандаш. Некоторое время он без передышки работал. Затем, прищурив глаза, занялся светотенью.
– Вам не скучно? – спросил он. – В пылу работы я вовсе вас не развлекаю…
– Нет, – ответила Элизабет, – я вижу перед собой красивую голову и целиком ушла в ее созерцание. В ней столько юной силы, дерзости и вместе с тем столько задумчивости, в рисунке рта даже сквозит какая-то горечь… прекрасный портрет…
– С оригинала.
– Вблизи?
– Из моей комнаты.
– Здесь что же, и другие люди живут?
– Это мой молодой друг, и на правах друга он живет у меня. Его зовут Эрнст Винтер, он учится в Берлинской консерватории.
– Наверно, он очень вас любит.
– Это взаимно.
– Но он намного моложе вас.
– Как раз на этом и основана наша дружба. Он молод, необуздан и невероятно порывист… а временами мечтателен и полон горечи, как вы совершенно справедливо заметили. Я порвал с жизнью и стараюсь узнать и гармонически расширить свой круг. Результат – зрелость и опыт. Мы дополняем друг друга. Пожалуй, с моей стороны в дружбе присутствует… ну, скажем, отеческая любовь; он нуждается во мне больше, чем я в нем. Но в любви и дружбе не спрашиваешь, платят ли тебе тою же монетой. Он не единственный. Меня навещают еще несколько молодых людей, которые пока только формируются… и они тоже мои друзья. Я люблю молодежь и радуюсь, если они могут что-то у меня почерпнуть.
– Вы порвали с жизнью?
– Звучит, вероятно, несколько сурово, но на самом деле ничего подобного. Я оптимист. Это не отречение. Вернее сказать: я прожил свою жизнь, имел все, что жизнь хотела и могла мне дать. Все пришло и ушло как-то очень уж быстро. Поэтому я несколько раньше других очутился в тени, за пределами яркого круга. И в этом есть своя прелесть. Из актера я стал скорее зрителем.
– Но разве жизнь – спектакль?
– Да… и нет. О ней невозможно сказать правду. Наша способность познания – змея, кусающая свой же хвост. Объективного познания не существует. Мы вечно в борьбе. Кто станет тут судить, кто отличит правду от спектакля, реальность от видимости. Он, – художник указал на портрет Эрнста, – тоже такой вот борец. Человек дела, а оттого миру легче осуждать его, нежели других, питающих лишь бледные помыслы. Помыслы не видны, а чего не видишь, то, по законам мира, разрешено. Но дела, увы!.. Однако же он достаточно крепок и силен, чтобы пренебречь тем, как его оценивает общество. Пока что он в этом не нуждается, и к счастью. Вообще, наше право… ах! Если кто-то убивает человека, его карают как убийцу. Если я открываю большую фабрику и тем уничтожаю сотню мелких жизней, я хороший коммерсант… А между тем рисунок готов, да и темнеет уже, так что придется нам прекратить.
Он показал Элизабет рисунок и медленно отложил карандаш. Потом оглянулся на девушку.
Она стояла у портрета Эрнста Винтера, рассматривала его.
– Он скоро приедет, – сказал Фриц, – у него несколько недель каникул. Рояль здесь, в мастерской, для него. Он любит импровизировать. Я же более всего люблю, когда он играет Бетховена и Шопена. Но идемте: лучшая пора для Приюта Грез – вечерняя заря.
Элизабет чуть помедлила, потом быстро шагнула к Фрицу, сжала его руки и сказала:
– Вы хороший человек… У вас все так красиво, так по-другому. Никаких будней – всегда воскресенье. Словно летний вечер. И столько родного, мирного… Будьте и мне другом.
Фриц был тронут. После тьмы-тьмущей дорожной пыли и пошлых болотных душ он нашел душу чистую, как синее итальянское озеро. Молча он взял девушку за локоть, и они вошли в Приют Грез.
Сумерки грезили в аромате роз коричневой мансарды. Оба в восхищении замерли на пороге. Вечерняя заря бросала последние золотые отблески на серьезные черты Бетховена, искрилась и сияла в волшебном блеске пестрых камушков и ракушек.
На старинной резной полке стояли разноцветные чашки, старинная посуда и оловянные тарелки. Фриц осторожно достал три на редкость красивые зеленые рюмки и запыленную бутылку. Поставил рюмки на стол и молча налил вина.
Одну рюмку он придвинул Элизабет, которая наблюдала за ним тихо и задумчиво, положил подле второй цветущую розовую ветвь из бетховенской вазы, третью взял в руки и сказал Элизабет:
– Давайте выпьем за нашу юную дружбу… за все прекрасное в мире… и за усопшее имя.
Рюмки зазвенели.
Секунду Элизабет не шевелилась. Затем по всему ее существу пробежала дрожь, и она выпила вино до дна. Фриц поднял розовую ветвь, отломил один цветок, окунул в вино третьей рюмки и протянул Элизабет. Потом вылил вино из рюмки в розы перед маской Бетховена и придвинул их к картине с траурным крепом. Медленно взял старинный канделябр, зажег свечу.
– Ах, Лу… – проронил он, уже не в силах справиться с собой, и посмотрел на картину. В сквозистом, трепетном свете свечи она почти ожила – казалось, прекрасные глаза улыбаются и алые губы чуть подрагивают.
– Простите, – сказал Фриц, – иногда на меня находит. Особенно когда я пью в память о ней. Вино для мертвых уст… цветы для усопшего чела… отзвучало… ушло… невозвратно.
Он умолк, взглянул на Элизабет. Она слегка откинула голову назад, глаза были широко открыты. И она беззвучно плакала.
– Не надо плакать, – сказал Фриц, – не надо…
Сумерки наливались синевой, пламя свечи – золотом. Мотылек влетел в окно, запорхал вокруг свечи и упал, опалив крылышки.
– Мотыльки… люди… Кто не обжигал крыльев о свечу судьбы.
– Расскажите о вашей жизни, – попросила Элизабет.
Фриц смотрел на горящую свечу.
– Ее звали Луиза… но все называли ее Лу… Посмотрите на картину в мерцании света – вот такой она была при жизни. Я увидел ее однажды на прогулке весенним вечером. Красавица. Гавань для кораблей моей тоски, ее глаза – звезды в ночи моего бытия… а ее душа – избавительная доброта и мост через мои бездны и разломы. Вдвоем мы пережили ликующую хмельную весну и жарким зреющим летом внимали шуму своей крови. Когда настала осень, мы мало-помалу вернулись с небес на землю. Я хворал легкими и был нищ… она была обручена со славным человеком, которого ценила. С кровоточащим сердцем я оторвал себя от нее… думал тогда, что мне осталось жить лишь считаные годы… разве же я мог приковать ее чистый расцвет к своему увяданию?.. В скором времени я продал несколько картин и отправился путешествовать, так как не мог забыть. Через неделю-другую, когда тоска заставила меня вернуться, я услышал, что и она не выдержала. Порвала с другим и с семьей, хотела быть со мной, несмотря ни на что – несмотря на болезнь, нищету, проклятие семьи. Но, не найдя меня, вернулась домой. Там она захворала. Последними ее словами были слова любви и мое имя. Так сказала мне мать. Когда я пришел, на ее могиле цвели темно-красные розы. Я не свиделся с нею. И не могу забыть. Иллюзия и греза – вот что такое моя жизнь без нее. Единственное, что мне осталось, – сумерки, когда перед ее портретом, который я написал в счастливые часы, горят свечи. Тогда в обманчивом свете свечей глаза вновь искрятся, как прежде, и, как прежде, улыбается прелестный алый рот, и милый, милый голос шепчет давно умолкшие слова… тогда моя тоска дрожит и трепещет, тогда моя душа благословляет мучительную память… и все, все поет давнюю песню: «Невозвратная моя… Невозвратная… Где ты, молодость, где ты, молодость… Твой напев с тоской вспомнил я».
Сумерки в комнате все густели, сияние свечи соткало корону вокруг золотых волос Элизабет. Она плакала, глядя на обвитый черным крепом портрет усопшей. Волны великой загадки жизни пронизывали ее, и в биении пульса ей чудилось напоминание о бренности. Пусть наше счастье еще взлетает до звезд и до солнца, пусть мы еще от счастья дерзко вскидываем руки – однажды всему нашему счастью и грезам приходит конец, и напоследок всегда остается лишь плач об утраченном. Быть человеком – тяжкая доля! Желаешь вечно держаться за руки и все же вечно теряешь друг друга по вечным законам. Всю жизнь сражаешься, борешься, ликуешь, страдаешь… и все же в конце концов напоследок остается одно-единственное – песня ласточки: «Твой напев с тоской… вспомнил я… Не вернет тебе… не вернет тебе… песня ласточки весны… Но поет она… но поет она… и о прошлом мне снятся сны». Жизнь бежит дальше, дальше, пока и о нас не заплачут некогда любимые губы: «Где ты, молодость… невозвратная моя».
Медленно Фриц продолжил:
– У нее был прелестный небольшой голосок, как у птички. В тот вечер, когда я впервые увидел ее, она пела песню, которую очень любила: «Где ты, молодость». Эта песня стала символом. Когда после мучительных месяцев я снова вернулся к жизни, у меня более не было желаний. Чтобы не влачить жалкое существование, а послужить человечности, я собрал вокруг себя молодежь. Появился Эрнст… и другие. Конечно, невеликое поле деятельности для громких слов «послужить человечности», но к большему я не способен и не призван. Просто пытаюсь помочь юношеству стать людьми. И уже не могу без них обойтись. Вот так текут теперь мои дни, один за другим, пока норна в конце концов не перережет нить и тьма бессознательного не сомкнется вновь вокруг меня.
Стало очень темно.
Никогда не слышанные мелодии звучали в душе Элизабет. Огромная самоотверженность переполняла ее, желание сказать этому человеку все-все, найти здесь понимание и человечность. Волны трепета пронизывали ее существо, и великое одиночество жизни смотрело на нее смятенными глазами.
Она встала, схватила руку Фрица. И на грани слез, срывающимся голосом проговорила:
– Позвольте мне тоже быть подле вас… я так хочу вам помочь… помогите же мне… жизнь часто такая странная… и человеку необходим тогда другой человек.
Фриц посмотрел на нее.
– Элизабет, – тихо сказал он, – ты так похожа на нее. Я заключил тебя в свое сердце, как только услышал. Моя милая юная подруга…
– Благодарю вас, о, благодарю! – пылко воскликнула Элизабет.
– Не так, – сказал Фриц, – мои друзья говорят иначе. Ты хочешь быть исключением? Мои молодые друзья называют меня дядей Фрицем.
– Дядя… Фриц… – благоговейно произнесла Элизабет.
Он поцеловал ее в лоб.
Отблеск свечи озарял прелестную картину на стене. И казалось, будто прекрасные глаза искрятся и сияют и на алых губах играет улыбка.
III
– Где же дядя Фриц? – Паула капризно тряхнула головой и бережно поставила в вазу сирень.
– Да придет он, придет, – улыбнулся Фрид, – ты же сама только что пришла, малютка Нетерпеливость. Я-то уже час жду.
– Разве дверь была открыта?
– Заперта, но ключ торчал в скважине.
– Он ведь помнит, что мы приходим по пятницам. Ах… – Она победоносно взмахнула блокнотом. – Тут кое-что написано…
– В самом деле?
– Конечно! Сидишь тут целый час и ничегошеньки не заметил! Фрид! Надо, чтоб пришла девушка! А еще сильный пол, называется! Смотри: сперва начатое стихотворение, потом: «Милые дети»… вот как!.. «мне нужно в город, чтобы купить сахару к чаю, красную киноварь для палитры и конфеты для нашей сластены. Печенье и масло на столе. Где чашки и сахар, вы знаете. Чай тоже. Располагайтесь. Фриц».
– Сластена – это про тебя, – заметил Фрид.
– Про меня? Но… ох этот дядя Фриц! Я вовсе не сластена! – возмущенно воскликнула Паула, откусывая кусочек печенья.
– Ну конечно, не сластена, – заверил Фрид, придвинув к ней всю коробку с печеньем.
– Фрид, ты гадкий! – Она топнула ножкой. – И все оттого, что ты общаешься с Эрнстом, а тот вечно насмехается. Запомни, мне восемнадцать! Я молодая дама, а не ребенок!
– В этом никто не сомневается.
– Нет! Ты! Обращаешься со мной как с ребенком! Сомнение на деле.
– Покорнейше прошу меня простить, мадемуазель!
– Вот опять ты насмехаешься.
– Ах… Ладно: прости, Паульхен, ты – молодая дама.
– Правда?
– Чистая правда!
Глаза ее лукаво смеялись.
– Вот и хорошо! Ах, Фрид, глупыш, я вовсе не хочу быть молодой дамой. – Она звонко рассмеялась.
Фрид был обескуражен.
«Попробуй пойми это длинноволосое племя», – подумал он.
– Фрид…
– Да?
– Завтра пойдем принимать воздушные ванны, понятно?
– С удовольствием, Паульхен. Может, и на озеро сходим, поплаваем?
– Можно! Чем больше возможностей подставить себя солнцу, воде и ветру, тем лучше! Ах, Фрид, ведь так чудесно сбросить в воздушной купальне одежду и почувствовать материнскую ласку солнца! И представь себе, недавно я рассказала об этом подруге, а она объявила, что это верх неприличия. Подумать только, до сих пор есть еще такие люди!
– Да, такие, что считают свое тело грехом. Ах, грех… Оно же прекрасно!
– Дядя Фриц тоже всегда так говорит. Мы должны не стыдиться своего тела, а, наоборот, радоваться ему! И он ведь поклонник красоты! Больше того, жрец красоты! Как чудесно он изобразил невинную наготу! Если я когда-нибудь выйду замуж, то мой муж должен непременно быть как дядя Фриц. Но второго такого нет!
– Ты знаешь, что теперь он завершит свою большую картину? У него есть натура!
– Знаю, сударь. Это моя школьная приятельница. Элизабет Хайндорф.
– Наверно, она особенная…
– Разумеется.
– Неудивительно, раз она твоя подруга.
– Вода закипела? Подумай о чем-нибудь другом, ладно?
– Чайник уже поет.
– Тогда давай сюда чай и чайник. И тарелки с чашками. Чтобы дядя Фриц не говорил, что мы лентяи.
Фрид с готовностью расставил чашки и тарелки, пока Паульхен ловко заваривала чай.
– Ах, Фрид… все не так! Убери цветы… с художественной точки зрения ты, наверно, прав, но не с практической. Глупые мужчины, что бы вы без нас делали!
– Ты права, Паульхен, без вас и жить бы не стоило, – послышался от двери смеющийся голос.
– Наконец-то, дядя Фриц. Ну-ка, показывай, что ты купил. Опять тебя обманули. Эх вы, мужчины!
Она вздохнула, разглядывая Фрицевы покупки. Фрид между тем поздоровался с Фрицем.
– Работал нынче, Фрид?
– Да так, ничего серьезного. После обеда немного погулял по валам, сделал новый набросок милого старого собора. На сей раз со стороны Хазе6. А потом в Шёлерберге полежал на солнце, помечтал.
– Это тоже работа, Фрид. Работа далеко не всегда, вернее, менее всего творчество. Куда больше места занимает восприятие, наблюдение, и оно столь же важно. Работать можно пассивно и активно.
– Я видел облака… облака… вечно подвижные, изменчивые облака. Облака и жизнь, непостоянные… вечно полные изменений… беспокойные и прекрасные.
– Хорошо, что Эрнст не слышит. А то ведь в свой дурной день припомнит, съязвит насчет незрелых отроческих мечтаний…
– Оставь его, Фриц. В свой хороший день он сам мечтает куда больше. Мир прекрасен. И прекраснее всего он без людей.
– В последнем письме Эрнст пишет так: «Самое прекрасное на свете – люди». Меня волнует только живое. А в человеке оно выражено наиболее ярко. Вы оба правы, и, наверно, оба согласитесь друг с другом.
– Дядя Фриц, оставьте-ка разговоры, идите сюда, будем пить чай. У меня все готово, а вам и дела нет, – надулась Паульхен.
– Как замечательно ты все устроила!
– Правда, дядя Фриц?
– Да, замечательно!
– Ты – самый лучший, дядя Фриц. От Фрида, конечно, ничего не дождешься, он думает об облаках да щеглах.
– Ты же считаешь, что я насмешничаю.
– Ты опять принесла цветы, Паульхен?
– Да. Стащила украдкой. В скверах столько сирени, что я подумала: сорву веточку-другую, от них не убудет, а нам пригодится. Угрызений совести я не почувствовала, вот и сорвала.
– Девчоночья мораль, – рассмеялся Фрид.
– Спасибо, Паульхен. Только не конфликтуй с законом. Я уже опасаюсь, как бы твое следующее письмо не пришло из тюрьмы.
– Не бойся, дядя Фриц. Если полицейский меня поймает, я очень ласково посмотрю ему в глаза, подарю цветочек и скажу: я сорвала его для вас. И он наверняка меня отпустит.
– Или тебя еще суровее накажут за попытку подкупа.
– Ах, у девушек собственные законы. Их всегда оправдывают.
– По законам для малолетних и умственно отсталых, – насмешливо бросил Фрид.
– А злые мальчишки заслуживают розог, да, дядя Фриц?
– Спокойно… спокойно, – попробовал Фриц унять обоих.
– Эти гадкие насмешки он перенял у противного Эрнста. Раньше-то был совсем другим!
– Противнее?
– Милее!
– Цель моей жизни отнюдь не в том, чтоб быть «милым» в глазах маленькой девчонки.
– Ты неотесанный варвар!
– А ты юная дама.
– Так и есть.
– Увы, в покуда коротковатых платьях и с косичками.
– Дядя Фриц, помоги же мне! Выгони его вон!
– Но, Паульхен, он ведь говорит правду.
– Ты еще и защищаешь его?
– Нет, но он делает тебе комплименты. Надо только как следует прислушаться. Юная дама с косичками и растрепанной челкой совершенно восхитительна.
– Да… пожалуй… хотя… – Она задумчиво сунула в рот пальчик. – Ты это имел в виду, Фрид?
– Конечно, Паульхен.
– Ладно, тогда давай помиримся. Дядя Фриц, у меня будет новое платье. Мама говорит, ты должен помочь выбрать материал. Согласен?
– Разумеется. Как тебе васильковый цвет?
– У меня же есть…
– Белый шелк…
– У-у… белый…
– Ну, тогда изящный батик на черном шелке… и совершенно особенный фасон. Рукава-крылышки и все такое. Я тебе нарисую.
– О да, да.
– Vanitas in vanitatum7, – вздохнул Фрид, – чем было бы женское существо без платьев…
– Мы достаточно часто ходим в солярий…
– Опять туда собираетесь, дети?
– Да, дядя Фриц, ведь уже тепло.
– Отлично! Солнце дочиста промывает тело и дух.
– До свидания, дядя Фриц.
– Побудьте здесь еще немного, дети.
– Нет, тебе ведь надо работать. До свидания, до свидания…
Она выпорхнула из комнаты.
– Сущий вихрь, – сказал Фриц. – Нынче вечером в эстетическом обществе старонемецкие хороводы. Сходите туда.
– Ладно! До свидания, Фриц.
Большими шагами Фрид поспешил следом за Паульхен.
Настала тишина.
Солнце светило в мансардную комнатку, рисовало на полу золотисто-желтые разводы. Фриц набил трубку. Затем поставил на стол покрытую тонкой гравировкой металлическую пепельницу в форме греческой чаши и раскурил трубку, глядя в пространство сквозь сизые извивы дыма. Прощальным вечером он и Лу пили из этой блестящей чаши пурпурное вино, потому что у него не было бокалов, да им они и не требовались, когда по дороге на помолвку она еще раз зашла к нему, обняла и разрыдалась: «Я не могу… не могу, любимый…»
У него тоже слезы навернулись на глаза, и он сказал: «Останься, останься со мной!»
И все же они расстались… пришлось.
Трепеща от близкой разлуки, но пока что вместе, в тот вечер они поднимали к звездам сияющую золотом чашу, полную искристого вина, и рыдали о своей любви и боли.
Фриц отложил трубку, прошел в мастерскую. Достал холст и принялся за дело. Один за другим бежали часы – он ничего не слышал, углубившись в работу. Наконец сумерки заставили его отложить кисть. Он провел ладонью по лбу, рассматривая свою работу. Потом удовлетворенно отодвинул мольберт. Тихонько насвистывая, взял шляпу и трость и вышел на вечернюю улицу.
Мирно шумели каштаны.
Через час Фриц вернулся. Зажег лампу, взял несколько выпусков «Красоты».
Снаружи медленно наступала ночь.
Несколько чудесных фотографий обнаженной натуры в журнале привели Фрица в полный восторг.
В дверь постучали.
«Наверно, кто-то из молодых друзей», – подумал он.
– Прошу.
На пороге стояла высокая элегантная дама, и ясный, звучный голос произнес:
– Добрый вечер, господин Шрамм.
Фриц вскочил.
– Какая приятная неожиданность, мадемуазель.
– Я не помешаю?
– Только если захотите сразу же уйти.
– Значит, не помешаю. Вы столько рассказывали о вашем Приюте Грез, что мне стало любопытно…
Она сбросила на руки Фрица шелковую накидку и огляделась. Фриц смотрел на нее. Нежный шелк мягко стекал по высокой фигуре. Беломраморная шея выступала из глубокого выреза платья, гордо и спокойно неся красивую голову с тяжелыми темными волосами. Поблескивали матовые жемчужины.
– Вы не преувеличивали, господин Шрамм, это поистине комната грез. Такая уютная и теплая. Я вдвойне это чувствую, мне так надоели залы со свечами и ярко освещенные комнаты.
Фриц придвинул ей кресло, она небрежно села.
– Сегодня я угощу вас чаем с английскими бисквитами… нет-нет, не возражайте… а затем не шоколадные конфеты, а – только представьте себе! – черешни, уже в мае. Один из итальянских друзей прислал мне нынче утром пакет. И заодно выкурим по сигарете. Согласны?
Она кивнула и с удовольствием позволила ему заняться приготовлениями.
– Как у вас покойно, мирно, господин Шрамм. Сейчас такое редко найдешь. Все гонятся за счастьем и золотом – это ведь не одно и то же… хотя в конечном итоге зачастую одно и то же. Вы нашли счастье, господин Шрамм?
– Я счастья не ведаю… если иметь в виду избитое обывательское понятие, старую погудку: довольство – вот подлинное счастье. Пожалуй, так оно и есть… в среднем. Что же до нас, тонко чувствующих, неординарных, я бы сказал так: подлинное счастье – мир в душе! Почти то же самое, и все-таки нет. Довольство можно испытывать всегда, просто так – без схваток, без борений. Зачастую так и бывает. Мир же приходит в душу лишь после борьбы, тяжких битв и заблуждений. Очищенное, познанное Я…
– И вы нашли этот мир, господин Шрамм?
– Пожалуй, можно бы так сказать, мадемуазель, хотя сам по себе он вовсе не золотой. Скорее тускло-лиловый, меланхолический… но – мир…
– Когда он наступает?
– Когда находишь себя.
– Это трудно?
– Труднее не бывает!
Она кивнула.
– Здесь необходимо и кое-что еще: оставаться верным себе.
– Это невозможно, господин Шрамм.
– Возможно, если нашел себя.
– Тогда надо стать отшельником. Но можно ли стать им в большом мире?
– Стать – нельзя… быть – можно. У тебя есть свой напев, своя песня… свой тон… ты просто таков, вот и все.
– Но подобных людей в обществе не сыщешь. Там все остроумны, рафинированны, благовоспитанны – но это не люди.
– Неужели дело обстоит так скверно? Нужно лишь приложить немножко усилий. Кстати, самые заметные не всегда и самые интересные…
Она задумчиво посмотрела на него:
– Вы так не похожи на других, господин Шрамм.
– С каких пор дамы делают комплименты?
– Это не комплимент. В юности я бы пожелала себе такого друга, как вы. Может статься, многое сложилось бы тогда иначе.
– Я люблю… вот и все.
– Любите?
– Правда, не в обычном, общепринятом смысле. Я люблю все: природу, людей, деревья, облака… страдания… смерть… – словом, жизнь! Я оптимист и предельная форма любви.
– У вас было мало разочарований…
– Очень много!
– И тем не менее?
– Да!
– Странно…
Лампа затрещала. Фриц взял серебряную корзиночку с темно-красными черешнями, предложил гостье.
– Сегодня вы, стало быть, не играете, мадемуазель?
– Завтра. Вот взгляните, именно поэтому я невольно подумала о вас и решила вас навестить…
Она достала из ридикюля программку, протянула ему.
Он вполголоса прочитал:
– «“Богема”… опера Пуччини… Мими – Ланна Райнер».
– Да, мне предстоит петь бедняжку Мими. Сегодня на генеральной репетиции мне поневоле живо вспомнились вы и ваш Приют Грез. Нынешние наши артисты – уже не богема. Они очень благовоспитанны, очень корректны, очень аккуратны. А вот в вас по-прежнему чувствуется легкий богемный оттенок.
– Завтра вы поете «Богему», – задумчиво проговорил Фриц. – Я долго видеть не мог эту оперу, слишком она брала меня за душу. Там изображена родственная судьба. – Он кивнул на прелестный портрет на стене. – Но завтра хочу прийти.
– Я рада. Скажете мне после что-нибудь?
– Когда, с вашего позволения?
– Ну, в тот же вечер.
– Вы ведь наверное приглашены?
– Разумеется, даже всем мужским haute volée8.
– Значит…
– Как раз нет! Эти пошляки мне до крайности отвратительны. Я хочу говорить с людьми. Льстить может любой. Цель всегда весьма эгоистична и прозрачна. Не хочу! – Она встала. – Итак, около десяти вечера у малого входа.
Фриц поцеловал ей руку.
– Благодарю вас.
Она как-то странно посмотрела на него.
И ушла. Он посветил на лестницу. Лампа бросала причудливые тени и блики на ступени и перила.
Еще час Фриц сидел при свете лампы. Не читал, просто размышлял о странностях человеческой жизни. И содрогался, думая о том, как все загадочно и случайно. Капля тумана во вселенной… дуновение ветерка средь вечера… не знаю, откуда оно идет и куда… человеческая жизнь… зыбкая предрассветная греза…
А свет лампы спокойно озарял прелестный портрет на стене.
Она улыбалась.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе