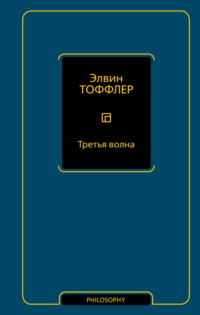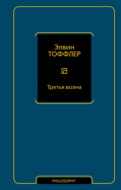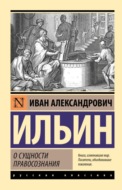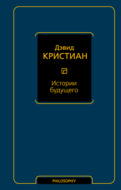Читать книгу: «Третья волна», страница 7
Пирамиды власти
Сами технократы тоже объединялись в различные иерархии элит и субэлит. Каждая отрасль промышленности и ветвь государственной власти вскоре породила свой собственный истеблишмент, своих собственных безликих влиятельных людей.
Спорт, религия, система образования – все они выстроили свои собственные пирамиды власти. Свой истеблишмент появился в области науки, военного дела и культуры. Власть в цивилизации Второй волны рассредоточилась по десяткам, сотням и даже тысячам специализированных элит.
В свою очередь, специализированные элиты были интегрированы в элиты универсального характера, членство в которых выходило далеко за рамки специализации. Например, в Советском Союзе и Восточной Европе членами Коммунистической партии были насыщены все области жизнедеятельности от авиации до сочинения музыки и производства стали. Члены Компартии служили важным каналом обратной связи, передающим информацию от одной субэлиты другой. Имея доступ к информации во всей ее полноте, Компартия обладала невероятной властью и могла регулировать действия специализированных субэлит. В капиталистических странах такую же функцию, хотя и менее формально, выполняли ведущие дельцы и юристы, состоящие в гражданских комитетах и правлениях. Поэтому во всех странах Второй волны мы видим одну и ту же картину – наличие специализированных групп интеграторов, бюрократов или управленцев, которых, в свою очередь, интегрировали интеграторы-универсалы.
Суперэлиты
Наконец, на высшем уровне интеграцию проталкивали суперэлиты, отвечающие за распределение инвестиций. Будь то в финансовой сфере или промышленности, в Пентагоне или советском Госплане, лица, принимающие в индустриальном обществе важнейшие решения по распределению инвестиций, задавали правила, которым были обязаны следовать сами интеграторы. Принятое в Миннеаполисе или в Москве масштабное инвестиционное решение ограничивало варианты будущих действий. Ввиду дефицитности ресурсов чугунолитейные печи, крекинг-установки и сборочные линии невозможно запустить без учета амортизации. Но при этом введенный в строй основной капитал задавал параметры, ограничивающие будущую деятельность менеджеров и интеграторов. Подобные группы безликих решал, двигающие рычаги инвестиций, играющие роль суперэлиты, можно обнаружить во всех промышленных обществах.
Таким образом, в каждой стране Второй волны появилась параллельная архитектура элит. И с некоторыми местными различиями эта иерархия власти заново воссоздавалась после каждого кризиса или политического потрясения. Фамилии, лозунги, партийные ярлыки и названия должностей могут меняться, могут вспыхивать и затухать революции, за большими столами из красного дерева могут появляться новые лица, но базовая архитектура власти остается прежней.
За последние триста лет то в одной стране, то в другой снова и снова бунтовщики и реформаторы шли на штурм цитадели власти и пытались построить новое общество, основанное на принципах социальной справедливости и политического равенства. Такие движения на время захватывали умы и сердца миллионов посулами свободы. Революционерам иногда даже удавалось свергнуть существующий режим.
Но всякий раз конечный результат был одним и тем же – бунтовщики воссоздавали под новым флагом аналогичную структуру, состоящую из субэлит, элит и суперэлит. А все потому, что эта интеграционная структура и технократы от власти, ею управляющие, были необходимы цивилизации Второй волны не меньше фабрик, природного топлива или нуклеарной семьи. Индустриализм и обещанная им абсолютная демократия, по сути, несовместимы.
Революции или другие факторы могут заставить промышленные страны двигаться в пределах спектра от свободного рынка к централизованному планированию и обратно. Общества могут превращаться в социалистические или капиталистические. Но как говорится, сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит. Индустриальные общества не могут функционировать без мощной иерархии интеграторов.
Сегодня Третья волна перемен начинает проламывать стены этого бастиона менеджерской власти, и здание властной системы дает первые трещины. В одной стране за другой нарастают требования участия в управлении, совместного принятия решений с подключением рабочих, потребителей и гражданского общества, призывы к антиципаторной демократии. В самых передовых отраслях появляются новые методы организации – менее иерархичные и более ситуативные. Усиливается давление, направленное на децентрализацию власти. Менеджеры все больше зависят от информации, поступающей снизу. Поэтому и сами элиты становятся менее постоянными и устойчивыми. Все это пока что лишь ранние приметы потрясений, которые ожидают политическую систему в будущем.
Третья волна уже начинает подмывать устои индустриализма, открывает фантастические возможности для общественно-политического обновления. Через несколько лет удивительные новые институты начнут заменять неуклюжие деспотические, отжившие свое интеграционные структуры.
Но, прежде чем переходить к новым возможностям, необходимо проанализировать отмирающую систему. Нам надо просветить рентгеном нашу устаревшую политическую систему, чтобы понять, каким образом она вписана в цивилизацию Второй волны и обслуживает индустриальный уклад и интересы элиты. Лишь тогда мы поймем, почему ее дальнейшее существование становится нетерпимым.
Глава 6
Тайный план
Для француза нет зрелища невразумительнее, чем наблюдение за американской кампанией по выборам президента – пожиранием хот-догов, похлопываниями по плечу, целованием грудных детей, жеманными отказами от выдвижения в кандидаты, праймериз, партийными съездами, маниакальным сбором пожертвований, летучими визитами в избирательные округа, словоблудием, рекламной трескотней. Все это якобы делается во имя демократии. В свою очередь, американцам трудно разобраться в том, как французы выбирают своих лидеров. Еще меньше они понимают скучные английские выборы, голландские битвы каждого против всех с участием двух десятков партий, австралийскую систему рейтингового голосования или японскую подковерную борьбу и компромиссы между фракциями. Все эти политические системы выглядят пугающе непохожими. Еще большее недоумение вызывают однопартийные выборы или пародия на выборы в СССР и Восточной Европе. Когда дело касается политики, невозможно найти ни одной пары индустриальных стран, которые были бы похожи друг на друга.
Однако, стоит нам снять местнические шоры, как мы увидим, что под поверхностными различиями скрываются впечатляющие параллели. Более того, возникает ощущение, что политические системы всех стран Второй волны следуют одному тайному плану.
Когда революционеры Второй волны свергли элиты Первой волны в США, России, Японии и других странах, они столкнулись с необходимостью разработки конституций, формирования государственного аппарата и создания почти с нуля новых политических институтов. В порыве творчества они обсуждали новые идеи и новые структуры. Повсеместно шла борьба о формах представительства. Кто кого должен представлять? Должны ли представители голосовать так, как им скажут народные массы, или им позволяется иметь собственное суждение? Какими должны быть сроки действия полномочий – короткими или длинными? Какую роль должны играть политические партии?
Эти конфликты и дебаты породили в каждой стране новую политическую архитектуру. Более подробное рассмотрение покажет, что все эти структуры основаны на комбинации старых предположений Первой волны и свежих идей, привнесенных индустриальной эпохой.
После тысячелетий господства сельского хозяйства основателям политических систем Второй волны было трудно представить себе экономику, опирающуюся на производственные силы, капитал, энергетику и сырье, а не на землю. Земля всегда занимала центральное место во всех жизненно важных вопросах. Поэтому неслучайно, что географическое положение настолько укоренилось в различных избирательных системах. Сенаторов и конгрессменов в Америке, а также их коллег в Англии и многих других промышленно развитых странах по-прежнему избирают не в качестве представителей того или иного класса либо группы, объединяющей людей определенной профессии, этнической принадлежности, пола или уклада жизни, но в качестве лиц, представляющих обитателей определенной полоски земли – жителей одного географического округа.
Люди Первой волны редко переезжали, поэтому архитекторам политических систем индустриальной эпохи было свойственно предполагать, что избиратели будут оставаться в местах проживания до конца своей жизни. Поэтому правила проведения выборов по сей день требуют от избирателя подтверждения места проживания.
Темп жизни Первой волны был очень нетороплив. Средства коммуникации были настолько примитивны, что сообщение, скажем, Континентального конгресса в Филадельфии могло путешествовать до Нью-Йорка целую неделю. Текст речи Джорджа Вашингтона просочился в глубинку с опозданием на несколько месяцев. В 1865 году весть об убийстве Линкольна дошла до Лондона только через двенадцать суток. Согласно молчаливому предположению, что дела быстро не делаются, такие представительные органы, как американский конгресс или британский парламент, заведомо считались «дискуссионными» органами, то есть имеющими право получать и тратить на решение стоящих перед ними задач достаточное количество времени.
Большинство людей эпохи Первой волны были неграмотны и невежественны. Поэтому повсеместно считалось, что представители, особенно избранные от образованных классов, примут более обдуманные решения, чем подавляющая масса избирателей.
Однако, опираясь при создании политических институтов на представления Первой волны, революционеры Второй волны одним глазом посматривали и в сторону будущего. Поэтому на архитектуре новых институтов отразились некоторые из последних технологических достижений современности.
Механомания
Бизнесмены, интеллектуалы и революционеры начального периода индустриализации были воистину загипнотизированы развитием техники. Их приводили в восхищение паровые машины, часовые механизмы, ткацкие станки, насосы и поршни. В ответ они создавали бесчисленные аналогии, опирающиеся на простые механические технологии своего времени. Бенджамин Франклин и Томас Джефферсон неслучайно были одновременно учеными-изобретателями и политическими революционерами.
Они выросли в бурлящем культурном фарватере, созданном великими открытиями Ньютона. Посоветовавшись с небесными силами, Ньютон сделал вывод, что вся вселенная представляет собой гигантский часовой механизм, работающий с точностью машины. Французский врач и философ Ламетри в 1748 году объявил, что человек – это тоже машина. Позднее Адам Смит распространил аналогию на сферу экономики, утверждая, что экономика – это система, а все системы «во многом напоминают машины».
Джеймс Мэдисон в своем описании дебатов, которые привели к принятию Конституции Соединенных Штатов, говорил о необходимости изменения «модификации системы» и «структуры» политической власти, а также о подборе чиновников путем «последовательного фильтрования». Конституция, подобно механизму часов, была наполнена различными «сдержками и противовесами». Джефферсон вел речь о «механизме государственного управления».
В политическом мышлении американцев раздавались отзвуки работы маховиков, цепных и зубчатых передач, сдержек и противовесов. Мартин Ван Бюрен изобрел понятие «политическая машина», и впоследствии Нью-Йорк приобрел свою «политическую машину Твида», Теннесси – «политическую машину Крампа», а Нью-Джерси – «политическую машину Хейга». Целые поколения американских политиков вплоть до сегодняшнего времени готовили технические планы своей деятельности, «проектировали» выборы и катком проезжали по оппозиции в парламенте и законодательных собраниях штатов. В XIX веке английский лорд Кромер выдвинул идею имперского правительства, которое «обеспечило бы гармоничную работу различных частей машины».
Нельзя, однако, сказать, что механистический дух – продукт капитализма. Ленин, например, называл государство не чем иным, как «машиной в руках капиталистов, чтобы держать в подчинении рабочий класс». Троцкий говорил о «колесах и винтиках буржуазного общественного механизма» и описывал деятельность революционной партии в таких же механистических выражениях. Назвав ее мощным «аппаратом», он указывал, что, «как всякий механизм, этот последний сам по себе инертен… активность массы должна будет… преодолеть мертвую инерцию… Так, живая сила пара должна преодолеть косность самой машины, прежде чем приведет в движение маховое колесо».
Погрязнув в механистическом мышлении и проникшись практически слепой верой в силу и эффективность машин, революционеры – основатели обществ Второй волны, как капиталистических, так и социалистических, неизбежно изобретали политические институты, обладавшие многими характеристиками первых машин индустриальной эпохи.
Представительский набор
Выковываемые и собираемые ими структуры основывались на базовой идее представительства. В каждой стране реформаторы пользовались определенными стандартными элементами. Эти элементы можно назвать (лишь наполовину в шутку) представительским набором.
В их число входили:
1. Люди, обладающие правом голоса.
2. Партии, собирающие голоса.
3. Кандидаты – те, кто набирал большинство голосов, автоматически становились представителями всех избирателей.
4. Законодательные органы (парламенты, конгрессы, бундестаги или собрания), в которых представители путем голосования создавали законы.
5. Исполнительная власть (президенты, премьер-министры, партийные секретари), закладывавшая в законотворческую машину сырье в виде политической линии и затем следившая за исполнением принятых законов.
Голоса были «атомами» этого ньютоновского механизма. Партии собирали голоса, играя роль «коллекторов» системы. Голоса поступали из различных источников и направлялись в избирательную счетную машину, которая перемешивала их и разделяла на доли в зависимости от силы партии или коалиции партий, выдавая на-гора «волю народа» – основное топливо, на котором якобы работает государственная машина.
В разных странах части этого набора тасовались и подвергались манипуляциям множеством различных способов. В одном месте голосовать имел право любой человек, достигший возраста двадцати одного года. В других местах такое право имели только белые мужчины. В одних странах весь процесс служил лишь ширмой для диктатуры, в других избранные должностные лица действительно обладали значительной властью. Где-то борьбу вели две партии, где-то множество партий, а где-то партия была всего одна. Но историческая схема оставалась все той же. Как бы ни модифицировались и ни перемешивались отдельные части, сам базовый набор, используемый для строительства официальной политической машины индустриальной нации, оставался неизменным.
Хотя коммунисты часто критиковали «буржуазную демократию» и «парламентаризм» как ширму для привилегий, утверждая, что данным механизмом в целях личной наживы обычно манипулирует класс капиталистов, все социалистические промышленные страны без промедления устанавливали похожие представительные механизмы.
Обещая ввести «прямую демократию» в далеком постпредставительном будущем, они тем временем настаивали на том, чтобы иметь «социалистические выборные институты». Венгерский коммунист Отто Бихари, изучавший такие учреждения, писал, что «в ходе выборов воля трудового народа оказывает влияние на государственные органы, вызванные к жизни голосованием». Редактор «Правды» В. Г. Афанасьев в своей книге «Научное управление обществом» определяет, что «демократический централизм» включает в себя «суверенную власть трудового народа… выборность руководящих органов и руководителей и их ответственность перед народом».
Точно так же, как фабрика стала символом всей индустриальной техносферы, представительное правительство (даже в сильно денатурированном виде) стало статусным символом «передовой» страны. Более того, под давлением колонизаторов и в порыве слепого подражательства многие неиндустриальные страны тоже бросились учреждать такие же формальные механизмы, используя все тот же представительский набор.
Глобальная фабрика права
«Демократические механизмы» не ограничивались национальным уровнем. Их также учреждали в штатах, провинциях и на местах – вплоть до уровня городского или поселкового совета. Сегодня в США насчитывается около 5000 избираемых государственных служащих. В конурбациях, где проводятся свои собственные выборы и имеются свои представительные органы и выборные процедуры, существует 25 869 органов местной власти.
Тысячи представительных машин скрипят и скрежещут в далеких от метрополий районах, десятки тысяч – по всему миру. В швейцарских кантонах и французских департаментах, английских графствах и канадских провинциях, польских воеводствах и республиках СССР, в Сингапуре, Хайфе, Осаке и Осло кандидаты баллотируются на должности и волшебным образом превращаются в «народных избранников». Можно уверенно предположить, что в настоящее время только в странах Второй волны создают законы, декреты, уложения и правила более ста тысяч таких механизмов 12.
Теоретически, если каждого индивида и каждый голос считать обособленной, элементарной единицей, то и каждая из политических единиц на национальном, провинциальном и местном уровнях должна считаться обособленной и элементарной. У каждой из них есть своя юрисдикция, власть, права и обязанности. Единицы связаны иерархическими структурами сверху донизу – от страны до штата или региона и так вплоть до местных властей. Однако по мере того, как индустриализм набирал зрелость, а экономика становилась все более интегрированной, решения, принимаемые каждой такой политической единицей, начали производить эффект за пределами ее юрисдикции, что вызывало реакцию и противодействие других политических органов.
Решение, принятое японским парламентом в отношении национальной текстильной промышленности, могло сказаться на уровне занятости в Северной Каролине и работе службы социального обеспечения в Чикаго. Голосование в конгрессе о введении квот на импорт автомобилей могло доставить головные боли местным органам власти в Нагое или Турине. Если когда-то политики могли принимать решения, не вызывая неразберихи за пределами своей четко обозначенной юрисдикции, то со временем такая возможность все больше исчезала.
К середине ХХ века десятки тысяч якобы независимых органов политической власти, расплодившихся по всей планете, оказались связанными между собой экономическими контурами, бурным развитием транспорта, миграции и средств коммуникации и постоянно побуждаемыми друг другом к действию.
Таким образом, тысячи представительных механизмов, созданные из кубиков представительского набора, все больше превращались в один невидимый сверхмеханизм – глобальную фабрику права. Остается рассмотреть, как и кто двигал рычаги и крутил штурвал этой глобальной системы.
Убаюкивающий ритуал
Представительное правление, рожденное мечтами революционеров Второй волны о свободе, было невероятно прогрессивным явлением по сравнению с прежними властными системами, оно стало триумфом техники, поражающим воображение больше, чем паровая машина или аэроплан.
Представительное правление позволило организованно передавать власть без династического наследования. Оно открыло каналы обратной связи между высшими и низшими слоями общества, предоставило площадку, на которой можно было мирным путем улаживать разногласия между различными группами.
Привязанная к мажоритарному правилу и принципу «один человек – один голос», эта форма правления помогала бедным и обездоленным выжимать поблажки из технократов от власти, следивших за работой двигателя интеграции общества. По этим причинам распространение представительного правления в целом стало историческим прорывом к большей гуманности.
Но в то же время с самого начала оно даже близко не выполняло обещанного. Даже с очень большой натяжкой нельзя сказать, что государством в какой-либо форме управлял народ. Представительное управление ни в одной индустриальной стране не изменило базовую структуру власти, состоящую из субэлит, элит и суперэлит. Более того, вместо ослабления господства элит управленцев официальный механизм представительства превратился в один из инструментов интеграции, за счет которого элиты удерживали власть.
Выборы вне зависимости от того, кто их выигрывал, осуществляли для элит важную культурную функцию. Так как голосовать имели право практически все, выборы создавали иллюзию равенства. Они служили убаюкивающим ритуалом, внушающим мысль, что, раз выбор производится согласно существующей системе и с механической регулярностью, то он по определению рационален. Выборы символически убеждали народ, что он по-прежнему самый главный и что у него – по крайней мере, в теории – есть возможность отказать прежним и избрать новых руководителей. И в капиталистическом, и в социалистическом обществе такие ритуальные заверения нередко были важнее реального результата выборов.
Интеграционные элиты в разных местах по-разному настраивали политическую машину, контролируя количество политических партий или манипулируя правами на участие в голосовании. И все же предвыборный ритуал – многие назовут его фарсом – использовался повсеместно. То, что выборы в Советском Союзе и Восточной Европе, как правило, волшебным образом приносили большинство в размере 99 или 100 %, говорит о том, что общества с централизованным планированием нуждались в убаюкивании народа не меньше, чем страны «свободного мира». Выборы спускали пар, не позволяя возникнуть протесту в низах.
Кроме того, несмотря на все усилия реформаторов, как демократов, так и радикалов, элиты интеграторов сохраняли практически непрерывный контроль над системами представительного управления. Появилось множество теорий, объясняющих, почему так происходило. Однако большинство из них не учитывали механистическую природу системы.
Если взглянуть на политические системы Второй волны глазами не политолога, но инженера, внезапно станет ясен ключевой факт, который обычно мало кто замечает.
Инженеры на промышленном производстве обычно различают два основных класса механизмов – те, что имеют прерывистый режим работы, который также называют серийным производством, и те, что работают без остановки, или машины поточного производства. Примером первого механизма может служить обычный формовочный пресс. Рабочий приносит охапку заготовок и подает их под пресс по одной или по нескольку штук зараз, а пресс придает им нужную форму. Когда серия заканчивается, пресс останавливают до поступления новой партии заготовок. Примером механизма второго типа может служить нефтезавод, который, однажды запустив, больше не останавливают. Нефть течет по трубам и камерам круглые сутки.
Если поближе взглянуть на глобальную фабрику права, мы обнаружим классическое серийное производство. Публике в определенное время разрешают выбрать одного из кандидатов, после чего официальную «демократическую машину» снова выключают.
Сравните это явление с никогда не угасающим влиянием различных заинтересованных организаций, инициативных групп и политических брокеров. Толпы лоббистов, представляющих интересы корпораций, государственных ведомств, департаментов и министерств выступают перед комиссиями, заседают в полномочных комитетах, ходят на одни и те же приемы и банкеты, чокаются друг с другом коктейлями в Вашингтоне или водкой в Москве, туда-сюда носят в клюве информацию и тем самым на круглосуточной основе воздействуют на процесс принятия решений.
Короче говоря, элиты создали мощный аппарат поточного производства, который работает параллельно с демократическим аппаратом серийного производства (а иногда наперекор ему). То, как осуществляется власть на глобальной фабрике права, можно понять, лишь поставив эти два аппарата рядом друг с другом.
Но, даже участвуя в представительской игре, народ в лучшем случае получает только временные шансы выразить голосованием свое одобрение или неодобрение правительства и его действий. Зато технократы от власти влияют на действия правительства в непрерывном режиме.
Наконец, еще более мощный инструмент контроля над обществом заложен в самом принципе представительства – отборе определенных лиц для того, чтобы они представляли других, который сам по себе поставляет новых членов элиты.
Например, когда рабочие поначалу вели борьбу за право создания профсоюзов, их травили и преследовали по обвинениям в заговорах, за ними следили нанятые компаниями шпики, их избивали полиция и банды штрейкбрехеров. Эти борцы были для системы посторонними лицами, которых никто не представлял или представлял из рук вон плохо.
Однако, утвердившись, профсоюзы породили новую группу интеграторов – истеблишмент лейбористов, члены которого уже не просто представляли рабочих, но посредничали между ними и деловыми, а также государственными элитами. Джордж Мини и Жорж Сеги, несмотря на всю свою риторику, сами стали ключевыми членами элиты интеграторов. А фальшивые лидеры профсоюзов в СССР и Восточной Европе с самого начала были технократами от власти.
Теоретически необходимость повторного баллотирования должна бы гарантировать честность представителей и выражение ими интересов своих избирателей. Однако это пока нигде не помешало включению представителей в архитектуру власти. Куда ни глянь, везде растет пропасть между представителями и представляемыми.
Представительное управление, которое нас приучили называть демократией, по сути, не что иное, как индустриальная технология обеспечения неравенства. Представительное правительство таковым является только с виду.
Оглядываясь назад и подводя итог, мы видим цивилизацию, сильно зависящую от ископаемого топлива, фабричного производства, нуклеарной семьи, корпораций, массового образования и средств массовой информации, оседлавшую раскол между производством и потреблением и управляемую группой элит, чья главная задача заключается в интеграции отдельных частей в единое целое.
В такой системе представительное управление – эквивалент фабрики. Оно и было фабрикой, производящей коллективные интеграционные решения. Как и в случае с большинством фабрик, ею управляли сверху. И, подобно большинству фабрик, она все больше устаревает и становится мишенью Третьей волны.
* * *
Если политические структуры Второй волны все меньше отвечают требованиям времени и теряют способность справляться со сложными процессами сегодняшнего дня, то часть вины за это, как мы сейчас увидим, должен взять на себя еще один институт Второй волны – национальное государство.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе