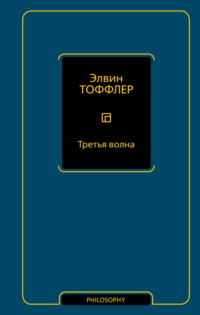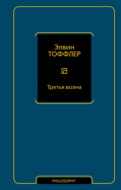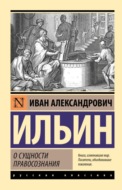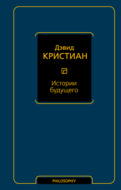Читать книгу: «Третья волна», страница 6
Централизация
Наконец, все промышленно развитые страны превратили в настоящее искусство централизацию. В то время как церковь и правители эпохи Первой волны вполне умели сосредоточивать власть в своих руках, они имели дело с куда менее сложными обществами и выглядят жалкими любителями по сравнению с людьми, которые практически с нуля создали централизованные структуры индустриального общества.
Все сложноорганизованные общества требуют сочетания централизованных и децентрализованных подходов. Однако переход от фактически децентрализованной экономики Первой волны, в которой каждая местность сама отвечала за производство всего необходимого, к интегрированной общенациональной экономике Второй волны привел к появлению совершенно новых методов централизации власти. Эти методы проявили себя на уровне как отдельных компаний и отраслей, так и всей экономики.
Классическим примером могут служить первые железные дороги. По сравнению с другими фирмами железнодорожные компании были гигантами своей эпохи. В 1850 году в США только 41 завод имел капитализацию, превышающую 250 тыс. долларов. Для сравнения Нью-Йоркская центральная железная дорога уже в 1860 году могла похвастать капитализацией в 30 млн долларов. Для организации работы такого монстра требовались новые методы управления.
Поэтому первым менеджерам железных дорог, как в наше время первым менеджерам космических программ, приходилось изобретать новые подходы. Они систематизировали технологии, тарифы и расписание движения поездов, синхронизировали операции на протяжении сотен миль, создали новые должности и отделы, сконцентрировали капитал, энергию и рабочую силу. И в довершение всего создали новые организационные формы, основанные на централизации информации и функций управления.
Всех работников поделили на «путейцев» и «конторских». Подавались ежедневные сводки о движении вагонов, погрузках, поломках, потерянных грузах, ремонте, пробеге локомотивов и так далее. Вся эта информация стекалась по командной вертикали к начальнику движения, который принимал решения и вниз по цепочке отправлял распоряжения подчиненным.
Железные дороги, как показал историк бизнеса Альфред Д. Чандлер-младший, вскоре стали образцом для подражания для других крупных организаций, и централизация управления стала считаться в странах Второй волны прогрессивным, передовым методом.
Вторая волна вызвала централизацию и в сфере политики. В США в 1780-х годах она приняла форму борьбы за переход от расплывчатых, не признающих центральной власти Статей конфедерации к Конституции с ее акцентом на централизацию. В целом против концентрации власти в руках центрального правительства выступали аграрии Первой волны, а возглавлявший коммерсантов Второй волны Гамильтон в сборнике статей «Федералист» и других изданиях утверждал, что сильная центральная власть важна не только для проведения военной и внешней политики, но и для роста экономики.
Принятая в итоге Конституция 1787 года представляла собой хитроумный компромисс. Так как адепты Первой волны все еще были сильны, Конституция предоставляла ряд важных властных полномочий не центральному правительству, а штатам. Чтобы избежать чрезмерного усиления центрального правительства, она произвела уникальное разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви. В то же время язык Конституции был достаточно гибок, чтобы позволить федеральному правительству впоследствии резко расширить свое влияние.
Индустриализация подталкивала политическую систему к дальнейшей централизации. Правительство в Вашингтоне брало на себя все больше полномочий и ответственности, все больше монополизировало принятие решений в центре. Внутри федерального правительства центр власти сместился от конгресса и судов к наиболее централизованной из трех ветвей – органам исполнительной власти. При Никсоне историк Артур Шлезингер (сам ярый сторонник централизации) уже обвинял президента в «имперских замашках».
Давление политической централизации достигло еще большего накала за пределами США. Достаточно одного беглого взгляда на Швецию, Японию, Великобританию или Францию, чтобы увидеть: по сравнению с этими странами американская система выглядела децентрализованной. Жан-Франсуа Ревель, автор книги «Ни Маркс и ни Христос», подчеркивает этот момент, указывая на то, как правительства реагируют на политический протест: «Например, если во Франции запрещается демонстрация, то источник запрета не вызывает сомнений. Если это важная политическая демонстрация, то тогда запрет исходит от [центрального] правительства. В США, если демонстрация запрещена, то сразу же задается вопрос: „Кем запрещена?“». Ревель говорит, что в США запрет может часто исходить от каких-нибудь местных властей, действующих анонимно.
Наиболее крайние формы централизации политической власти, разумеется, можно найти в промышленных странах победившего марксизма. В 1850 году Маркс призвал к «самой решительной централизации силы в руках государственной власти». Энгельс, как и Гамильтон до него, назвал децентрализованную конфедерацию «огромным шагом назад». Позднее Советы, стремясь ускорить индустриализацию, создали наиболее централизованную политическую и экономическую структуру в человеческой истории, отдав под контроль центрального Госплана даже самые пустячные производственные решения.
* * *
Кроме того, постепенной централизации некогда децентрализованной экономики способствовал новый, чрезвычайно важный институт, чье название само говорит о его предназначении, – центральный банк.
В 1964 году, на заре индустриальной эпохи, когда Ньюкомен все еще доводил до ума свою паровую машину, Уильям Патерсон основал Банк Англии, ставший эталоном для централизованных учреждений этого типа во всех странах Второй волны. Ни одно государство не могло бы завершить этап Второй волны, не создав свой собственный эквивалент этого механизма контроля за деньгами и кредитом.
Банк Патерсона продавал государственные облигации, эмитировал государственную валюту и позже начал регулировать практику кредитования других банков. Впоследствии он взял на себя первичную функцию всех сегодняшних центральных банков – централизованный контроль над денежным обращением. В 1800 году для тех же задач был создан Банк Франции. В 1875 году появился немецкий Рейхсбанк.
В США вскоре после принятия Конституции силы Первой и Второй волн схлестнулись в жестокой схватке по вопросу о создании центрального банка. Гамильтон, блестящий поборник политики Второй волны, ратовал за основание национального банка по примеру Англии. Южные и западные штаты, все еще приверженные сельскому хозяйству, выступали против. Тем не менее, заручившись поддержкой индустриального Северо-Востока, Гамильтон сумел протолкнуть закон о создании Первого банка Соединенных Штатов, предтечи сегодняшней Федеральной резервной системы.
Центральные банки, которым правительства поручили регулировать уровень и интенсивность рыночной деятельности, с черного входа (как водится) протащили в капиталистическую экономику элементы неофициального краткосрочного планирования. Деньги текли по всем артериям обществ Второй волны – как капиталистических, так и социалистических. Общества обоих типов нуждались в центральной станции перекачки денег, и они ее создали. Центральный банк и центральное правительство действовали рука об руку. Централизация стала еще одним господствующим принципом цивилизации Второй волны.
* * *
Таким образом, мы имеем набор из шести основных принципов – «программу», которая в той или иной мере действовала во всех странах Второй волны. Эти шесть принципов – унификация, специализация, синхронизация, концентрация, максимизация и централизация – работали и в капиталистическом, и в социалистическом крыле индустриального сообщества, потому что неизбежно проистекали из фундаментального разрыва между производителем и потребителем и непрерывного разрастания рынка.
Эти принципы, усиливая друг друга, неотвратимо порождали рост бюрократии, создав самые крупные, неповоротливые и мощные бюрократические организации, которые когда-либо видел мир, и предоставив человеку блуждать в кафкианских лабиринтах мега-ведомств. И если сегодня нам кажется, что они подавляют и угнетают людей, то корень проблемы следует искать в тайном коде, запрограммировавшем облик цивилизации Второй волны.
Шесть принципов, образующих этот код, оставили на цивилизации Второй волны характерный отпечаток. Сегодня, как мы вскоре увидим, каждому из этих фундаментальных принципов брошен вызов со стороны сил Третьей волны.
А вместе с ними вызов брошен элитам, которые все еще придерживаются старых правил в бизнесе, банковском деле, трудовых отношениях, государственных службах, образовании и СМИ, потому что становление новой цивилизации угрожает шкурным интересам старой цивилизации.
В ходе предстоящих потрясений элиты всех индустриальных обществ, привыкшие диктовать правила, скорее всего, канут в Лету, как это до них произошло с феодальными правителями прошлого. Некоторые окажутся на обочине. Некоторых свергнут с трона. Других низведут до состояния полного бессилия и замшелого аристократизма. Но кое-кто – самые умные и гибкие – переобуются и станут лидерами цивилизации Третьей волны.
Чтобы понять, кто будет заправлять делами, когда начнет доминировать Третья волна, необходимо взглянуть на тех, кто заправляет делами сегодня.
Глава 5
Технократы
Вопрос «Кто здесь главный?» – типичный вопрос эпохи Второй волны, потому что задавать его до индустриальной революции не было смысла. Кто бы ни правил, король, шаман, атаман, солнцебог или святой, у людей редко возникали сомнения насчет личности правителя. Оборванный крестьянин, оторвав взгляд от межи, видел на горизонте роскошный дворец или монастырь. Для ответа на вопрос, кому принадлежит власть, ему не требовались разъяснения политологов или газетных писак. Все и так это знали.
Однако, когда нахлынула Вторая волна, появилась власть нового типа – расплывчатая и безликая. Власть имущих стали называть анонимным словом «они». Но кто эти «они»?
Интеграторы
Индустриализм, как мы видели, расщепил общество на тысячи сочлененных друг с другом частей – заводов, церквей, школ, профсоюзов, тюрем, больниц и т. п. Он нарушил субординацию между церковью, государством и индивидом, раздробил знание на специализированные дисциплины, работу – на отдельные операции, семьи – на уменьшенные ячейки. По ходу дела он уничтожил общинный уклад и общинную культуру.
Кому-то надо было заново сложить все части вместе, чтобы получить новое единое целое.
Эта потребность привела к появлению специалистов нового типа, чьей главной задачей была интеграция. Они называли себя исполнительными директорами, администраторами, комиссарами, координаторами, президентами, вице-президентами, служащими или менеджерами и возникали в любой компании, правительстве любой страны, на всех уровнях общества. Оказалось, что без них невозможно обойтись. Они играли роль интеграторов.
Эти лица распределяли роли и рабочие места, решали, кого и за что вознаградить, составляли планы, устанавливали критерии, давали положительные или отрицательные характеристики. Они связывали воедино производство, распределение, транспорт и коммуникации, задавали правила взаимодействия организаций. Другими словами, сочетали части общества друг с другом. Без них система Второй волны не смогла бы функционировать.
Маркс в середине XIX века полагал, что обществом управляет тот, кто владеет инструментами и технологиями – средствами производства. Он утверждал, что, поскольку труд взаимозависим, рабочие могли бы остановить производство и отобрать инструменты труда у своих хозяев. Завладев инструментами труда, они управляли бы всем обществом.
Но история сыграла с ним злую шутку, потому что пресловутая взаимозависимость наделила еще большей властью новую группу людей – тех, кто занимался организацией и интеграцией системы. В итоге власть не досталась ни хозяевам, ни рабочим. И в капиталистических, и в социалистических странах на места руководителей пробрались интеграторы.
Властью, как выяснилось, наделяла вовсе не собственность на средства производства, а контроль за средствами интеграции. Давайте рассмотрим, что это такое.
В деловой сфере самыми первыми интеграторами были владельцы фабрик, предприниматели, заводчики, хозяева железоделательных предприятий. Владелец с несколькими помощниками обычно успешно координировал работу большого числа неквалифицированных рабочих и тем самым интегрировал фирму в национальную экономику.
В то время владелец и интегратор выступали в одном лице, поэтому неудивительно, что Маркс не увидел разницы между ними и ошибочно сделал упор на владении собственностью. Однако по мере усложнения производства и дальнейшего разделения труда появилась целая прорва управляющих и экспертов, стоящих между хозяином и рабочими. Потекли бумажные реки. Вскоре в крупных фирмах ни один человек, будь то владелец или основной держатель акций, уже не мог удержать в голове всю полноту операций. Решения хозяина оформляли и контролировали их выполнение специалисты, призванные координировать работу системы. Появилась новая элита управляющих, чья власть опиралась не на собственность, а на контроль над процессом интеграции.
По мере усиления власти менеджера власть акционера становилась все слабее и слабее. Хозяева распухающих компаний продавали семейную собственность все более обширным группам рассредоточенных владельцев, среди которых лишь немногие четко представляли себе специфику операций фирмы. Акционеры все больше полагались на наемных менеджеров не только в области повседневного управления делами компании, но и в выработке долгосрочных задач и стратегий. В свою очередь, советы директоров, теоретически представлявшие владельцев, все больше отдалялись от операций, которыми им надлежало руководить, и все меньше в них разбирались. А так как частные инвестиции все чаще делались не столько отдельными лицами, сколько опосредованно различными организациями вроде пенсионных и паевых фондов или отделов доверительных операций банков, подлинные владельцы еще дальше отодвигались от рычагов управления предприятием.
Наиболее доходчиво новый тип власти описал бывший министр финансов США В. Михаэль Блюменталь. До перехода на государственную службу Блюменталь возглавлял корпорацию Bendix. Кто-то спросил его, не хотел бы он однажды стать владельцем этой корпорации. Блюменталь ответил: «Важно не владеть, важно контролировать. Как глава фирмы я это и делал. У нас на следующей неделе собрание акционеров, и у меня 97 процентов голосов. При этом я владею всего восемью тысячами акций. Контроль – вот что для меня важно… Осуществлять контроль над этой бестией, направлять ее на конструктивный путь – вот чего я хочу, а не заниматься глупостями, как этого требуют от меня другие».
Политику компаний все больше определяли наемные менеджеры, включенные в штат фирмы, или финансовые менеджеры, инвестировавшие в нее чужие деньги, но никак не реальные владельцы и уж тем более не рабочие. Власть захватили интеграторы.
Все это находит параллели в социалистических странах. Ленин уже в 1921 году призывал к разоблачению советских бюрократов. Троцкий, находившийся в 1930 году в изгнании, сетовал на то, что пять или шесть миллионов управленцев образовали слой, «который не занимается непосредственно производительным трудом, а управляет, приказывает, командует, милует и карает». Средства производства принадлежат государству, но государство, пишет он, «принадлежит» бюрократии. В 1950-х годах Милован Джилас в своей книге «Новый класс» подверг резкой критике растущую власть управленческих элит в Югославии. Тито, посадив Джиласа в тюрьму, сам отрицательно отзывался о «технократах и бюрократах, классовых врагах». Угроза, исходящая от менеджеризма, была одной из главных тем в Китае времен Мао 11.
Таким образом, интеграторы захватили реальную власть как при капитализме, так и при социализме. Без них части системы не могли взаимодействовать, и «машина» попросту остановилась бы.
Двигатель интеграции
Интеграция отдельного предприятия или даже целой отрасли была лишь малой частью того, что предстояло сделать. Как мы уже видели, современное индустриальное общество произвело на свет целый сонм организаций от профсоюзов и торговых ассоциаций до церквей, школ, медицинских клиник и групп досуга. Все они были вынуждены действовать в рамках предсказуемых правил. Все они нуждались в законах. В первую очередь требовалось согласовать взаимодействие между инфосферой, техносферой и социальной сферой.
Насущная потребность цивилизации Второй волны в интеграции породила самого крупного координатора – двигатель системной интеграции в лице раздутого государственного аппарата. Именно горячая потребность в интеграции со стороны системы объясняет, почему в каждой стране Второй волны происходило неуклонное раздувание полномочий государства.
Неоднократно на арену выходили демагоги, призывавшие к уменьшению размеров правительства. Однако, оказавшись у власти, те же самые лидеры принимались оправдывать бесконечный рост правительственных учреждений вместо того, чтобы их сокращать. Это противоречие между риторикой и реальной жизнью становится понятным, стоит только уяснить, что сквозной целью всех правительств эпохи Второй волны было строительство и поддержание индустриальной цивилизации. Все прочие различия блекнут на фоне этого обязательства. Партии и политики могут до хрипоты спорить о других вещах, но по этому вопросу хранят молчаливое единодушие. Большой государственный аппарат был частью их неписаной программы независимо от озвучиваемых целей, потому что промышленные общества нуждались для осуществления фундаментальных задач интеграции в помощи государства.
Говоря словами политического колумниста Клейтона Фритчи, федеральное правительство США никогда не переставало расти даже при последней администрации республиканцев по одной простой причине: даже Гудини не смог бы демонтировать его без серьезных пагубных последствий.
Поборники свободного рынка утверждают, что государство не должно вмешиваться в дела бизнеса. Но если бы индустриализацию оставили на милость частного предпринимательства, она шла бы намного медленнее, а может быть, вообще не состоялась. Государство ускорило развитие железных дорог, построило гавани, шоссе, каналы и автострады. Оно управляло почтовой службой, создало и наладило работу телеграфа, телефона и систем вещания, составило коммерческие кодексы и унифицировало рынки, оказывало в интересах промышленности давление на другие страны и тарифы. Государство согнало крестьян с земли, превратив их в промышленных рабочих, ввело субсидии на энергетику и передовые технологии – нередко по каналам расходов на военные нужды. Государство на тысяче разных уровней взяло на себя задачи по интеграции, которые другие не могли или не хотели на себя брать.
Поэтому государство играло роль великого ускорителя. Благодаря функциям принуждения и сбора налогов оно могло делать то, чего не могли себе позволить частные предприятия. Государство имело возможность раскрутить процесс индустриализации, заполняя возникающие пробелы до тех пор, пока они не становились достаточно прибыльными, чтобы привлечь частные компании. Государство осуществляло «упреждающую интеграцию».
За счет создания системы массового образования государство не только помогало обтесывать молодежь для будущей работы на промышленных предприятиях (тем самым, по сути, дотируя промышленность), но и одновременно насаждало нуклеарный тип семьи. Освобождая семью от обязанности обучать детей и прочих традиционных функций, государство ускоряло адаптацию структуры семьи к нуждам фабричного производства. Таким образом, государство на многих различных уровнях дирижировало созданием сложной цивилизации Второй волны.
Не приходится удивляться, что с повышением важности интеграции также менялись сущность и стиль государственного управления. Президенты и премьер-министры начали считать себя в большей степени менеджерами и в меньшей – общественно-политическими лидерами с творческой жилкой. По своим личным качествам и повадкам они почти перестали отличаться от людей, руководивших крупными компаниями и предприятиями. Расточая дежурные фразы о демократии и социальной справедливости, Никсоны, Картеры, Тэтчеры, Брежневы, Жискары и Охиры промышленного мира занимали руководящие места, на самом деле обещая всего лишь эффективно выполнять обязанности менеджера.
Поэтому и в капиталистических, и в социалистических странах развитие шло по одной и той же схеме – в сторону появления больших компаний или производственных организаций и гигантского государственного аппарата. Вместо предсказанного Марксом захвата рабочими средств производства или угодного сердцу последователей Адама Смита сохранения власти за капиталистами появилась совершенно новая сила, бросившая вызов и тем и другим. Технократы от власти захватили «средства интеграции», а вместе с ними – бразды правления в социальной, культурной, политической и экономической областях. Обществами Второй волны начали управлять интеграторы.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе