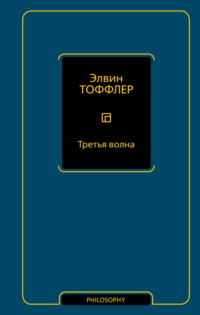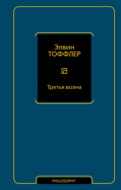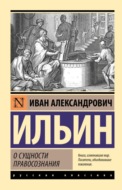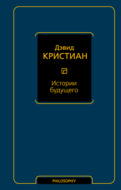Читать книгу: «Третья волна», страница 9
Плантация маргарина
Чтобы организовать поток доходов, промышленные державы много потрудились над интеграцией мирового рынка. По мере выхода торговли за пределы отдельных государств каждый национальный рынок становился частью более крупной группы взаимосвязанных региональных и континентальных рынков и, наконец, частью единой системы обмена, сконструированной элитами интеграторов, управлявшими цивилизацией Второй волны. Весь мир был опутан единой паутиной денежных расчетов.
Используя остаток мира в качестве бензоколонки, огорода, шахты, рудника и источника дешевой рабочей силы, мир Второй волны внес глубокие изменения в общественную жизнь народов неиндустриальных стран всей планеты. Культуры, которые тысячи лет существовали в самодостаточной манере и сами производили для себя продукты питания, против их воли засосало в систему мировой торговли, и они были поставлены перед выбором: торговать либо исчезнуть. Внезапно появились новые оловянные рудники и каучуковые плантации, питающие ненасытную промышленную глотку, и материальное благосостояние боливийцев или малайцев оказалось привязано к требованиям индустриальных экономических держав, находящихся на другом конце света.
Ярким примером может послужить такой невинный товар для дома, как маргарин. Прежде маргарин делали в Европе из местных материалов. Однако он стал настолько популярен, что местного сырья стало не хватать. В 1907 году ученые открыли способ изготовления маргарина из кокосов и пальмового масла. Открытие, сделанное в Европе, привело к росту благосостояния жителей Западной Африки.
«В основных районах Западной Африки, – пишет Магнус Пайк, президент Института пищевых исследований и технологий Великобритании, – где по традиции производилось пальмовое масло, земля находилась в коллективной собственности всей общины». Использование пальм регулировалось сложными местными обычаями и правилами. Иногда человек, посадивший пальму, имел право снимать с нее урожай до конца жизни. В некоторых местах особые права предоставлялись женщинам. По сведениям Пайка, западные бизнесмены, организовавшие «крупномасштабное производство пальмового масла для изготовления маргарина, „готовой“ еды обитателей промышленных стран Европы и Америки, уничтожили сложную хрупкую общественную систему неиндустриализированных африканцев». В Бельгийском Конго, Нигерии, Камеруне и на Золотом Берегу возникли огромные плантации. Запад получил свой маргарин. Африканцы превратились в полурабов, гнущих спину на плантациях.
Еще одним примером служит каучук. На рубеже веков, когда в автомобильной промышленности США резко возник огромный спрос на резину для покрышек и всяческих трубок, торговцы в сговоре с местными властями поработили индейцев Амазонии и заставили их собирать каучук. Британский консул в Рио-де-Жанейро Роджер Кейсмент докладывал, что производство 4000 тонн каучука на реке Путумайо с 1900 по 1911 год стоило жизни 30 тыс. индейцев.
Некоторые могут возразить, что это были эксцессы, нехарактерные для эпохи крупного империализма. Разумеется, колониальные власти не были сплошь злобными и жестокими. В некоторых местах они строили для подчиненного населения школы и базовые медицинские учреждения, улучшали водоснабжение и санитарию. Уровень жизни части местных жителей, несомненно, стал выше.
Не стоит также романтизировать доколониальные общества или приписывать бедность народов нынешних неиндустриальных стран исключительно империализму. Климат, местная коррупция и тирания, невежество и ксенофобия тоже вносили свой вклад. Нищеты и угнетения с избытком хватало и до появления европейцев.
И все-таки народам Первой волны, оторванным от режима самодостаточности и вынужденным производить товары для продажи и обмена, приходилось перестраивать свои общественные структуры для работы на рудниках или плантациях, попадая в зависимость от рынка, на который они едва ли могли повлиять. Нередко их лидеров подкупали, культуру высмеивали, языки подавляли. Более того, колониальные державы вбили в покоренные народы чувство глубокой психологической неполноценности, которое по сей день служит препятствием для общественно-экономического роста.
Тем не менее империализм приносил миру Второй волны великолепную прибыль. Историк экономики Уильям Вудрафф пишет: «Именно эксплуатация этих территорий и растущая торговля с ними принесли европейской семье невиданное прежде благосостояние». Глубоко встроенный в сердцевину экономики Второй волны и удовлетворяющий ее ненасытную жажду ресурсов империализм уверенно шагал по планете.
В 1492 году, когда Колумб впервые ступил в Новый Свет, европейцы держали под контролем только 9 % планеты. К 1801 году они управляли третью мира, к 1880 году – двумя третями. А в 1935 году европейцы осуществляли политический контроль над 85 % земной поверхности и 70 % населения Земли. Как и само общество Второй волны, на интеграторов и интегрируемых оказался поделенным весь мир.
Интеграция по-американски
Надо сказать, что не все интеграторы были одинаковы. Страны Второй волны вели между собой кровавые битвы за управление мировой экономической системой. Растущая индустриальная мощь Германии бросила вызов господству Англии и Франции, что привело к Первой мировой войне. Разрушения, послевоенный опустошительный цикл инфляции и спада, революция в России до основания потрясли мировой промышленный рынок.
Эти потрясения вызвали резкое замедление скорости роста мировой торговли, и, хотя в эту систему были втянуты новые страны, объем международного торгового товарооборота сократился. Вторая мировая война еще больше замедлила расширение интегрированного мирового рынка.
К концу Второй мировой войны Европа лежала в дымящихся руинах. Территория Германии превратилась в лунный ландшафт. Советский Союз понес невероятные материальные и людские потери. Промышленность Японии была разгромлена. Среди крупных индустриальных держав серьезно не пострадала только американская экономика. К 1946–1950 годам глобальная экономика находилась в таком беспорядке, что внешняя торговля сократилась до уровня 1913 года.
Кроме того, слабость измотанных войной европейских государств побудила одну колонию за другой заявлять о своей независимости. Ганди, Хо Ши Мин, Джомо Кениата и другие борцы с колониализмом резко увеличили усилия по изгнанию чужеземных хозяев.
Еще до того, как перестали стрелять пушки, стало ясно, что после войны промышленную экономику всего мира придется перестраивать на новой основе.
Задачу по реорганизации и реинтеграции экономической системы Второй волны взяли на себя две страны – Соединенные Штаты Америки и Союз Советских Социалистических Республик.
США до этого времени играли ограниченную роль в больших имперских кампаниях. Расширяя свои границы, американцы уничтожили основную массу коренных жителей, а уцелевших загнали в резервации. В Мексике, на Кубе, в Пуэрто-Рико и на Филиппинах американцы подражали имперской тактике англичан, французов и немцев. В Латинской Америке в первые десятилетия ХХ века «долларовая дипломатия» США помогала United Fruit и другим корпорациям поддерживать гарантированно низкие цены на сахар, бананы, кофе, медь и другие полезные вещи. И все-таки в сравнении с европейцами США играли в имперском крестовом походе роль младшего партнера.
Но после Второй мировой войны Соединенные Штаты превратились в главную нацию-кредитора мира. Они обладали наиболее развитой технологией, устойчивой политической структурой и соблазнительной возможностью для заполнения вакуума власти, оставленного разгромленными соперниками, которым к тому же пришлось уносить ноги из колоний.
Американские финансовые стратеги начали планировать послевоенную интеграцию мировой экономики на более выгодных для США условиях еще в 1941 году. На Бреттон-Вудской конференции 1944 года, проводившейся под руководством США, 44 страны договорились о создании двух ключевых международных организаций – Международного валютного фонда и Всемирного банка.
МВФ обязал государства-участников привязать свои валюты к доллару США или золоту, наибольший запас которого имелся у Соединенных Штатов. (К 1948 году США обладали 72 % мирового золотого запаса.) Таким образом МВФ решил главную проблему отношений между крупнейшими валютами мира.
Всемирный банк, изначально созданный для предоставления кредитов на послевоенное восстановление европейским государствам, постепенно начал выдавать ссуды и непромышленным странам. Эти средства нередко предназначались для строительства дорог, гаваней, портов и других объектов инфраструктуры, то есть для облегчения доставки сырьевых материалов и товаров сельского хозяйства в страны Второй волны.
Вскоре в систему был включен третий элемент – Генеральное соглашение по тарифам и торговле, или сокращенно ГАТТ. Задачей этого соглашения, которое тоже продвигали Соединенные Штаты, была либерализация торговли, что, в свою очередь, затрудняло для более бедных и менее технически развитых стран защиту своих крохотных неоперившихся отраслей промышленности.
Эти три организации связывало воедино правило, запрещавшее Всемирному банку выдавать ссуды какой-либо стране, отказавшейся вступить в ВМФ или соблюдать ГАТТ.
Система не позволяла должникам США сокращать свои обязательства путем манипуляций с собственной валютой или тарифами. Она усиливала конкурентные позиции американской промышленности на мировых рынках и передавала в руки индустриальных держав, в первую очередь США, рычаги влияния на экономическое планирование во многих странах Первой волны даже в тех случаях, когда те добивались политической независимости.
Эти три взаимосвязанных учреждения сформировали единую интегрирующую структуру в области мировой торговли. С 1944 года и до начала 1970-х годов Соединенные Штаты фактически были хозяевами этой системы. Она интегрировала интеграторов – другие национальные государства.
Социалистический империализм
Тем временем американскому лидерству в мире Второй волны все больше угрожал подъем Советского Союза. СССР и другие социалистические страны позиционировали себя как антиимпериалисты и друзья колонизированных народов мира. В 1916 году, за год до своего прихода к власти, Ленин написал разгромную критическую работу о капиталистических национальных государствах и политике колониализма. «Империализм как высшая стадия капитализма» стала одной из важнейших книг века и до сих пор определяет образ мыслей миллионов людей.
Ленин считал империализм чисто капиталистическим явлением. Капиталистические страны, утверждал он, угнетали и колонизировали другие народы не по собственной прихоти, а в силу необходимости. Якобы непреложный закон, выдвинутый Марксом, гласит, что прибыли капиталистов со временем неизбежно падают. Чтобы компенсировать сокращение прибыли дома, писал Ленин, капиталистические государства вынуждены искать «сверхприбыль» за рубежом. И только социализм, утверждал он, освободит колонизированные народы от угнетения и нищеты, потому что социализму не присуще органическое стремление к экономической эксплуатации.
Ленин не учел, что императивы, действовавшие в промышленных капиталистических странах, одинаково действуют и в промышленных социалистических странах. Последние тоже являются частью мировой финансовой системы. Их экономика точно так же основана на отделении производства от потребления. Им одинаково нужен рынок (хотя не обязательно ориентированный на получение прибыли), а также требуется снабжать свое машинное производство сырьем из-за рубежа. И по этим причинам социалистическим странам тоже нужна интегрированная мировая экономическая система, позволяющая получать необходимое и продавать товар за границей.
И действительно: подвергая резкой критике империализм, Ленин говорил, что целью социализма является «не только сближение наций, но и слияние их». Как писал советский ученый М. Сенин в работе «Социалистическая интеграция», Ленин к 1920 году считал сближение наций объективным процессом, который окончательно и бесповоротно приведет к созданию единой мировой экономики, регулируемой общим планом. Если на то пошло, в этом и состоит конечная задача индустриализма.
На внешнем рынке промышленными социалистическими нациями двигали те же потребности в ресурсах, что и капиталистическими странами. Им точно так же были необходимы хлопок, кофе, никель, сахар, пшеница и прочие товары для быстро растущих промышленных предприятий и городского населения. Советский Союз располагал (и до сих пор располагает) огромными запасами природных ресурсов. У него есть марганец, свинец, цинк, уголь, фосфаты и золото. Но все это есть и у США, однако наличие ресурсов не помешало ни одной из этих стран покупать их у других по максимально низкой цене.
С момента своего создания Советский Союз был частью международной финансовой системы. Когда какое-либо государство присоединялось к этой системе, принимая «нормативные» правила коммерческой деятельности, оно немедленно попадало в зависимость от расхожих определений рентабельности и производительности, чье появление, в свою очередь, можно отнести к самому началу капиталистической эпохи. Такое государство было вынуждено – практически бессознательно – принимать традиционные экономические концепции, категории, определения, методы финансовой отчетности и единицы измерений.
Поэтому социалистические менеджеры и экономисты точно так же, как их коллеги при капитализме, подсчитывали, что выгоднее – производить сырьевые материалы самим или закупать их за границей. Им тоже приходилось принимать решения, покупать или производить, с какими капиталистические корпорации сталкиваются каждый день. И они вскоре выяснили, что закупка определенного сырья на мировом рынке обходится дешевле домашнего производства 14.
Как только такое решение было принято, глазастые советские торговые представители прочесывали мировой рынок и закупали сырье по ценам, ранее установленным на низком уровне коммерсантами-капиталистами. На советские грузовики ставили шины из резины, цены на сырье для которой, вероятно, изначально установили английские торговцы в Малайе. Бывало и хуже: в Гвинее, где Советы держали свои войска, они платили шесть долларов за тонну бокситов, в то время как американцы предлагали двадцать три доллара. Индия заявила протест, потому что русские накручивали 30 % на свой экспорт, в то же время недоплачивая 30 % за индийские товары. Иран и Афганистан получали от СССР предложения о покупке природного газа по сверхнизким ценам. Выходит, что Советский Союз извлекал не меньшую выгоду из колоний, чем его капиталистические противники. Иначе бы замедлился процесс индустриализации.
Таким образом, соображения стратегического свойства толкали Советский Союз к империалистической политике. Столкнувшись с военной мощью нацистской Германии, Советы колонизировали прибалтийские государства и вступили в войну с Финляндией. После Второй мировой войны, используя войска и угрозу вмешательства, они помогли установить «дружеские» режимы в большей части Восточной Европы. Советский Союз периодически доил эти страны, опережавшие его в промышленном развитии, что лишь еще раз подтверждает их статус как колоний, или «сателлитов».
«Нет никаких сомнений в том, – пишет экономист-неомарксист Говард Шерман, – что непосредственно после окончания Второй мировой войны Советский Союз вывез из Восточной Европы определенное количество ресурсов, не предоставив эквивалентных ресурсов взамен… Происходили откровенный грабеж и военные репарации… Создавались совместные предприятия, в которых хозяйничала советская сторона, извлекавшая из этих стран прибыль. Заключались крайне неравные торговые соглашения, имевшие характер дополнительных репараций».
В настоящее время прямого грабежа не происходит и совместные предприятия исчезли, однако Шерман добавляет: «Существует много свидетельств того, что обмен между СССР и большинством восточноевропейских стран по-прежнему остается неравным и от него больше всего выигрывает СССР». Размеры такой «прибыли» трудно оценить ввиду ненадежности советской статистики. Может статься, что расходы на содержание советских войск в Восточной Европе превышают экономические выгоды. Однако, несомненно, ясно одно: в то время как американцы создали триумвират МВФ – ГАТТ – Всемирный банк, Советы сделали шаг к осуществлению ленинской мечты о единой интегрированной экономической системе, основав Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и принудив вступить в него восточноевропейские страны. СССР обязал страны СЭВ не только вести взаимную торговлю, но и представлять свои планы экономического развития на утверждение в Москву. Москва же, придерживаясь фантазии Рикардо о преимуществах специализации и действуя в том же духе, в каком старые империалистические державы обращались с экономикой африканских, азиатских и латиноамериканских стран, назначала экономике каждой восточноевропейской страны специализированные функции. Открытое упорное сопротивление оказала только Румыния.
Заявив, что Москва пытается превратить ее в бензоколонку и огород Советского Союза, Румыния задалась целью достичь, по словам ее руководства, разностороннего развития или индустриализации полного цикла. Несмотря на давление Советов, Румыния воспротивилась «социалистической интеграции». Короче говоря, в то время как США после Второй мировой войны захватили положение лидера промышленных капиталистических государств и создали действующие в их интересах механизмы интеграции мировой экономической системы, СССР выстроил свою собственную систему в той части мира, которая находилась под его контролем.
* * *
Такой огромный, сложный, преобразующий действительность феномен, как империализм, невозможно описать простыми словами. Историки до сих пор окончательно не изучили его воздействие на религию, образование, систему здравоохранения, литературу и искусство, отношение к другим расам, менталитет целых народов и непосредственно на экономику. В послужном списке империализма, несомненно, есть как положительные заслуги, так и преступления. Однако роль империализма в становлении цивилизации Второй волны невозможно не заметить.
Империализм можно считать турбонаддувом или ускорителем промышленного развития мира Второй волны. С какой скоростью смогли бы провести индустриализацию США, Западная Европа, Япония и СССР без поступления продовольствия, энергоресурсов и сырья извне? Что случилось бы, если цены на сырьевые товары, например, бокситы, марганец, олово, ванадий или медь, в течение десятков лет были бы на 30–50 % выше?
Соответственно выше оказались бы цены на тысячи наименований товарной номенклатуры, причем в некоторых случаях выше настолько, что это исключило бы массовое потребление. Шок от повышения цен на нефть в начале 1970-х годов дает лишь слабое представление о возможных последствиях.
Даже при наличии замещения товаров внутри страны экономический рост государств Второй волны серьезно затормозился бы. Без скрытых субсидий, предоставленных империализмом, и капиталистическая, и социалистическая цивилизация Второй волны сегодня, вероятно, находилась бы на уровне 1920-х или 1930-х годов.
Общий план теперь должен быть достаточно ясен. Цивилизация Второй волны разрезала мир на отдельные национальные государства и структурировала их. Нуждаясь в ресурсах остальной части мира, она втянула общества Первой волны и остатки первобытных народов в единую финансовую систему. Она создала глобальный интегрированный рынок. Однако бурное развитие индустриализма не ограничивалось экономической, политической или социальной системой. Индустриализм изменил жизненный уклад и образ мышления людей, породил менталитет Второй волны.
И этот менталитет сегодня является главным препятствием на пути создания работоспособной цивилизации Третьей волны.
Глава 9
Индуст-реальность
Опутывая своими щупальцами всю планету и трансформируя все, чего она коснулась, цивилизация Второй волны приносила с собой не одну технологию или торговлю. Сталкиваясь с цивилизацией Первой волны, Вторая волна создавала для миллионов людей не только новую действительность, но и новое понимание действительности.
Вступая в конфликт по тысячам вопросов с ценностями, концепциями, мифами и моралью аграрного общества, Вторая волна порождала новые дефиниции Бога, справедливости, любви, власти, красоты. Она вызывала к жизни новые идеи, взгляды и аналогии, ниспровергала и вытесняла старые представления о времени, пространстве, материи и причинности. Появилось мощное гармоничное мировоззрение, не только объясняющее, но и оправдывающее действительность Второй волны. Для мировоззрения промышленного общества так и не придумали отдельного термина. Ему больше всего подошло бы название «индуст-реальность».
Индуст-реальность представляет собой комплексный набор идей и представлений, с помощью которого детей эпохи индустриализма учили понимать мир, в котором они живут. Это комплект предпосылок, используемых цивилизацией Второй волны, ее учеными, капитанами бизнеса, государственными деятелями, философами и пропагандистами.
Были, конечно, и те, кто выступал против и бросал вызов идеям индуст-реальности, но нас интересуют не побочные течения, а основное направление мысли эпохи Второй волны. На первый взгляд казалось, что никакого основного направления не было в помине и происходило столкновение двух мощных идеологических течений. К середине XIX века каждая индустриальная держава имела свое четкое деление на левых и правых, поборников индивидуализма и свободы предпринимательства, с одной стороны, и апологетов коллективизма и социализма – с другой.
Эта битва идеологий, поначалу проходившая в самих промышленных странах, вскоре охватила всю планету. После победы социалистической революции 1917 года в России и создания централизованной пропагандистской машины идеологическая борьба стала еще ожесточеннее. А к концу Второй мировой войны, когда США и СССР попытались реинтегрировать мировой рынок или, по крайней мере, большую его часть, на своих условиях, каждая сторона тратила на распространение своей доктрины среди неиндустриализированных народов огромные суммы денег.
На одном фланге стояли тоталитарные режимы, на другом – так называемые либеральные демократии. Там, где не хватало логических аргументов, в ход шли пушки и бомбы. Со времен борьбы католиков с протестантами мир не видел столь резкого доктринального размежевания между двумя центрами веры.
Однако в пылу пропагандистской войны мало кто замечал, что обе стороны, продвигая разные идеологии, по сути, предлагали одну и ту же сверхидеологию. Выводы двух сторон в виде экономических программ и политических догм радикально различались, но многие исходные представления были одинаковы. Подобно тому как протестантские и католические миссионеры, потрясая разными изданиями Библии, проповедовали одну и ту же веру в Христа, марксисты и антимарксисты, капиталисты и антикапиталисты, американцы и русские устремлялись в Африку, Азию и Латинскую Америку, неиндустриальные регионы мира, слепо следуя одному и тому же набору фундаментальных предпосылок. И те и другие проповедовали превосходство индустриальной цивилизации перед всеми другими ее видами. И те и другие были страстными апостолами индуст-реальности.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе