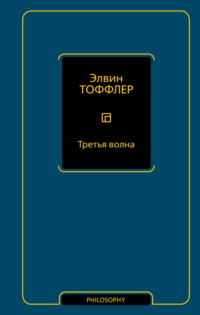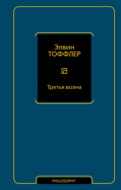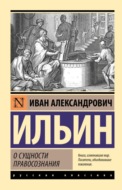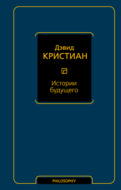Читать книгу: «Третья волна», страница 8
Глава 7
Лихорадка национализма
Абако – это остров. Его население насчитывает 650 человек, он входит в Багамский архипелаг, расположенный у берегов Флориды. Несколько лет назад группа, состоявшая из американских бизнесменов, торговцев оружием, идеологов свободы предпринимательства, пропагандиста доктрины равенства интеллектуальных способностей черных и белых и члена британской палаты лордов, решила, что для Абако настало время объявить о своей независимости.
План предусматривал захват острова, выход из-под контроля правительства Багам и обещание бесплатно выдать каждому местному жителю после революции по одному акру земли. (Этот шаг оставил бы более четверти миллиона акров в распоряжении застройщиков и инвесторов, стоявших за проектом.) Розовой мечтой было создание на Абако безналоговой утопии, куда богатые дельцы могли бы сбежать от социалистического апокалипсиса.
К большому огорчению поборников свободного предпринимательства, абакцы не пожелали избавляться от цепей, и рождение новой нации не задалось.
Тем не менее в мире, где национальные движения ведут борьбу за власть и 152 страны являются членами торговой ассоциации государств – ООН, подобные карикатурные жесты служат полезной цели – они заставляют нас критически взглянуть на идею государственности как таковую.
Могут ли 650 жителей Абако образовать национальное государство, пусть даже с помощью эксцентричных бизнесменов? Если Сингапур с 2,3 млн жителей является государством, то почему не восьмимиллионный Нью-Йорк? Если бы у Бруклина имелись свои бомбардировщики, его можно было бы считать государством? Несмотря на свою видимую абсурдность, эти вопросы приобретают новое значение в период, когда Третья волна подмывает устои цивилизации Второй волны.
Пока мы не развеем туман риторики, окружающий вопрос о национализме, мы не сможем понять смысла заголовков и сути конфликтов между цивилизациями Первой и Второй волн, в то время как их обе разрушает Третья волна.
Перемена лошадей
Перед тем как Вторая волна прокатилась по Европе, большинство регионов мира не успели сформироваться в национальные государства и представляли собой мешанину из племен, кланов, графств, княжеств, царств и прочих местных образований. «Короли и принцы, – пишет политолог С. Э. Файнер, – удерживали власть кусочками и обрывками». Границы были плохо определены, полномочия правительств туманны. Государственная власть не имела единого стандарта. В одной деревне, как сообщает Файнер, она сводилась к взиманию пошлины за мельницу, в другой – к обложению податью крестьян, где-то еще – к назначению аббата. Человек, имевший собственность в нескольких районах, присягал на верность разным правителям. Даже самые великие из императоров обычно царствовали над лоскутным одеялом, состоящим из крохотных самоуправляющихся общин. Политический контроль еще не был однородным. Вольтер заметил, что, путешествуя по Европе, правовую систему приходилось менять так же часто, как лошадей.
В этой шутке заложен более глубокий смысл: частая перемена лошадей отражала примитивный уровень развития транспорта и коммуникаций, что, в свою очередь, еще больше сокращало дистанцию, на которую простирался реальный контроль монарха. Власть государства слабела по мере удаления от столицы.
Однако экономическая интеграция была невозможна без политической интеграции. Дорогие технологии Второй волны могли оправдать себя, только производя товары для рынка, выходящего за пределы одного района. Но как, спрашивается, торговать деловым людям на большой территории, если за пределами своих общин они сразу же попадали в лабиринт разношерстных сборов, налогов, трудового законодательства и валют? Чтобы новые технологии приносили доход, местные хозяйства требовалось объединить в единую общенациональную экономику. А это означало появление национального разделения труда и национального же рынка сырьевых товаров и капитала. Все это, в свою очередь, требовало проведения общей национальной политики.
Проще говоря, росту экономических единиц Второй волны должна была соответствовать политическая единица Второй волны.
Поэтому, когда общества Второй волны начали создавать национальные экономики, в общественном сознании произошел заметный сдвиг. Мелкомасштабное местное производство в обществах Первой волны породило племя крайне провинциальных людей, большинство которых волновали только дела соседей или селения. Интересы простирались дальше деревенской околицы лишь в редких случаях – у священников, дворян, кучки купцов и таких обитателей социальной периферии, как художники, ученые и наемники.
Вторая волна быстро умножила количество людей, заинтересованных в расширении горизонтов. Технологии, основанные на использовании пара и угля, а впоследствии электричества, позволяли производителям одежды во Франкфурте, часов в Женеве или текстиля в Манчестере выпускать намного больше товаров, чем мог переварить местный рынок. Появилась потребность в завозе сырья издалека. Фабричный рабочий тоже зависел от финансовых процессов, происходивших на расстоянии тысяч миль, – рабочие места возникали и пропадали, подчиняясь велению далеких рынков.
Шаг за шагом расширялись психологические горизонты. Новые средства массовой информации увеличили доставку новостей и представлений из дальних краев. Под напором перемен поблек провинциализм и зашевелилось национальное сознание.
Начиная с Американской и Французской революций, лихорадка национализма XIX века охватила все индустриализированные части мира. Три сотни мелких, непохожих друг на друга, ссорящихся мини-государств Германии объединились в один национальный рынок – фатерланд. Италия, разорванная на части и управляемая Савойской династией, Ватиканом, австрийскими Габсбургами и испанскими Бурбонами, стала единым государством. У венгров, сербов, хорватов, французов внезапно пробудилось мистическое чувство родства с себе подобными. Национальный дух воспевали поэты. Историки вновь открывали забытых героев, литературу и фольклор. Композиторы сочиняли национальные гимны. Все эти события происходили именно в тот момент, когда они были затребованы индустриализацией.
Тяга индустриализма к интеграции позволяет легче понять сущность национальных государств. Нация не является «духовным единством» (как утверждал Шпенглер), «ментальной общиной» или «душой народа». Нация не представляет собой, по выражению Ренана, «богатое наследие воспоминаний», как и, согласно Ортеге, «коллективный образ будущего».
То, что мы называем современной нацией, это феномен Второй волны, единая, интегрированная политическая власть, наложенная на единую, интегрированную экономику или спаянная с ней. Пестрый набор местных самодостаточных, едва связанных друг с другом хозяйств не может привести и не приводит к появлению нации. Точно так же современная нация не появится в тесно объединенной политической системе, если та опирается на разрозненный конгломерат местных хозяйств. Современную нацию создал сплав того и другого – единой политической системы и единой экономики.
Восстания националистов, вызванные промышленной революцией в США, Франции, Германии и остальных странах Европы, можно считать борьбой за догоняющее развитие политической интеграции с целью ее соответствия быстро растущему уровню экономической интеграции, которой сопровождалась Вторая волна. Именно эта борьба, а не поэзия или мистическое влияние привело к разделению мира на отдельные национальные образования.
Золотой костыль
В стремлении к расширению рынка и политической власти любое правительство натыкалось на пределы – разницу в языках, социальные, географические и стратегические барьеры. Транспортные ресурсы, коммуникации, энергоснабжение, производительность технологий – все это задавало максимальные размеры территории, которой могла управлять единая политическая структура. Прогресс политической интеграции также определялся степенью совершенства методов учета, бюджетного контроля и технологий управления.
Зажатые в этих рамках корпоративные и государственные интеграционные элиты боролись за то, чтобы выйти за их пределы. Ведь чем обширнее были территория и доля экономического рынка, которые они контролировали, тем богаче и могущественнее они становились. Каждая страна пыталась до предела расширить свои экономические и политические границы, сталкиваясь при этом не только с естественными ограничениями, но и с другими соперничающими государствами.
Чтобы преодолеть эти препятствия, интеграционные элиты прибегали к продвинутым технологиям, например, азартно приступили в XIX веке к строительству железных дорог – аналогу будущего состязания за освоение космоса.
В сентябре 1825 года железнодорожная ветка соединила английские города Стоктон и Дарлингтон. В мае 1835 года была построена первая на европейском континенте железная дорога Брюссель – Мехелен. В сентябре того же года заработала линия Нюрнберг – Фюрт в Баварии. За ней последовала ветка Париж – Сен-Жермен. Далеко на востоке в апреле 1838 года поезда начали курсировать между Царским Селом и Санкт-Петербургом. Следующие три десятилетия, а то и больше железнодорожные рабочие усердно связывали один регион с другим.
Французский историк Шарль Моразе объясняет: «Земли, которые в 1830 году и так почти объединились, стали еще компактнее благодаря железным дорогам… не успевшие подготовиться видели, что вокруг них сжимаются стальные обручи… Казалось, что каждая страна торопится провозгласить свое право на существование еще до завершения строительства железных дорог с тем, чтобы транспортная система, определявшая политические границы Европы более ста лет, признала ее национальным государством».
В США правительство безвозмездно предоставляло частным железнодорожным компаниям огромные земельные участки. По словам историка Брюса Мазлиша, такая политика объяснялась убежденностью в том, что трансконтинентальные пути сообщения укрепят смычку между атлантическим и тихоокеанским побережьем. Когда был забит золотой костыль, ознаменовавший окончание строительства первой трансконтинентальной магистрали, распахнулись ворота истинно общенационального рынка – интеграция достигла континентального уровня. При этом она раздвинула для национального правительства рамки реального, а не формального контроля. Осуществляя принятые решения, Вашингтон теперь мог быстро отправить войска хоть на другой край континента.
В одной стране за другой начался рост нового мощного образования – нации. Карта мира была поделена на кусочки красного, розового, оранжевого, желтого или зеленого цвета с четко обозначенными границами, и система национальных государств превратилась в одну из ключевых структур цивилизации Второй волны.
Развитием наций двигал все тот же императив индустриализма – стремление к интеграции.
Однако оно не ограничивалось пределами национального государства. Несмотря на всю свою мощь, промышленная цивилизация нуждалась в подпитке извне и не могла выжить, не интегрировав весь остальной мир в единую денежную систему, которую она могла бы контролировать в своих интересах.
То, как эта цель была достигнута, крайне важно для понимания мира, который создаст Третья волна.
Глава 8
Имперский натиск
Ни одна цивилизация, расширяясь, не обходится без конфликтов. Цивилизация Второй волны вскоре перешла в решительное наступление на мир Первой волны, одержала триумфальную победу и навязала свою волю сначала миллионам, потом миллиардам людей.
Разумеется, европейские правители начали создавать обширные колониальные империи задолго до Второй волны – еще с XVI века. Испанские священники и конкистадоры, французские трапперы, английские, голландские, португальские и итальянские авантюристы рыскали по планете, обращали в рабство и уничтожали целые народы, захватывали обширные земли и слали дань на родину своим монархам.
Но в сравнении с тем, что произошло потом, их действия выглядели пустяковой возней.
Богатства, которые первые авантюристы и завоеватели отправляли домой, были, по сути, личной добычей. Она шла на оплату войн и персональной роскоши – зимних дворцов, колоритных зрелищ, неспешного, праздного образа жизни царедворцев. Такое богатство по-прежнему очень мало затрагивало экономику страны-колонизатора, которая в основном оставалась самодостаточной.
Не охваченные денежной системой и рыночной экономикой холопы едва сводили концы с концами на обожженной солнцем земле Испании или мглистых пустошах Англии, ничего не производя или производя очень мало для экспорта. Их продукции не всегда хватало даже для собственного потребления. Кроме того, они не могли рассчитывать на сырье, похищенное или закупленное в других странах. Низы жили своей жизнью. Плоды заморских завоеваний обогащали правящий класс и горожан, но не массу простого люда, тянувшего крестьянскую лямку. В этом плане империализм Первой волны был мелковат по размаху, он еще не интегрировался в экономику.
Вторая волна превратила это воровство по мелочи в солидный бизнес, а мелкий империализм – в крупный.
Новый империализм не довольствовался вывозом нескольких сундуков золота или изумрудов, приправ и шелка. Новый вид империализма начал вывозить селитру, хлопок, пальмовое масло, олово, гуттаперчу, бокситы и вольфрам целыми кораблями. Новый вид империализма выкопал медные рудники в Конго и поставил нефтяные вышки в Аравии. Он высасывал из колоний сырье, обрабатывал его и нередко наводнял колонию готовыми мануфактурными товарами с бешеной наценкой. Другими словами, такой империализм не стоял на периферии, но был встроен в фундамент экономической структуры индустриальной нации, от которого зависели рабочие места миллионов обычных трудяг.
И не только рабочие места. Помимо нового сырья Европа также нуждалась в растущем количестве продуктов питания. По мере того как страны Второй волны обращались к промышленному производству и превращали сельское население в фабричных рабочих, им приходилось импортировать все больше продовольствия – говядины, баранины, зерна, кофе, чая и сахара – из Индии, Китая, Африки, Вест-Индии и Центральной Америки.
В свою очередь росло массовое производство, новые индустриальные элиты нуждались в расширении рынков сбыта и новых сферах вложения капиталов. В 1880–1890-х годах европейские государственные деятели даже не скрывали своих намерений. «Империя – это торговля», – провозгласил английский политик Джозеф Чемберлен. Французский премьер Жюль Ферри высказался еще откровеннее. Франция нуждается, заявил он, в рынках сбыта для нашей промышленности, экспорта товаров и капитала. Страдая от потрясений цикла подъемов и спадов, сталкиваясь с хронической безработицей, европейские лидеры несколько поколений до ужаса боялись, что, если колониальная экспансия прекратится, дома вспыхнет вооруженная революция.
Корни большого империализма, однако, не ограничивались одной экономикой. Свою роль играли стратегические соображения, религиозный пыл, идеализм, дух авантюризма, а также расизм с его слепой верой в превосходство белого человека или европейца. Многие видели в имперских завоеваниях божье предначертание. Слова Киплинга о бремени белого человека выражали сущность европейского миссионерского рвения к распространению христианства и «цивилизации», под которой, естественно, понималась цивилизация Второй волны. Ибо колонизаторы считали даже самые утонченные и развитые цивилизации Первой волны отсталыми и примитивными. Сельские жители, особенно с темным цветом кожи, считались по-детски недалекими. Утверждалось, что они хитры и лживы, ленивы и не умеют ценить жизнь.
Подобные взгляды облегчали силам Второй волны истребление тех, кто стоял у них на пути.
В своей книге «Социальная история пулемета» (The Social History of the Machine Gun) Джон Эллис показывает, что новое, невероятно смертоносное оружие, доведенное до совершенства в XIX веке, поначалу систематически применялось против «туземного» населения, а не белых европейцев, потому что убийство себе подобных с его помощью считалось недостойным занятием. Стрельба по колониальным подданным, напротив, рассматривалась скорее как сафари, чем боевые действия, и следовала иным моральным нормам. «Косить из пулемета ндебеле, дервишей или тибетцев, – пишет Эллис, – считалось скорее немного опасной охотой, чем настоящей военной операцией».
Эта недосягаемая технология доказала свою убийственную эффективность в 1898 году в Омдурмане, городе, расположенном напротив столицы Судана Хартума на другом берегу Нила, когда воины-дервиши под началом Махди были разгромлены английскими войсками, вооруженными шестью пулеметами Максима. По свидетельству очевидца, «наступил последний и самый великий день махдизма… это была не битва равных, а экзекуция». В столкновении пали 28 англичан, оставив на поле боя 1100 трупов дервишей – по 392 мертвых мятежника на каждого погибшего англичанина. «Это событие стало еще одним примером триумфа британского духа и полного превосходства белого человека», – пишет Эллис.
За расистскими воззрениями, за религиозными и прочими оправданиями экспансии англичан, французов, немцев, голландцев и других европейцев по всему миру стояла одинаковая для всех них суровая реальность: цивилизация Второй волны не могла существовать в изоляции. Она отчаянно нуждалась в субсидиях в виде поступающих извне дешевых ресурсов. Но прежде всего она нуждалась в едином, интегрированном рынке, который высасывал бы эти ресурсы.
Бензоколонки в огородах
Стремление к созданию интегрированного мирового рынка основывалось на идее, выраженной Дэвидом Рикардо: принцип разделения труда следует применять не только к фабричным рабочим, но и к целым нациям. В своем классическом сочинении он утверждает, что, если Великобритания будет специализироваться на производстве текстиля, а Португалия – вина, то выиграют обе страны. Обе будут заниматься тем, что лучше всего умеют делать. Поэтому международное разделение труда, назначающее специфические роли различным народам, в конечном счете должно обогатить их всех.
За последующие поколения это поверье обрело монолитность догмы и сохраняется по сей день, но в то же время его последствия частенько упускают из виду. Точно так же, как разделение труда в национальной экономике создало сильную потребность в интеграции и повлекло за собой возникновение элиты интеграторов, международное разделение труда потребовало интеграции во всемирном масштабе и привело к возникновению глобальной элиты – маленькой группы стран Второй волны, которая, по существу, установила господство над всем остальным миром.
Успех движения навстречу единому, интегрированному мировому рынку можно измерить фантастическим ростом мировой торговли после окончательного закрепления Второй волны в Европе. С 1750 по 1914 год объем мировой торговли по некоторым оценкам умножился в пятьдесят раз, поднявшись с отметки 700 млн до почти 40 млрд долларов. Будь Рикардо прав, все участники должны были бы получить от мировой торговли примерно одинаковую выгоду. Но в реальности удобная вера в то, что специализация приносит пользу каждому, была основана на иллюзорном принципе честной конкуренции.
Этот принцип предполагал использование труда и ресурсов с полной отдачей. Влияние угроз политического и военного вмешательства на заключаемые договоры никак не учитывалось. Осуществление сделок предполагало равноправие сторон и приблизительно равные договорные позиции. Другими словами, эта стройная теория учитывала почти все нюансы, кроме реальной жизни.
В действительности же переговоры между купцами Второй волны и людьми из стран Первой волны о поставках сахара, меди, какао и прочих ресурсов часто проходили на неравной основе. По одну сторону стола сидели искушенные в денежных расчетах европейские или американские торговцы, за которыми стояли гигантские компании, разветвленные банковские сети, передовые технологии и мощь национальных государств. По другую можно было увидеть местного правителя или племенного вождя, чей народ только-только подключился к финансовой системе и чья экономика базировалась на мелкотоварном земледелии и сельских ремеслах. С одной стороны – агенты прущей напролом, чужеземной, механически продвинутой цивилизации, убежденной в своем превосходстве и не чурающейся демонстрации своей силы с помощью штыков и пулеметов. С другой – представители мелких племен или княжеств, не достигших уровня нации и вооруженных копьями и луками.
Нередко западники попросту скупали местных правителей или предпринимателей, предлагая взятки или личные льготы в обмен на закабаление местной рабочей силы, подавление сопротивления или переписывание законов в угоду чужеземцам. Захватив колонию, имперская держава часто устанавливала предпочтительные цены на закупку сырья для своих бизнесменов, вводя тарифные барьеры, не позволяющие торговцам из соперничающих стран взвинчивать цены.
При таких обстоятельствах стоит ли удивляться, что промышленный мир мог получать сырьевые материалы или энергетические ресурсы по расценкам намного ниже «справедливой рыночной цены».
Кроме того, цены нередко еще больше искусственно занижались в пользу покупателя по так называемому закону первичной цены. Многие виды сырья, необходимого странам Второй волны, практически не имели никакой пользы для владеющего им населения стран Первой волны. Крестьянам в Африке не нужен хром. Арабским шейхам не было дела до «черного золота», залегавшего в пустыне прямо у них под ногами.
В тех сферах, где прежде не существовало спроса на определенный сырьевой товар, цена, установленная в ходе первичной сделки, зачастую была определяющей. И цена эта часто основывалась не на экономических факторах вроде издержек, прибыли или конкуренции, а на относительном уровне военно-политической силы. При отсутствии активного конкурентного спроса предводитель или племенной вождь, считавший местные ископаемые ничего не стоящими и вдобавок помнящий о перспективе встречи со скорострельными полковыми картечницами, был готов продать ресурсы за бесценок. Такая установленная на низком уровне первичная цена затем определяла цены последующих сделок.
Когда сырье привозили в промышленную страну и превращали в конечный продукт, первичная низкая цена во всех смыслах замораживалась 13. В конце концов мировые цены установились на все сырьевые товары, однако промышленные страны получили выгоду от того, что первичные цены были определены на низком уровне «вне конкуренции». Поэтому, вопреки империалистической риторике о преимуществах свободной торговли и предпринимательства, страны Второй волны извлекали из так называемой «несовершенной конкуренции» огромную разностороннюю выгоду.
Несмотря на разглагольствования и фантазии Рикардо, выгоды от расширения торговли доставались не всем одинаково. В основном доходы текли из карманов обитателей мира Первой волны в карманы обитателей мира Второй волны.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе