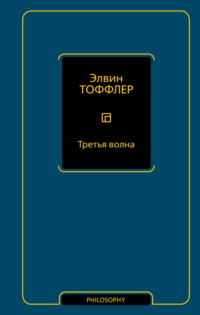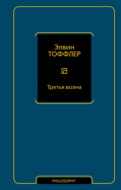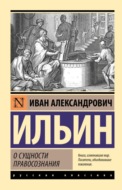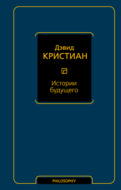Читать книгу: «Третья волна», страница 4
Глава 3
Невидимый клин
Вторая волна подобно ядерной цепной реакции резко разделила две стороны нашей жизни, которые прежде составляли одно целое. Это вогнало гигантский невидимый клин в нашу экономику, наши души и даже наше половое самосознание.
На одном уровне промышленная революция породила удивительно слаженную общественную систему, имеющую свои собственные неповторимые технологии, социальные институты и каналы информации, причем все эти части плотно подогнаны друг к другу. Однако на другом уровне она разорвала базовое единство общества, создав жизненный уклад, полный экономического давления, социальных конфликтов и психологического дискомфорта. Мы сможем в полной мере оценить воздействие начавшей преображать нас Третьей волны, только когда поймем, как этот невидимый клин повлиял на нашу жизнь в эпоху Второй волны.
Две стороны, на которые рассекла жизнь человека Вторая волна, – это производство и потребление. Мы, например, привыкли считать себя или производителями, или потребителями. Так было не всегда. До начала промышленной революции огромная доля продуктов питания, предметов и услуг, производимых людьми, потреблялась самими производителями, членами их семей или крохотной элитой, умудрявшейся выскребать излишки для собственных нужд.
Большинство аграрных обществ в основном состояли из крестьян, живущих небольшими полуавтономными общинами. Они прозябали на скудной диете, которой едва хватало, чтобы не умереть с голоду и не навлечь на себя гнев хозяев жизни. У них не было возможности запасать еду на долгое время или дорог, чтобы привезти свою продукцию на отдаленные базары. Они также хорошо понимали, что, если нарастить урожай, рабовладелец или феодал отберет излишки, и поэтому не имели стимулов к улучшению технологий или увеличению производства.
Торговля, разумеется, существовала. Нам известно, что небольшое число смелых купцов возили товары за тысячи миль на верблюдах, повозках или лодках. Мы также знаем о возникновении городов, которые зависели от поставок продовольствия из сельской местности. В 1519 году, когда испанцы высадились в Мексике, они были поражены, увидев в Тлателолько тысячи людей, покупающих и продающих самоцветы, драгоценные металлы, рабов, сандалии, ткани, шоколад, веревки, шкуры, индюшек, овощи, кроликов, собак и посуду тысячи видов. «Газеты Фуггеров», рукописные депеши, составлявшиеся в XVI и XVII веках для немецких банкиров, дают красочное представление о размахе торговли в эту эпоху. Письмо из Кочи в Индии подробно повествует о злоключениях европейского купца, прибывшего с пятью кораблями для закупки перца и его доставки в Европу. «Хранение перца – доходное дело, – пишет он, – но оно требует большого усердия и настойчивости». Этот же купец возил на европейский рынок гвоздику, муку, корицу, мускатный орех и его шелуху, а также различные лекарственные препараты.
Тем не менее вся эта торговля была исторически ничтожным элементом по сравнению с объемами продукции, производимой рабами-аграриями или крепостными для собственного потребления. Согласно Фернану Броделю, непревзойденному исследователю истории Средневековья, в конце XVI века весь Средиземноморский регион от Франции и Испании до Турции обеспечивал существование 60–70 млн человек, из которых 90 % кормились с земли, производя очень незначительное количество товаров на продажу. По данным Броделя, 60 %, а то и 70 % всего, что производилось в Средиземноморье, никогда не попадало на рынок. И если так было на берегах Средиземного моря, то что тогда говорить о Северной Европе, где каменистая почва и длинные холодные зимы еще больше затрудняли для крестьян получение от земли каких-либо излишков?
Нам будет легче понять Третью волну, если принять во внимание, что экономика Первой волны до начала индустриальной революции состояла из двух секторов. Люди в секторе А производили продукцию для собственных нужд. Сектор Б производил товары для продажи или обмена. Сектор А был огромен, сектор Б – очень мал. Поэтому для большинства населения производство и потребление сливались в одну неделимую функцию жизнеобеспечения. Это единство было настолько полным, что древние греки, римляне и жители средневековой Европы не видели между ними никаких различий. У них и слова такого, как «потребитель», не было. В эпоху Первой волны от рынка зависела лишь крохотная часть населения, подавляющее большинство людей в нем не участвовало. Говоря словами историка Р. Г. Тоуни, имущественные сделки совершались на задворках мира натурального хозяйства.
Вторая волна резко изменила положение. Вместо самодостаточности отдельных людей и общин она впервые в истории создала ситуацию, когда подавляющее количество продуктов питания, товаров и услуг стало производиться для продажи, бартера или обмена. Вторая волна фактически положила конец производству предметов для собственного потребления производителем и членами его или ее семьи и создала цивилизацию, в которой никто, даже фермер, больше не мог полагаться только на самого себя. Все стали зависеть по части продовольствия, товаров и услуг от других людей.
Короче говоря, индустриализм сломал единство производства и потребления и развел производителя и потребителя в разные стороны. Единая экономика Первой волны превратилась в расколотую надвое экономику Второй волны.
Значение рынка
Последствия этого раскола колоссальны. Мы по сей день не до конца их понимаем. Во-первых, рынок, который в прошлом был несущественным и второстепенным явлением, переместился в самую гущу жизни. Экономика стала рыночной. Причем случилось это и в капиталистической, и в социалистической индустриальной экономике.
Западные экономисты склонны считать рынок чисто капиталистическим феноменом и нередко используют этот термин как синоним «экономики прибыли». Однако исторические сведения говорят, что обмен, то есть рынок, возник раньше прибыли, а значит, не зависит от нее. Рынок, если называть вещи своими именами, это не более чем обменная сеть, своего рода АТС, только последняя распределяет по адресатам звонки, а рынок – товары и услуги. Рынок не исконно капиталистическое явление. Такая АТС одинаково необходима и социалистическому индустриальному обществу, и промышленному обществу, ориентированному на прибыль 4.
Короче говоря, с наступлением Второй волны, как только целью производства стало не личное потребление продукции, а обмен, немедленно возникла потребность в механизме, который бы такой обмен обеспечивал. Рынок не мог не возникнуть. Но рынок не вел себя пассивно. Историк-экономист Карл Поланьи показал, что рынок, который в ранних обществах обслуживал общественные, культурные и религиозные нужды, в индустриальном обществе начал сам задавать цели. Большинство людей засосало в товарно-денежные отношения. Коммерческие ценности стали играть центральную роль, экономический рост (измеряемый размерами рынка) превратился в главную цель государства, как капиталистического, так и социалистического.
А все потому, что рынок – это экспансионистский институт с положительной обратной связью. Подобно тому как раннее разделение труда вызвало появление коммерции, само существование рынка повлекло за собой дальнейшее разделение труда и резкое повышение его производительности. Начался процесс самоусиления.
Взрывная экспансия рынка способствовала самому быстрому в истории росту уровня благосостояния.
Однако государства Второй волны в своей политике все больше сталкивались с новыми конфликтами, вызванными тем, что производство и потребление были теперь разделены. Акцент марксизма на классовой борьбе систематически затушевывал гораздо более важный и глубокий конфликт между требованиями производителей (как рабочих, так и управленцев) более высокой заработной платы, прибыли и льгот, с одной стороны, и ответными требованиями потребителей (иногда тех же самых людей) более низких цен, с другой стороны. Этот конфликт – тот балансир, на котором ходят вверх-вниз качели экономической политики.
Будь то рост движения в защиту прав потребителей в США, недавние восстания в Польше против объявленного государством повышения цен, бесконечные битвы в Великобритании вокруг политики в области цен и доходов, смертельная идеологическая борьба в Советском Союзе по вопросу, что важнее – тяжелая промышленность или потребительские товары, все это является аспектами глубокого конфликта, вызываемого в любом обществе, как капиталистическом, так и социалистическом, размежеванием производства и потребления.
Это размежевание пронизывает не только политику, но и культуру, оно породило наиболее меркантильную, алчную, коммерциализированную и расчетливую цивилизацию в человеческой истории. Необязательно быть марксистом, чтобы согласиться с известным обвинением «Коммунистического манифеста» в том, что новое общество «не оставило между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного чистогана». Межличностные отношения, семейные связи, любовь, дружба, контакты с соседями и внутри общины – все это пропиталось и искажено духом коммерческой наживы.
Маркс был прав, когда выявил этот процесс дегуманизации межличностных связей, но был не прав в том, что ставил его в вину капитализму. Разумеется, он писал свои труды в эпоху, когда индустриальное общество можно было наблюдать только в его капиталистической форме. Сегодня, накопив более чем полувековой опыт сосуществования с индустриальным обществом, основанным на принципах социализма или, по крайней мере, государственного социализма, мы уже знаем, что агрессивное стяжательство, подкуп и сведение отношений между людьми к бездуховному материализму отнюдь не является монополией системы, основанной на получении прибыли.
Ибо навязчивая озабоченность деньгами и вещизм являются отражением не капитализма или социализма как таковых, а индустриализма. Таково влияние центральной роли рынка во всех обществах, где производство отделено от потребления и где каждый человек получает предметы первой необходимости от рынка, а не добывает их с помощью личных навыков.
В таком обществе независимо от его политического устройства продаются и покупаются, служат предметом торга или обмена не только товары, но и труд, идеи, произведения искусства и человеческие души. Западный агент по закупкам, кладущий в карман незаконные комиссионные, мало чем отличается от редактора советского издательства, берущего на лапу от автора за то, что утверждает его книгу в печать, или сантехника, требующего бутылку водки за работу, за которую он и так получает зарплату. Француз, англичанин или американец, который пишет книги или рисует картины исключительно за деньги, ничем не отличается от польского, чешского или советского новеллиста, художника или драматурга, обменивающего свою свободу творчества на экономические выгоды вроде дачи, льгот или возможности приобрести новую машину и другие труднодоступные товары.
Когда производство отделено от потребления, подобная коррупция неизбежна. Потребность в рынке для установления контакта между потребителем и производителем для направления товаров от производителя к потребителю сама по себе неизбежно дает лицам, контролирующим рынок, запредельную власть, какой бы риторикой они ее ни прикрывали и как бы ни оправдывали.
Эта разделенность производства и потребления, ставшая определяющей чертой всех промышленных обществ Второй волны, затрагивает также нашу психику и наши представления о личности. Поведение стало рассматриваться как серия транзакций. Вместо общества, основанного на дружбе, родстве, лояльности племени или феоду, в фарватере Второй волны возникла цивилизация, опирающаяся на фактические или предполагаемые договорные связи. Даже мужья и жены нынче рассуждают о брачных контрактах.
Раскол между этими двумя ролями – производителя и потребителя – в то же время привел к раздвоению личности. Одного и того же человека, которого (в роли производителя) семья, школа и начальство учили откладывать удовлетворение желаний на потом, соблюдать дисциплину, держать себя в руках, сдерживать свои порывы, проявлять послушание, работать в команде, учат (в роли потребителя) стремиться к немедленному исполнению желаний, быть гедонистом, не задумываться о будущем, пренебрегать дисциплиной, гоняться за личными удовольствиями, другими словами, быть совершенно противоположной личностью. Особенно на Западе, где на потребителя нацелены стволы рекламы крупного калибра, его побуждают жить в долг, делать спонтанные покупки, получать удовольствия в кредит и, действуя таким образом, выполнять свой патриотический долг – заставлять шестеренки экономики вращаться.
Размежевание полов
Наконец, все тот же гигантский клин, разъединивший в обществах Второй волны производителя и потребителя, разделил надвое и характер труда. Этот раскол оказал огромное влияние на семейную жизнь, социальные роли мужчин и женщин и духовную жизнь человека.
Одним из типичных стереотипов индустриального общества в отношении полов является определение трудовой ориентации мужчин как «объективной», а женщин – как «субъективной». Если в этом и есть крупица истины, то она заключается не в некой неизменной биологической данности, а в психологических последствиях воздействия невидимого клина.
В обществах Первой волны почти вся работа выполнялась в поле или в домашнем хозяйстве, вся семья вкалывала сообща как единая экономическая ячейка и производимая продукция потреблялась почти полностью в деревне или усадьбе. Трудовая и домашняя жизнь были слиты воедино и переплетены между собой. И поскольку каждая деревня в основном была самодостаточна, успех одной группы крестьян никак не зависел от того, как обстояло дело у крестьян в соседних деревнях. Даже внутри одной производственной ячейки работники выполняли целый ряд различных обязанностей, подменяя и замещая друг друга, когда этого требовали время года, болезнь члена семьи либо личный выбор. Доиндустриальное разделение труда оставалось в высшей степени примитивным. Как следствие, труд в аграрных обществах Первой волны характеризовался крайне низким уровнем взаимозависимости.
Вторая волна, прокатившаяся по Великобритании, Франции, Германии и другим странам, перенесла труд с полей на фабрики и подняла взаимозависимость на гораздо более высокий уровень. Отныне работа требовала коллективных усилий, разделения труда, координации и сочетания большого числа трудовых навыков. Успех зависел от тщательно спланированных совместных действий тысяч рассредоточенных работников, многие из которых никогда не встречались друг с другом. Неспособность крупного сталелитейного предприятия или стекольной фабрики вовремя поставить запасные части автомобильному заводу при некоторых обстоятельствах могла вызвать серьезные потрясения в целой отрасли или региональной экономической зоне.
Столкновение двух видов труда – с низкой и с высокой степенью взаимозависимости – породило серьезный конфликт в области распределения функциональных обязанностей, разделения сфер ответственности и вознаграждения за труд. Владельцы первых мануфактур, например, жаловались на безответственность рабочих – последних мало заботила эффективность предприятия, они уходили на рыбалку, когда в них больше всего нуждались, дурачились на рабочем месте или являлись на работу пьяными. Большинство промышленных рабочих начального периода были, по сути, бывшими крестьянами, привыкшими к низкому уровню взаимозависимости и не понимавшими своей роли в совокупном производственном процессе и того, каким образом их «безответственность» влияет на сбои, поломки и отказы оборудования. К тому же большинство из них получали мизерные зарплаты, не вызывавшие особого желания напрягаться.
В столкновении этих двух систем организации труда тон начали задавать новые формы. Производство все больше перемещалось на фабрики и в конторы. Села теряли население. Миллионы работников вливались в сети, имевшие высокую степень взаимозависимости. Труд Второй волны оттеснил на второй план формы труда, ассоциировавшиеся с Первой волной, которые стали считаться отсталыми.
Однако победа взаимозависимости над самодостаточностью не была абсолютной. В одном месте старый тип труда никак не желал исчезать. Этим местом был семейный очаг.
Любая семья оставалась децентрализованной ячейкой, вовлеченной в процесс биологического воспроизводства, воспитания детей и передачи культурного наследия. Когда одна семья не справлялась с воспроизводством или плохо воспитывала детей, не помогая им занять должное место в системе труда, ее неудачи не влияли на выполнение аналогичных задач соседней семьей. Другими словами, домашний труд оставался деятельностью с низкой степенью взаимозависимости.
Домохозяйка, как и раньше, продолжала выполнять ряд важных экономических функций. Она «производила». Но она производила для сектора А, то есть для удовлетворения нужд своей семьи, а не для рынка.
В то время как муж, как правило, покидал дом, чтобы работать в экономике напрямую, жена оставалась дома и вносила вклад в экономику косвенно. Муж отвечал за исторически более прогрессивную форму труда, жена, оставаясь дома, занималась трудом устаревшего, отсталого типа. Получалось, что муж двигался в будущее, а жена застревала в прошлом.
Такое разделение труда вызывало раздвоение личности и духовной жизни. Общественный, коллективный характер труда на фабрике или в конторе, потребность в координации и интеграции делали акцент на объективном анализе и объективных отношениях. Мужчин, которых с детских лет готовили к работе на предприятии, где они погружались в мир взаимозависимости, побуждали быть «объективными». Женщин, которых с рождения готовили к таким задачам, как воспроизводство потомства, воспитание детей и нудной работе по дому, в большой степени выполняемой в обстановке социальной изоляции, обучали быть «субъективными» и нередко считали неспособными к рациональному, аналитическому мышлению, считавшемуся признаком объективности.
Неудивительно, что женщин, покинувших относительную изоляцию домашнего быта, чтобы включиться во взаимозависимое производство, часто обвиняли в утрате женственности, холодности, черствости и… объективности.
Более того, различия между полами и половые стереотипы обострялись за счет ошибочного отождествления мужчин с производством, а женщин – с потреблением, как если бы мужчины не потребляли, а женщины не участвовали в производстве. Короче говоря, хотя женщины терпели угнетение задолго до того, как Вторая волна начала свое движение по планете, современные баталии между полами можно во многом проследить до конфликта двух видов труда и даже еще дальше – до разъединения производства и потребления. Раскол в экономике углубил размежевание между полами.
* * *
В итоге мы видим, что, как только был вбит невидимый клин, отделивший производство от потребления, последовал целый ряд глубоких перемен: чтобы связать производство и потребление, потребовалось формирование и расширение рынка; возникли новые социально-политические конфликты; по-новому определились роли полов. Но раскол проник намного глубже. Он означал, что все общества Второй волны должны были действовать в одинаковой манере и отвечать определенным базовым требованиям. Приносило ли производство прибыль или нет, находились ли «средства производства» в руках частных владельцев или государства, являлся ли рынок «свободным» или «плановым», использовалась ли капиталистическая или социалистическая риторика, не играло никакой роли.
Всякий раз, когда производство осуществлялось для обмена, а не личного пользования, когда товары поступали на рынок – своеобразную АТС, в силу вступали определенные принципы Второй волны.
Достаточно идентифицировать эти принципы, и вся динамика промышленных обществ предстает как на ладони. Более того, появляется возможность угадать образ мыслей человека Второй волны, потому как эти принципы помогли сформировать основные правила – код поведения, характерный для цивилизации Второй волны.
Глава 4
Взлом кода
Любая цивилизация имеет свой тайный код – набор правил или принципов, которые повторяются во всех ее видах деятельности. По мере того как индустриализм шествовал по планете, все больше проявлялась его скрытая схема. В нее входят шесть взаимосвязанных принципов, программирующих поведение миллионов людей. Эти принципы – естественное следствие разъединения производства и потребления, и влияют они на все стороны нашей жизни от секса и спорта до работы и участия в войнах.
Вокруг этих шести принципов вращаются большинство нынешних конфликтов в школах, компаниях и правительственных учреждениях, возникающих из-за того, что люди Второй волны инстинктивно применяют и отстаивают их, а люди Третьей волны бросают им вызов и ведут с ними борьбу. Однако не будем забегать вперед.
Этот существенный факт настолько часто обходят вниманием, а понятие рынка настолько тесно связывают только с одним его вариантом (моделью, основанной на прибыли и частной собственности, при которой цены отражают спрос и предложение), что в словаре экономической науки просто невозможно найти термин, который отражал бы множество форм рынка.
На этих страницах понятие «рынок» используется во всем его многообразии, а не в привычном выхолощенном виде. Термины, однако, не влияют на главный момент: когда производитель и потребитель отделены друг от друга, для взаимодействия между ними необходим какой-нибудь механизм. Именно этот механизм независимо от его формы я и называю рынком.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе